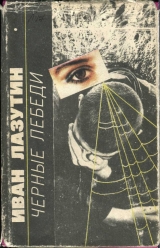
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
V
На Кузнецкий мост Шадрина привезли в крытой служебной, машине в сопровождении пожилого милиционера, который за всю дорогу не обмолвился ни одним словом со своим не попадавшим зубом на зуб пассажиром. Привез и сдал дежурному. Дежурный кому-то позвонил, и через несколько минут в зал приемной вошел тот самый майор, с которым Шадрин встречался вчера. Он посмотрел на Дмитрия с нескрываемым презрением: слишком непростительной была вина человека, которому доверили серьезное дело и который не оправдал этого доверия.
– Поздравляю вас, Шадрин.
Дмитрий молчал.
– Что же вы молчите?
– Мне нечего сказать в оправдание.
– Берите бумагу, ручку и… пишите. Опишите все подробно, точно, конкретно.
– Я не все помню, товарищ майор, – слабым голосом проговорил Шадрин.
– Опишите, что помните. Закончите – скажите дежурному, он мне позвонит.
Майор что-то записал на листке бумаги, потом поднял на Шадрина усталые глаза:
– Никак не думал, что это может сделать коммунист, окончивший университет. Да еще фронтовик, разведчик… Позор! – сказал и, бросив на Шадрина уничтожающий взгляд, скрылся за низенькой дверью.
Шадрин некоторое время сидел с закрытыми глазами, склонившись над стопкой бумаги. Перед его глазами, как тяжелый, длинный сон, проплывала вчерашняя встреча с иностранцами. Проплывала до мельчайших подробностей омерзительной драки.
Больше часа, искурив полпачки папирос, просидел он над объяснительной запиской. Грязные листы переписал дважды. Как и вчера утром, мимо, неслышно ступая, проходили люди в штатском и скрывались за дверью, куда ушел майор.
Услышав за спиной чей-то рокочущий басок, Шадрин повернулся на голос и увидел высокого военного моряка с погонами контр-адмирала. С виду ему было не больше пятидесяти.
Дежурный старшина удостоверение адмирала читал внимательно, с каким-то особым почтением. Потом позвонил по внутреннему телефону:
– Товарищ майор, к вам пришел контр-адмирал Радыгин. Говорит, что о встрече вы условились, – старшина несколько раз кивнул головой и бросил в трубку: – Хорошо, понял вас, – и протянул Радыгину удостоверение: – К вам сейчас выйдут.
Дмитрий впился взглядом в лицо адмирала. «Он!.. Ее отец. Такой же, во всю щеку румянец, тот же разлет бровей. Как он взволнован! Значит, и Надю оплели этой паутиной…» – подумал Шадрин.
Не прошло и минуты, как в приемной появился майор. Он подошел к Радыгину и крепко пожал руку адмиралу.
– Прошу вас, – майор показал на дверь, ведущую в полуосвещенный коридор.
Когда майор и контр-адмирал удалились из приемной, Дмитрий закурил и внимательно перечитал объяснительную записку.
И снова мимо него проходили сотрудники министерства. Лица у всех сосредоточенные, по-деловому строгие, все спешили сделать что-то очень важное, неотложное.
Так прошло полчаса. От вчерашних ресторанных перегрузок поташнивало. Счет времени был потерян. Спросить у старшины – неудобно. Его взгляд, несколько раз скользнувший по Дмитрию, не показался располагающим к разговору.
Но вот наконец в приемной появились контр-адмирал и майор. Теперь уже не молочный румянец алел на мужественном лице Радыгина, а багровые пятна пламенели на нем. Майор проводил его до выхода и, как при встрече, крепко пожал ему руку и на прощание, стараясь успокоить взволнованного контр-адмирала, сказал:
– Думаю, все утрясется. Молодо – зелено…
Улыбку с лица майора смахнуло точно нахлестом ветра, когда он подошел к Шадрину:
– Пойдемте.
И снова тот же небольшой кабинет, где Дмитрий был вчера утром. Фанерованный под дуб стол, то же кресло, три стула, на стене – портрет Дзержинского.
Объяснительную записку майор читал сосредоточенно, как и вчера, некоторые фразы подчеркнул красным карандашом. А когда закончил, поднял на Шадрина взгляд, в котором трудно было понять: доволен он написанным или не доволен.
– Вы ударили его в лицо. Из-за такого хулиганства иногда начинаются международные скандалы. Не исключено, что завтра же зарубежные газеты будут трубить о том, как русские среди бела дня избивают невинных иностранных туристов.
– Я не выдержал.
– Потому что безобразно много пили.
– Может быть, – после некоторого молчания Шадрин спросил: – Я арестован?
– Пока свободны.
Дмитрий вскинул голову:
– Я его ударил в общественном месте. Меня должны судить.
– Вас могут судить… – на слове «могут» майор сделал ударение. – Но это в том случае, если ваши вчерашние друзья возбудят против вас уголовное дело. Может случиться, что вы отделаетесь легким ушибом.
– То есть?
– Разберут по партийной линии.
– Но это же будет казнью.
Майор пожал плечами:
– Вы это заслужили.
– Скажите, товарищ майор, если мне придется объяснять свое поведение на бюро и на партсобрании, могу я сослаться на вас, когда речь зайдет о вчерашнем вечере?
– Что вы имеете в виду?
– То, что на вторую встречу с иностранцами я пошел после того, как уведомил вас об этом? Я не нарушу принцип работы органов?
Майор встал, прошелся по кабинету. Заметно было, что он раздражен, но сдерживает себя.
– Как коммунист вы должны знать, что от партии у органов государственной безопасности нет ни тайн, ни секретов. Мы работаем под руководством Коммунистической партии. А поэтому на всех партийных инстанциях, где будут разбирать ваше персональное дело, – а его, очевидно, будут разбирать, – вы должны говорить только правду.
– Помогите мне, товарищ майор, – еле слышно проговорил Шадрин.
Майор закурил.
– Я все готов понять: да, вас глубоко оскорбили, вас унизили, но ведь вы должны были помнить, что за люди сидят с вами за одним столом. Каждое слово, каждый жест, малейший поступок вы должны были взвешивать, анализировать, соизмерять их с задачей, которая стояла перед вами. А вы… – майор вздохнул: – Трудно вам придется, товарищ Шадрин, выходить из этого положения. Вас может спасти разве только лишь состояние вашего здоровья и та психологическая ситуация, в которую вы были поставлены обстоятельствами. Разумеется, если захотят глубоко вникнуть в эти обстоятельства.
– А зачем я пошел к ним на второй день? – спросят меня.
– Все объяснимо. Вы хотели вернуть иностранцам деньги, которые всучили вам пьяному. Это вас глубоко оскорбило. Вернув деньги, вы грубо, хулигански удовлетворили вашу оскорбленную честь. Тут все логично. И мы тут ни при чем. Вы точно так же могли поступить, не побывав у нас.
– Понятно… – еле слышно проговорил Дмитрий.
– Больше вы нам не нужны. У вас, Шадрин, слабые нервы.
– Я могу идти? – тихо спросил Дмитрий.
– Да! – ответил майор.
Дмитрий встал и еще раз пристально посмотрел на майора. «Эх, товарищ майор, хороший ты человек!.. Говоришь – слабые нервы. А знаешь ли ты: если по этим нервам, которые когда-то были крепкими, как стальные морские тросы, с утра до вечера бить кувалдой, то и они могут лопнуть? Всему есть предел…»
Уже в дверях Шадрин повернулся и глухо произнес:
– Я дорого отдал бы, чтоб искупить позор своего вчерашнего поступка.
Дмитрий вышел из кабинета, прошел узким, тускло освещенным коридором, миновал дежурного старшину и очутился на улице.
Вчера он вышел из приемной с ощущением, будто он ядро в заряженной пушке. Сегодня сознание непоправимости ошибки, предчувствие чего-то неизбежного, недоброго угнетало, леденило душу.
«Человек номер семьдесят восемь, – всю дорогу не выходило из головы Шадрина. – Как обо всем рассказать Ольге?..»
Но Ольги дома не было. Достав из-под крылечка ключи, он открыл дверь. Разулся. В голове стоял монотонный звон. Этот звон чем-то напоминал Дмитрию гудение проводов в осенние ветреные ночи. Гудение тоскливое, навевающее на сердце кручину и необъяснимый страх.
Не раздеваясь, Дмитрий лег на диван и укрылся стареньким суконным одеялом, купленным два года назад на Тишинском рынке. По телу разлился неодолимый озноб. Перед глазами стояло лицо Гарри. Его ослепительная улыбка, казалось, казнила. «Эх, Митя, Митюха!.. До чего же вы, русские, любите ловить шпионов».
Сон пришел незаметно, как-то сам собой, как на смену дня приходит ночь, как ночь сменяется днем. Сколько спал Дмитрий, да и по-настоящему ли спал, – он не знал. Это уже потом, проснувшись, от давно мучившего его сновидения, он поймет, что все-таки спал. Спал бы и дольше, если бы из развалин кирпичного здания в него не целился фашист из фаустпатрона. На этот раз из-под обреза козырька каски Дмитрий отчетливо видел лицо человека, кто в него целился. Целился и улыбался своей белозубой, сверкающей улыбкой. Это был Гарри… Шадрин его узнал сразу. Но почему фаустпатрон начал строчить, как пулемет?.. Ведь он стреляет по принципу ракетного оружия.
Дмитрий проснулся. Однако звуки стрельбы из пулемета не утихали. Ему стало страшно: «Неужели схожу с ума?..» Одним рывком он сбросил с себя одеяло и поднялся с дивана. За окном кто-то стоял и барабанил пальцами по стеклу. Дмитрий отодвинул шторку и удивился: в палисаднике, взобравшись на завалинку, стоял Терешкин.
– Ну, брат, ты и дрыхнешь! Хоть из пушки стреляй! – крикнул он в открытую форточку.
Шадрин вышел в сени, открыл дверь. Вид Терешкина был непонятен Дмитрию. Заискивал всем: ужимками лица, взглядом, улыбкой… Терешкин остановился у порога и старательно вытер о половичок ноги. На лице его была разлита такая почтительность, что Дмитрий никак не мог осмыслить этой неожиданной перемены в обращении к нему со стороны своего непосредственного начальника. А поэтому спросил:
– Что случилось? – но тут же подумал: «За мной пришел. Пришел на казнь вести. Ну что ж, пойду. Там, наверное, по всему институту раззвонили, что я ударил иностранца».
Терешкин прошел к столу и сел на табуретку:
– Могу вас поздравить.
«Почему «вас»? Всего два дня назад ты хлопал меня по плечу и обращался ко мне на «ты», – пронеслось в голове Шадрина.
– С чем вы пришли меня поздравить? – спросил Дмитрий.
– С новой должностью.
– С какой?
– Заведующего кабинетом.
– А вы?
– Снова в лаборанты.
– Постойте, постойте… Ничего не понимаю… – Шадрин растерянно смотрел на Терешкина: – Вы что, шутите?
– Почему шучу? Так настоял профессор Костров. Сам в райком ходил.
– Кто вас ко мне послал?
– Костров. Он решил, что вы заболели. Послал меня проведать и сообщить вам приятную новость.
– Спасибо… – Шадрин опустился на диван, пока еще до конца не осознавая случившееся. – Большое спасибо… Передайте профессору, что дня три-четыре я не смогу выйти на работу. Я болен, – сказав это, Дмитрий дал понять Терешкину, что его уже утомил разговор. Терешкин попрощался и вышел.
За дощатой стеной пьяный сосед в третий раз проигрывал одну и ту же патефонную пластинку:
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело…
Пластинка была старая. На середине игла застревала в заезженной борозде, и несколько раз повторялось одно и то же слово. Время от времени было слышно, как, пьяно всхлипывая, сосед хрипловато подтягивал. Он недавно похоронил жену.
Шадрин лег. Печальная песня и горькие всхлипы соседа еще больше надрывали душу. Стенные ходики равнодушно отсчитывали время. Дмитрий старался представить себе, что будет в институте, когда докатится весть о его вчерашнем позоре? Накрылся одеялом. Пытался заснуть, чтобы хоть во сне убежать от дум, которые теснили голову. На душе было тяжко. Первый раз в жизни им владело мучительное желание уснуть и больше не просыпаться…
VI
Семь дней пролежал Дмитрий в постели. Участковый врач, выслушав больного, сказал, что у него грипп. Велел отлежаться. Но Дмитрий знал, что это был не грипп. А что – не хотел говорить ни врачу, ни Ольге. Он знал: если дня через три-четыре не пойдет на поправку, то болезнь может принять серьезный оборот. Последний раз, когда он выписывался из больницы, лечащий врач предупредил: если случится, что неожиданно начнет подниматься температура и он почувствует жгучую резь в груди в том самом месте, где оперирована аневризма, – нужно немедленно ложиться в клинику, иначе могут быть печальные последствия. Что это за печальные последствия – Дмитрий знал. «Летальный исход…» Когда Шадрин впервые услышал эту красивую фразу, он не предполагал, что на простом языке она означает: «Смерть».
«Только бы все одним ударом! Быстрей!.. Чтоб не отравлять жизнь другим».
Но опасность миновала. На четвертый день Дмитрий встал и почувствовал, что боль в груди утихает, силы прибывают.
Похудевший, осунувшийся, он явился на работу. В коридорах стояла непривычная тишина. Почти все студенты и аспиранты разъехались по заводам на практику, многие профессора-специалисты были откомандированы на Волго-Дон.
Шадрин поднялся на кафедру. В кабинете сидел Костров. Около него, как всегда, крутился услужливый Терешкин. С порога Дмитрий понял по глазам профессора и Терешкина, что им все известно. На его приветствие Костров ответил суровым небрежным кивком и принялся читать журнальную статью, в которой он отдельные строки подчеркивал и делал на полях заметки.
– Николай Варлампьевич, я должен с вами поговорить, – тихо сказал Шадрин.
– Я занят. Поговорите с Терешкиным.
Крещенским холодом повеяло на Шадрина от этих слов. Он сел за лаборантский стол, на котором возвышалась груда запыленных папок, и не знал, за что приняться. Чтобы не нарушить тишины кабинета и не мешать профессору работать, Терешкин молча положил перед Дмитрием приказ директора о его увольнении. Приказ был написан в смягченных тонах: «…Освобождается от должности заведующего кабинетом в связи с тем, что данная работа не соответствует специальности юриста».
Шадрин грустно улыбнулся:
– Сколько же я ходил в заведующих?
Терешкин приложил указательный палец к губам и поманил Шадрина в коридор.
Они вышли. Закурили. Коридор был пуст.
– Когда об этом… узнали в институте?
– Ты о чем – о драке или?..
– О том и другом.
– Вчера вечером. Был у нас инструктор из райкома. Ларцеву и Кострову давал такого дрозда, что те только кряхтели да потели, – Терешкин говорил тихо, с оглядкой. Делая глубокие затяжки папиросой, он сочувствовал: – Да, попал ты, брат, в карусель. Говорят, дело твое – табак…
– Когда будут разбирать на бюро?
– В институте не будут. Вынесли сразу на бюро райкома. Как особый случай, – Терешкин боязливо огляделся вокруг и, поджав губы, развел руками: – Сам понимаешь: статейку пришивают незавидную…
Не успел Терешкин сказать что-то еще, как дверь кабинета открылась и на пороге показался Костров. Он куда-то спешил. На ходу сказал:
– Сегодня и завтра меня не будет. К пятнице приготовьте сведения о работе с аспирантами, – он уже сделал несколько шагов по направлению к лестнице, но на какое-то мгновение замешкался, потом остановился: – А я, признаться, от вас, товарищ Шадрин, не ожидал этого.
– Прошу вас, выслушайте меня, Николай Варлампьевич… – Шадрин приложил к груди руку: словно ему было больно произносить каждое слово.
– Я сейчас очень занят. Расскажите обо всем Терешкину, – он спустился по лестнице.
Шадрин еще долго слышал его тяжелые, упругие шаги.
Дмитрий зашел в партбюро, чтобы узнать, когда и куда ему явиться. Дежурный член бюро внимательно выслушал его и, подозрительно осмотрев с головы до ног, сказал, что ему необходимо сегодня же явиться к инструктору райкома партии.
В бухгалтерии Шадрину сказали, что расчет он может получить хоть сейчас: деньги уже выписаны.
– Подождите несколько минут в коридоре, кассир сейчас придет.
Дмитрий поблагодарил и вышел. «Все все знают… О драке даже не говорят. Так, наверное, смотрят на предателей и на прокаженных». Он не успел выкурить папиросу, как пришел кассир. Во взгляде кассира уловил любопытство: «Вон ты какой!..»
…Шел проливной дождь. Он начался как-то сразу, неожиданно. Во дворе института ни души. Дмитрий вышел под дождь. Вахтер в проходной будке остановил его и сказал, что по приказанию директора он должен сдать пропуск.
– Мне еще нужно быть в институте. У меня здесь все документы.
– Придете за документами – выпишем разовый.
Шадрин сдал пропуск. «Какая оперативность!..» Он вышел на улицу и потонул в густой сетке дождя. Шел неторопливо, заложив за спину руки. Такой походкой и с таким видом ходят люди, которым уже больше некуда спешить.
VII
Дмитрию казалось, что никогда так медленно не тянулось время, как в этот томительный час ожидания. Приемная секретаря райкома просторная, чистая. По бокам широких окон тяжелыми фалдами спадали светлые портьеры. В углу возвышались две стройные узколистные пальмы. Посредине приемной стоял огромный круглый стол, покрытый бархатной скатертью. От кабинета первого секретаря к кабинету второго секретаря пролегла широкая ковровая дорожка. В дубовом паркетном полу, натертом до блеска, отражались пальмы и переплеты окон.
Все, кто входил в приемную и обращался к секретарше, сидевшей в окружении четырех телефонов, говорили тихо, почти шепотом, словно на кинофабрике, когда висит светящаяся табличка: «Тишина! Идет съемка!». Во всем чувствовалась сдержанность и деловитость.
Время от времени мимо Шадрина уверенной походкой проходили работники райкома. Они без доклада открывали тяжелую дверь первого секретаря и скрывались в темном тамбуре.
Как только где-то рядом со столом секретарши раздавался приглушенный звонок, на который она вставала и торопливо шла туда, где заседает бюро, сердце Шадрина делало раскатистый, гулкий толчок. Секретарша выходила и объявляла фамилию очередного товарища, вызванного на бюро.
Перед заседанием Шадрин сосчитал: вызванных на бюро было семь человек. Все ждали, когда секретарша назовет очередную фамилию. Шадрина все не вызывали. Уже давно ушел полковник в отставке, который пришел после него. Вышел и тот грузный мужчина в кителе и хромовых сапогах, которого по виду Шадрин принял за хозяйственника. Со счастливым сиянием в глазах попрощалась с секретаршей молодая женщина, по всей вероятности только что принятая в партию.
Из вызванных на бюро в приемной остались двое.
На улице уже зажглись огни. Вспыхнула зеленая настольная лампа и на столе секретарши. Вот снова за ее спиной раздался тягучий, низкого тона сигнал вызова. «На этот раз меня», – подумал Шадрин и привстал.
Но и на этот раз вызвали не его, а того, другого – лысого невозмутимого толстяка, что сидел рядом со столом секретарши и внимательно читал газету. Дмитрий удивлялся его выдержке и терпению: он прочитал, очевидно, от первой до последней строки несколько газет. А когда его вызвали, толстяк неторопливо встал и, сложив аккуратно газету, положил ее на круглый стол. «Не нервы, а канаты», – с завистью подумал Дмитрий.
Потом мимо Шадрина прошел инструктор, с которым он неделю назад разговаривал около двух часов. Все, что говорил тогда Дмитрий, он тщательно записывал. Изредка задавал вопросы и продолжал писать. Сейчас, проходя мимо Шадрина, он не ответил на его приветствие, сделав вид, что не заметил его.
Лысый толстяк в кабинете первого секретаря задержался недолго.
Дмитрий ждал последнего звонка. Но его все не было. Прошло десять, прошло пятнадцать, прошло, наконец, двадцать минут. О Шадрине словно забыли. У него мелькнула догадка: «Наверное, слушают доклад инструктора».
Дмитрий вздрогнул, когда дверь отворилась и секретарша назвала его фамилию. Он вошел в кабинет. За т-образным столом сидели девять человек. Заседание бюро вела Боброва.
Дмитрию указали на стул, стоявший в торце стола. Но он не сел. Окинув взглядом членов бюро, Шадрин дрогнул. Рядом с генерал-майором, в профиль к нему, сидел Богданов. Вначале Шадрин подумал, что ему показалось, но когда Богданов повернул лицо в его сторону и взгляды их встретились, Дмитрий понял, что дела его совсем плохи.
Боброва курила. Затягиваясь папиросой, она натужно кашляла и, глядя на Шадрина, вполголоса переговаривалась с соседом, худощавым пожилым человеком, которого, как показалось Дмитрию, он где-то видел.
Все смотрели на него. Взгляды взвешивали, прощупывали, буравили…
– Товарищ Шадрин, вы давно в партии? – спросила Боброва.
– Десять лет.
– Где вступали?
– На фронте.
– Награды имеете?
– Да.
– Какие?
– Пять орденов и четыре медали.
– Как же вы докатились до такой жизни?
Шадрин молчал.
– Расскажите, как вы познакомились с иностранцами и получили от них тысячу рублей, а на второй вечер устроили в ресторане дебош? Как все это случилось?
Опустив глаза, Дмитрий сдержанно и тихо рассказывал. В третий раз ему приходилось рассказывать одну и ту же позорную историю. В третий раз он с болью выносил на суд – теперь уже самый высокий, партийный суд – свою «связь» с иностранцами. Слушали его внимательно, не перебивая. Когда он дошел до денег, которые обнаружил у себя на следующий день утром, Боброва оборвала его на полуслове:
– Недурственно!.. Целый вечер вы пили на чужие денежки, довезли вас до дому на дипломатической машине да еще вдобавок дали на память тысячу рублей. Вряд ли встретишь подобных добряков, чтоб ни за понюх табаку так щедро облагодетельствовали… Продолжайте.
Шадрин продолжал.
Когда он замолк, генерал беспокойно завозился на стуле и задал вопрос:
– За что вы получили первый боевой орден?
– За Можайск.
Генерал закивал головой, точно желая сказать: «Понятно… понятно».
Перед глазами – зеленая скатерть. Над скатертью склонились лица в начальственном окаменении. И голос… Трескучий, хрипловатый голос Бобровой:
– Вы позорите ордена, которыми наградило вас Советское правительство. Вы недостойны носить высокое звание члена партии.
Шадрин молчал.
– Где и когда вы вступили в партию? – спросил генерал.
– В сорок третьем, на фронте…
Удовлетворенный ответом, генерал кивнул головой.
Следующий вопрос Шадрин услышал, но лицо человека, задавшего его, не видел. Тот стоял неподвижно, устремив взгляд в одну точку стола:
– Зачем вы пили с иностранцами во второй вечер? Вы просто-напросто могли бы вернуть им деньги и сказать, что они ошиблись.
– Я этого не сделал. И в этом моя главная вина.
– Странно у вас получается: с иностранцами познакомились случайно, деньги вам всучили незаметно, против вашей воли. Не на что опереться, чтобы решить вашу партийную судьбу положительно. Николай Гордеевич… – Боброва круто повернулась к Богданову, – вы, кажется, с Шадриным работали? Как он зарекомендовал себя в прокуратуре?
Богданов заговорил не сразу: вздохнул, размял папиросу:
– Я знаю Шадрина неплохо. Мне пришлось больше года работать с ним вместе. Ничего лестного о нем сказать не могу.
Обернувшись к Карцеву, который сидел у окна, Боброва спросила:
– Как он работал у вас?
Щеки Карцева пунцово вспыхнули, но ответил он твердо, без колебаний:
– Замечаний не имел. И вообще… – Карцев развел руками: – Показал себя только с положительной стороны.
– Еще бы! Работать три недели и показать себя с отрицательной стороны, – язвительно заметила Боброва и закашлялась после глубокой затяжки. И тут же, точно боясь, что насупившийся генерал незаметно возьмет из ее рук руль управления заседанием, она резко пробарабанила пальцами по столу и обвела членов бюро взглядом: – Какие будут предложения?
Никто не смотрел на Шадрина. Чувствовалось, что никому не хотелось первым давать команду «Огонь!». Но вот заерзал на своем стуле Богданов:
– Считаю, что поведение товарища Шадрина несовместимо с пребыванием в партии.
– Другие предложения будут?
Генерал хмуро посмотрел на Шадрина:
– Я предлагаю дать строгий выговор с занесением в личное дело.
Боброва, взглянув на генерала, удивленно вскинула брови:
– Я считаю, что поведение товарища Шадрина позорит высокое звание члена партии. Грубое избиение иностранца влечет за собой уголовное наказание. Мое предложение определенно и твердо: исключить Шадрина из партии. Прошу голосовать. Кто за это предложение?
Не подняли рук двое: генерал и сидевший рядом с ним пожилой человек с седыми висками и худощавым обветренным лицом. Это был заслуженный учитель, директор одной из московских школ Денис Трофимович Полещук.
– Кто против?
Поднял руку один генерал.
– А вы, Денис Трофимович? – обратилась Боброва к Полещуку. – Воздержались?
– Думаю, что мы поторопились в такой категорической форме обвинить Шадрина в неискренности, когда шел разговор о вторичной встрече с иностранцами в ресторане.
За второе предложение – вынести Шадрину строгий выговор – голосовал один генерал.
– Бюро райкома исключает вас из партии, товарищ Шадрин, – холодно сказала Боброва, не глядя на Дмитрия. – Ваше право обжаловать решение бюро райкома в вышестоящую партийную инстанцию – вплоть до обращения в Центральный Комитет партии.
Шадрин вышел из кабинета. В приемной стояла тишина. Рука его потянулась за папиросами. Пальцы дрожали. Он закурил. Секретарша поливала из графина цветы. Дверь на балкон была открыта. Увидев Шадрина с папиросой, секретарша сделала ему замечание. Дмитрий прошел на балкон. Опершись на низенькие перила, он стоял и смотрел вниз. Там, внизу, куда-то спешили люди. Они показались Дмитрию суетливыми муравьями. Пять этажей отделяли его от асфальта. Высота каждого этажа – три метра. «Пятнадцать метров… Всего три секунды падения. И это будет последнее падение…» Шадрин закрыл глаза.
И вдруг… В какое-то мгновение рассудок вновь обрел силу и ясность. И снова, как в детстве, Дмитрий увидел холодную реку… Борясь с волнами, по ней плывет раненый Чапаев. Пули вокруг поднимают белые фонтанчики. А он, гордый орел, бросает в пространство: «Врешь, не возьмешь!..»
«А Чкалов?.. Когда у него в воздухе не оставалось в баках бензина – он летел… летел на самолюбии. Вот и в твоих баках, Шадрин, нет ни капли бензина. Но ты в воздухе. Ты должен лететь! На чем? Лети на выдержке, лети на терпении. Пусть крыльями тебе будет надежда!..»
Дмитрий теперь стоял на балконе с таким видом, будто он бросал вызов целой Москве. А она, белокаменная, кипела, бурлила… Она несла и качала Шадрина на своей широкой, могучей груди, как океан лодку. И каждая капля этого неумолимого людского океана кричала: «Москва слезам не верит!»
Опершись руками о перила балкона, Дмитрий высоко запрокинул голову. Забыв, зачем очутился здесь, на балконе, он шептал сквозь зубы, шептал ожесточенно:
– Врешь – не возьмешь!.. Без боя не сдамся! Не за тем я дважды выкарабкивался из рук твоих, смерть, чтобы сейчас, когда впереди такая жизнь, лечь самому под косу твою! Солдат Шадрин еще жив! Солдат Шадрин еще не раз пойдет в атаку!..







