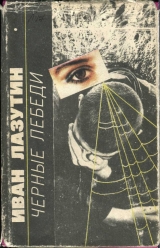
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
– Разве ты не видишь, как я люблю тебя?! – сказал наконец Струмилин.
Губы Лили вздрагивали:
– Зачем вы так неосторожно шутите, Николай Сергеевич? Не делайте больше этого…
Струмилин видел в глазах Лили отражение ночных огней.
– Когда ты перейдешь ко мне? – вдруг спросил он.
Лиля покорной девочкой стояла перед Струмилиным и преданно смотрела ему в глаза:
– Я приду к вам завтра. Я приду к вам навсегда. На всю жизнь…
VIII
В прокуратуре Союза Шадрина принял инспектор по кадрам Гудошников. Сразу же, с первого взгляда, он чем-то пришелся по душе Дмитрию. Может быть, тем, что на инспекторе еще лежала свежая, неистребимая печать войны, или тем, что, приглашая сесть, он не сделал той деловито-слащавой «дежурной» улыбки, которую в последние годы все чаще стал замечать Дмитрий на лицах некоторых официальных лиц, с которыми ему пришлось сталкиваться по делам службы.
В своем письме, написанном в прокуратуру Союза месяц назад, Шадрин просил работу в прокуратуре, даже если работа связана с выездом в любой город страны.
И вот это письмо – его Дмитрий увидел, как только подошел к столу инспектора, – перед Гудошниковым. На левом углу, где стояла резолюция, написанная синими чернилами наискосок, лежало пресс-папье.
Дмитрий молча сел и стал дожидаться, пока инспектор прочитает запись в трудовой книжке, ознакомится с его дипломом, характеристикой, анкетой… «Старше меня года на четыре, не больше, – подумал он, вглядываясь в лицо Гудошникова. – В сорок первом, наверное, был кадровым офицером. До сих пор не расстается с гимнастеркой».
По статной фигуре, возвышающейся над столом, Дмитрий определил, что Гудошников высок ростом. Над левым карманом его заметно выгоревшей офицерской гимнастерки пестрели четыре планки наградных колодок, над правым – темнели две полоски: следы споротых нашивок о ранениях. Сосчитал – двенадцать наград.
Уловив взгляд на своих орденских планках, инспектор в свою очередь взглянул в шадринскую анкету и остановил взгляд на графе, где стоял вопрос: «Имеете ли награды, за что и какие?»
Дмитрий силился расшифровать две последние медали в нижнем ряду и не мог. «Кажется, одна «За взятие Берлина», а последняя – «За освобождение Праги», – решил он. – Ну что ж, старина, руби сплеча! От тебя не обидно услышать и горькую правду. Два боевых Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и два Красной Звезды за красивые глаза не получишь…»
– Где и когда начинали войну? – спросил инспектор так просто, будто Шадрин пришел не в прокуратуру Союза, где должна решиться его судьба, а так, между артобстрелами, в минуты затишья, заскочил в окоп к такому же, как и он, солдату, дружку-земляку, чтобы перекинуться двумя-тремя подбадривающими друг друга новостями из деревни и выкурить по ядреной самокрутке.
– В пятой армии, у Лелюшенко.
– О, сосед!.. А я в шестнадцатой, у Рокоссовского, на самом стыке с вами. Случайно, не в дивизии Полосухина?
– У него.
– Значит, сибиряк? – спросил Гудошников.
– Так точно.
– Помню, когда вы приехали… Если память не изменяет – одиннадцатого или двенадцатого октября?
– Совершенно верно, в ночь на двенадцатое.
– Да… Много ваших ребят полегло на Бородинском поле. Но дрались вы – не на жизнь, а на смерть, – Гудошников, словно что-то вспоминая, смотрел на стеклянные подвески люстры, висевшей под потолком. Теперь он Шадрину показался значительно старше, чем вначале, когда переступил порог его кабинета. – Значит, все было?..
– Что было, то было, – вздохнув, сказал Дмитрий, – не дай Бог такому повториться. – Только теперь он заметил, что на левой руке у Гудошникова недоставало двух пальцев – большого и указательного.
– Где закончили войну? – все так же просто спросил инспектор, пробегая взглядом анкету Шадрина.
– У стен рейхстага. А пятого мая из-за угла меня поцеловали из фаустпатрона. Да так приголубили, что насилу спасли.
– Мне не пришлось дойти до Берлина. Ранили под Варшавой.
– Пришлось брать и Варшаву. Здорово горела. Тяжело было смотреть. Уж больно красив город!..
– Я этого пожара не видел. Немного не дошел. Ранило на подступах. Потом полгода путешествовал по госпиталям, а в начале сорок пятого списали по чистой.
Гудошников сложил аккуратной стопкой документы Шадрина, подвинул их на край стола и долго, что-то прикидывая в уме, смотрел на Дмитрия. Потом встал, энергичным движением рук расправил под широким ремнем гимнастерку и, припадая на правую ногу, прошел к распахнутому окну, через которое в кабинет вплывал монотонный гул столицы. Под ногами его поскрипывали плашки рассохшегося паркета.
«Таких гренадеров на военных парадах и на смотрах ставят на правый фланг, – подумал Дмитрий, глядя на широкую спину Гудошникова и на крутой разворот плеч, – сложен так, что хоть лепи с него атланта».
Слегка прикрыв окно, Гудошников вернулся к столу, закурил и сел, как бы подчеркивая своим молчанием и озабоченным выражением лица, что теперь он вынужден приступить к тому главному разговору, во имя которого он пригласил Шадрина.
– Обрадовать вас пока нечем, Дмитрий Георгиевич. Говорил я о вас со своим начальством. Ничего пока не получается. Вмешался Богданов. А его характеристике верят. Как вам известно – его акции заметно выросли. Да и со здоровьем у вас не такой уж блеск. Все-таки, куда ни кинь, инвалидность.
– Вы, очевидно, тоже заканчивали… – Дмитрий хотел спросить, какое учебное заведение закончил Гудошников, но осекся, побоялся, как бы вопрос его не показался инспектору фамильярным.
– Юридический, заочный, два года назад. Распределение получил сюда, вот и приходится больше с бумажками возиться, хотя за каждой бумажкой стоит человеческая судьба. Тоже вторая группа.
– Но я уже работал! Я был допущен к оперативной работе. И справлялся. Имею благодарности, – Шадрин говорил напористо, запальчиво, отчего его левое веко начало мелко подергиваться.
– Вопрос ваш, Дмитрий Георгиевич, решаю не я. Я вас могу только рекомендовать своему начальству, что я и сделал три дня назад, – спокойно и сдержанно сказал Гудошников, стряхивая пепел в свинцовую пепельницу. – К моему стыду, а может быть, в нарушение правил я даже скрыл вашу инвалидность.
– И что же вам сказали? – Шадрин чувствовал, как в горле у него пересыхает.
– Тут я немного дал маху. Пошел к руководству с намерением положительно решить вопрос вашего нового назначения и, черт меня дернул, сказал, что вы не сработались с Богдановым. Характерами не сошлись. Это у нас не считается криминалом. Думал как лучше, а получилось наоборот. Начальник тут же снял трубку и позвонил Богданову. Уж что тот говорил – одному Богу известно.
– Интересно, куда же вы все-таки меня хотели направить? – нерешительно спросил Шадрин.
– В Свердловский район, старшим следователем. Там нужны грамотные ребята.
– Ну а сейчас куда мне?
Инспектор поврежденной кистью руки провел по лицу, словно стирая с него налипшую невидимую паутину, и кисло сморщился:
– Подождите с месяц, потерпите. Начальник собирается в отпуск. Может быть, без него что-нибудь придумаем. А вообще обещать трудно. Богданова перешагнуть нелегко. Когда-то, в старые добрые времена, все дороги вели в Рим. Сейчас дороги всех прокуратур Москвы ведут к Богданову. Он ворочает кадрами.
– Нелегко ждать. Почти невмоготу.
– То есть?.. – инспектор вскинул на Шадрина глаза, в которых всплеснулось что-то по-детски наивное. Сразу он не мог понять: в чем состоит чрезвычайная степень трудностей у Шадрина?
– Земли: поместья и все прочие леса и угодья проиграл в карты вместе с крепостными душами. Оброка и податей никто не платит, проценты в банках тоже не растут. Вот уже месяц пребываю на полном пансионе у жены и тещи. А все тещи…
Гудошников не дал Шадрину закончить фразы. Расхохотался так звонко и так чистосердечно, что, казалось, стеклянные подвески люстры под высоким потолком слегка заколыхались. Встал, вытер кулаком слезы, выступившие от смеха, и протянул Шадрину руку:
– Заходите через месяц. Перед этим позвоните. Вот мой телефон, – ловко выхватив безымянным и средним пальцами лощеный листок из картонной коробки, стоявшей на столе, он записал номер телефона, протянул его Шадрину: – Только наперед учтите: в этом кабинете сидят нас двое. Мой старший коллега, – инспектор взглядом показал на стол у окна, – сейчас болен. При нем на всякий случай воздержитесь говорить о податях и оброках. Он не понимает и не любит шуток.
– Наверное, ваш коллега, как и Богданов, не видел, как горела Варшава, – шутливо сказал Шадрин.
– И как на Бородинском поле в октябре сорок первого умирали за Родину солдаты, – в тон Шадрину продолжал инспектор, провожая его до двери.
Шадрин спустился по лестнице. В ушах его стоял звонкий, по-детски чистосердечный и неудержимый смех инспектора Гудошникова, имя и отчество которого он так и не догадался спросить. «А зря… Надежный человек. Видать, хлебнул горячего до слез под Москвой и под Варшавой. Ничего, узнаю имя у вахтера…»
В проходной Шадрин сдал пропуск пожилому вахтеру и замешкался в узком проходе. Когда он назвал ему фамилию инспектора Гудошникова, с тем чтобы узнать его имя и отчество, тот посмотрел на него так, словно в эту минуту он продолжал думать о чем-то своем, совершенно не относящемся к тому, о чем спрашивал его Шадрин.
– Высокий такой, лет тридцати пяти, худощавый, в гимнастерке ходит, в галифе и в сапогах, – Шадрин пытался помочь пожилому неулыбчивому вахтеру вспомнить человека, о котором он спрашивал, но вахтер, привыкший за многие годы стояния в проходной будке к лаконичным и заученным ответам: «Пропуск», «Проходите», «Позвоните по внутреннему»… – молча и отчужденно-сухо покачал головой и показал на дверь:
– Прошу!.. Мешаете проходу!..
Шадрин вышел на шумную Пушкинскую улицу.
У Ольги в этот день был выходной. Больше часа она томилась в крохотном дворовом садике на Неглинной, ожидая Дмитрия. Еще издали, когда Дмитрий подходил к чугунной ограде скверика, она поняла: зря он целых две недели с тревогой ждал приема в прокуратуре. Ольга даже не спросила, как его приняли, что сказали, есть ли какие надежды. В глазах ее Дмитрий прочитал грустное утешение: «Не расстраивайся… Знай, что в беде ты мне еще ближе, еще дороже…»
Они долго шли молча по узенькой кромке мощенной булыжником мостовой, пока не свернули на просторный тротуар широкой асфальтированной улицы. Шадрин достал из кармана пиджака пачку «Прибоя», разорвал ее. Не осталось ни одной папиросы.
– Обожди! – Ольга метнулась к табачному киоску и тут же вернулась с пачкой «Беломора».
– Спасибо, малыш… – с горькой усмешкой процедил Дмитрий.
Они свернули в сторону Столешникова переулка.
– Куда сейчас, Митя?
Дмитрий остановился и рассеянным взглядом скользил по вывескам магазинов:
– Зверски хочу есть!.. Корми меня, иначе я зайду в булочную и украду каравай хлеба!
От шутки Дмитрия на душе у Ольги стало легче. Она резко дернула его за рукав:
– Пошли! Я знаю, где можно пообедать.
Стоял жаркий полдень. Почти во всех учреждениях настежь были раскрыты окна. В тени под липами кучились люди – ожидали троллейбуса. У стоянки такси толпилась очередь. Разомлевшие лица прохожих, свистки милиционеров, рекламная пестрота магазинных витрин и словно на старте застывшие перед пешеходной дорожкой легковые машины – все это в глазах Шадрина сливалось в многоцветную хаотически вертящуюся карусель большого города. Все это пестрое, суматошно-нервное и беспорядочное кружилось вокруг Дмитрия и Ольги, ввинчивая их в центр этого беспорядочного завихрения. Шадрину казалось, что лишь одна Ольга, одна-единственная во всей многомиллионной Москве, была с ним рядом, до конца понимала его.
В сквере на Советской площади они присели на лавочке. Дмитрий закурил.
К ресторану «Арагви» подкатила «Победа», из нее вышли молодые люди, которые о чем-то разгоряченно спорили, и тут же скрылись за массивной дубовой дверью ресторана.
– Видела ораву парней с усиками? – желчно спросил Дмитрий, показывая взглядом на дверь ресторана.
– А что? – Ольга не поняла причины его раздражения.
– Одного из них я этой весной видел на Центральном рынке. Торговал мимозами.
– Не может быть! От голода ты сейчас зол на весь мир. Особенно на тех, кому доступны рестораны.
Лицо Шадрина посуровело, на нем отразились два внутренних состояния: вызов, брошенный неизвестно кому, и готовность встретить удары любых неожиданностей.
– Ты не права, Оля. Сейчас я чувствую в себе что-то новое, что до сих пор лишь смутно ощущал, но не мог понять.
– Что именно?
– Я стал сильнее!
– Потому что отказали?
– Нет! Потому что я встретил настоящего человека! И сейчас во мне такое чувство, будто бы я только что напился из родника.
– Кого ты встретил?
– Там, в прокуратуре, инспектора Гудошникова. Ты понимаешь, какая странная мысль пришла в голову? Если людей сравнить с металлом, то одни из них, те, кто еще только что вышел на стартовую дорожку жизни, юнцы и девчонки, – все это пока только руда. Но руде необходима выплавка, закалка. Плавка бывает всякая: сталь то получается очень хрупкая, то бывает ломкая, слишком мягкая, вязкая… То и другое – плохо. Но есть особая сталь – булатная, ее умели варить мастера Дамаска и у нас на Урале, в Златоусте. По твердости она не уступает кремню, по гибкости и эластичности – молодому озерному тростнику: не сломает ни бурей, ни шальной волной. Так вот, Оленок, из доменных печей войны вышло много-много людей, миллионы наших простых советских людей, сработанных и закаленных по рецептам булатной стали. И вот сейчас я встретил такого. Обещал помочь, хотя не так-то все это просто.
– Ничего, капитан, все будет хорошо. Сейчас трудности у всех. Вспомни: давно ли была карточная система? А вот когда залечим раны войны, тогда…
– Не продолжай! – Дмитрий оборвал Ольгу. – Залечим раны! Дешевый, затасканный штамп, придуманный журналистами, особенно теми из них, над которыми война проплыла низкой тучкой и не разразилась грозой.
– Ты что такой злой?
– До тех пор, пока живы на земле люди, вынесшие с войны раны… – не важно какие, телесные или сердечные, – до тех пор эти раны будут ныть и давать о себе знать. Их залечат только могилы, – Дмитрий кивнул в сторону толпы прохожих, плывущей вниз по улице Горького. – Вон тому седому инвалиду на протезе уже никогда не пробежаться, не ускорить шаг. А матери, что не дождались своих сыновей? Какой ветер развеет их боль? А вдовы?.. Их миллионы!.. И все они сердцем остались за чертой сорок первого и сорок пятого годов! А дети-сироты, что родились накануне войны?.. Они никогда в жизни так и не произнесут слово «папа»! – Дмитрий говорил все запальчивей: – Раны войны не заживут, пока будут живы ровесники войны. Дети и внуки, что родились и выросли после войны, будут еще долго вздыхать тайком, глядя на портреты своих славных предков, – он помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, потом уже тихо, устало продолжал: – Уверен в одном: мы, фронтовики, – живучий народ. Скоро мы станем как выдержанное крепкое вино: чем больше лет прошумит над нами, тем цена нам буде дороже. Сейчас у нас кое в чем еще неразбериха. С годами все уляжется, утрясется, все сообразуется, все встанет на свои места… Не заглохнут только раны войны. Больше так никогда не говори.
Притихшая, Ольга стояла у каменной балюстрады и, потупясь, растирала на гранитной плите листок клена: она никак не предполагала, что всего какие-то два слова – «залечим раны» – поднимут в душе Дмитрия такой всплеск раздражения.
– Ты сказал, что после встречи с инспектором Гудошниковым ты стал сильнее. Что-то я не вижу этого, – укорила Дмитрия Ольга.
– Представь себе – сильнее! Вот инспектор Гудошников никогда не скажет, что раны войны скоро заживут.
– Одного я опасаюсь, Митя. Боюсь, как бы все эти неприятности и волнения не надломили тебя. Помнишь, профессор Батурлинов предупреждал, что тебе нельзя волноваться.
Шадрин горько усмехнулся:
– Профессор!.. Не волноваться. Не волнуется только гусыня, когда ее, перед тем как зарезать, откармливают, – Шадрин повернулся к Ольге. – Ты знаешь, как в деревне откармливают гусей?
– Нет, расскажи.
– Их сажают в мешок и подвешивают где-нибудь в чулане или в сарае. Из мешка торчат только хвост и голова. И кормят… Из особого подвешенного корытца или ведерка. Кормят до тех пор, пока они не заплывут жиром.
Ольга сдержанно рассмеялась. Но, видя, как лицо Дмитрия снова стало озабоченно-хмурым, подавила смех.
– Что думаешь делать дальше? – спросила она.
– Пойду в Министерство высшего образования, в отдел молодых специалистов. По положению в течение трех лет после окончания вуза этот отдел должен шефствовать надо мной как над молодым специалистом.
…В тот же день, после обеда в студенческой столовой, Шадрин и Ольга отправились в Министерство высшего образования, где Дмитрий на всякий случай заранее записался на прием к инспектору отдела кадров.
Ольга осталась ждать его в скверике министерского двора, в центре которого, прямо перед входом, вяло бил маленький фонтан.
Дмитрий поправил галстук, одернул пиджак.
– Ни пуха ни пера! – вдогонку бросила Ольга.
Дмитрий вошел в просторный вестибюль министерства. По сравнению с прокуратурой здесь была другая обстановка. Другие люди (в большинстве случаев это были научные работники) неторопливо поднимались и спускались по широким ступеням лестницы. Коридоры устланы ковровой дорожкой.
«Где-то здесь работают наши ребята, – подумал Дмитрий и остановился на лестничной площадке второго этажа. – Зайти или не зайти к ним?» Но тут же твердо решил: «Попробую пока сам. Если не получится – пойду к Зонову. Он занимает солидную должность. Может, не забыл еще Стромынку, студенческое общежитие…»
В отделе распределения молодых специалистов Шадрина направили к столу у окна, за которым сидела немолодая женщина с испитым лицом и короткой прической. Это была инспектор по фамилии Ткач. Она разговаривала с кем-то по телефону и, не сводя глаз с дымящейся папиросы, то и дело стучала ею о край пластмассовой пепельницы, стряхивая пепел. На ней была синяя крепдешиновая кофточка с короткими расширенными – «фонариком» – рукавами, в которых тонкие руки казались болезненно худыми и непомерно длинными. С худобой ее рук, с их серо-землистым цветом кожи никак не вязались ярко накрашенные темно-вишневые длинные ногти.
Продолжая телефонный разговор, Ткач рассеянно смотрела на Шадрина и время от времени кивала головой. Шадрин смотрел на ее болезненное лицо с дряблыми щеками и пытался определить цвет глаз: до того он был неопределенен – не серые, не голубые, не зеленые… В голове Шадрина мелькнула озорная мысль: «Следователь Бардюков о таких глазах сказал бы: «Вчерашний холодный рассольник в дешевой студенческой столовой». И тут же, вдогонку первой, всплеснулась вторая мысль-догадка: «Соседи по квартире, если она живет в коммуналке, наверное, ее боятся как огня». Дмитрий продолжал ждать, когда же наконец инспектор хоть жестом, хоть кивком головы (а она давно видела, что перед ней уже несколько минут стоит посетитель) пригласит его сесть на стул, стоявший рядом.
Ткач закончила разговор по телефону, достала из ящика длинную записную книжку, долго искала нужный номер телефона и снова принялась кому-то звонить.
Голос инспекторши был хрипловатый. Она надсадно кашляла, прикрывая трубку ладонью. Шадрин стоял до тех пор, пока она не закончила далеко не служебный разговор, в котором кого-то несколько раз назвала «голубчиком», расслабленно бросила трубку и посмотрела на посетителя так, словно заметила его только сейчас.
– Я вас слушаю, – и еле уловимым кивком головы – так сгоняют со щеки муху, когда заняты руки, – она показала Шадрину на стул.
Дмитрий сел:
– В прошлом году я закончил юридический факультет Московского университета…
– Куда были распределены? – как в давно запрограммированном диалоге, глубоко затянувшись папиросой, спросила Ткач.
– В прокуратуру Сокольнического района.
– И что же?
Дмитрий начал рассказывать о том, что с работой он справлялся, имеет благодарности, но в связи с новым положением о том, что на следовательской работе стали особое значение придавать здоровью, ему приходится подыскивать другую работу.
Инспектор слушала Шадрина, а сама делала какие-то пометки в ведомости, лежавшей перед ней. Раза два она перекинулась репликой с соседом, очевидно тоже инспектором, который тут же сообщил ей какие-то цифры.
– Странно… – губы инспекторши искривились в желчной улыбке. – Если таким образом начнут освобождать из прокуратуры Москвы инвалидов войны, то оголят всю прокуратуру.
– Я такого же мнения, но с моим мнением в городской прокуратуре не согласились, – ответил Дмитрий.
– С собой трудовая книжка? – не отрывая глаз от ведомости, спросила Ткач.
Дмитрий положил на стол трудовую книжку, диплом и характеристику. Ткач бегло просмотрела документы и, глядя на запись в трудовой книжке, закашляла в кулак. После очередной затяжки папиросой отодвинула от себя документы и подняла на Шадрина воспаленные, слезящиеся глаза:
– «По собственному желанию…» Странно. Ваше объяснение не совпадает с записью в трудовой книжке.
– Уж так получилось. В Кодексе законов о труде пока нет статьи о несовместимости оперативной работы со здоровьем. Пришлось писать заявление об уходе по собственному желанию.
– Ничем помочь не могу. По окончании факультета вы были распределены на хорошее место. А то, что вы ушли по собственному желанию, нас меньше всего касается.
– Но есть же положение, в котором говорится, что в течение трех лет молодой специалист находится в распоряжении вашего отдела и что…
Инспектор не дала договорить Шадрину:
– Голубчик, повторяю еще раз: нужно работать, а не летать с места на место. Вы уволились по собственному желанию. Так записано в трудовой книжке. Отдел молодых специалистов свое дело сделал: вас распределили великолепно! Вам дали работу. А то, что вы не сработались с начальством, – это не наше дело.
– Как же мне теперь быть?
– Устраивайтесь сами. Диплом у вас на руках. К тому же с отличием.
– Может быть, у вас есть заявки на периферию? Лучше всего в прокуратуру.
– Пока ничего нет.
– Может, мне зайти через недельку или через две?
– Ничего не обещаю… И скажу вам прямо, молодой человек: если даже будут заявки – вряд ли мы сможем направить вас на работу.
– Почему?
– А потому… – в голосе инспектора звучало явное раздражение.
Чтобы отвязаться от посетителя, Ткач набрала номер телефона и принялась вслух диктовать какую-то сводку.
Дмитрий встал, взял со стола документы. Долго шел он по тихим, устланным ковровой дорожкой коридорам, пока не очутился у двери кабинета, в котором работал его товарищ студенческих лет Георгий Зонов. То, что он был ученым секретарем коллегии министерства, Дмитрий узнал еще в вестибюле, где в особом списке, в рамочке под стеклом, стояли фамилии руководящих работников министерства.
Уже год Шадрин не видел Зонова, а за год столько воды утекло. Да и Зонов-то, может быть, уже не тот простодушный парень с Урала, который в юности писал стихи о космосе, о галактике и виртуозно играл на мандолине. Чтобы собраться с мыслями, Дмитрий присел в кресло, стоявшее рядом с дверью кабинета Зонова. Вспомнилось, как однажды они до самого рассвета бродили по гулким коридорам общежития и все спорили о Гегеле. Зонов, в отличие от него, читал Гегеля в оригинале, посвятил изучению философии гениального немецкого мыслителя не один год. Его раздражало, когда некоторые верхогляды судили о философии Гегеля не по трудам его, а по тощим обобщенным комментариям, которыми пользовались студенты.
Приглаживая свои черные густые волосы, то и дело спадавшие на лоб, Зонов обеими руками (это была его привычка) поправлял сползающие на нос кругленькие очки в белой металлической оправе и, распаляясь все сильнее и сильнее, доказывал, что многие наши дипломированные ученые мужи от философии по-настоящему-то подлинного Гегеля и «не нюхали».
«Такой ли он сейчас? Все тот же ищущий, мятущийся, неугомонный?..» – думал Дмитрий. Затушив папиросу, он бросил окурок в урну, стоявшую недалеко от кресла, и неуверенно взялся за ручку высокой выкрашенной под дуб двери. Чтобы пройти к Зонову, нужно было миновать еще одни двери.
– Вы к кому? – спросила секретарша.
– К Зонову.
Секретарша сказала, что Зонов в отпуске и что на работу он выйдет не раньше чем через две недели.
– Ему можно оставить записку?
– Пожалуйста.
Дмитрий написал Зонову записку:
«Георгий! Заходил к тебе. Ты, князь Светлейший, где-то на берегу Рицы или Голубого озера жаришь шашлыки и пьешь молодое грузинское вино. Я жарюсь под знойным солнцем столицы.
Мне очень, очень нужно тебя повидать. Если я впишусь в ритм твоих дел и забот, позвони моей жене по телефону: 31-17-43. Ольга Николаевна. А еще проще – позови кассиршу Олю из отдела «Одежда». Скажи ей, когда ты можешь меня принять.
На всякий случай – мой адрес: Колодезный переулок, дом 7, кв. 13.
Жму твою могучую уральскую лапу – неприкаянный грешник Дмитрий Шадрин».
Дмитрий передал записку секретарше и вышел из приемной.
Спускаясь по лестнице в вестибюль, он из окна увидел Ольгу. Она ходила по зеленому дворику министерства и время от времени бросала тревожный взгляд на парадную дверь, откуда вот-вот должен был выйти он.
Дмитрий остановился у широкого окна лестничной площадки и с минуту наблюдал за Ольгой. «Волнуешься, малыш? Ждешь…»
Когда он закрыл за собой тяжелую дверь вестибюля, Ольга уже стояла на каменных ступенях подъезда.
– Ну как? – бросилась она к нему.
Кивком головы Дмитрий позвал ее за собой и шел молча до тех пор, пока они не свернули на Кузнецкий мост.
– Неужели и здесь то же?..
Дмитрий сделал вид, что его волнует другое:
– Оля, а что, если мне придется выехать куда-нибудь на Север или на Дальний Восток? Поедешь?
Ольга пристально, с укором посмотрела в глаза Шадрина:
– Если ты еще хоть раз спросишь об этом, то я могу подумать, что ты до сих пор меня не знаешь.
– Больше никогда не спрошу.
– Наоборот, как раз я хочу уехать с тобой в любую глухомань. Я сама хотела об этом поговорить с тобой.
– Спасибо.
– Ты знаешь, Митя, я… тоже, как и ты… – Ольга не договорила.
– Что?
– Чувствую себя сильнее.
Шадрин посмотрел на Ольгу и улыбнулся:
– Из тебя, малыш, мог бы получиться хороший солдат. Жаль, что ты не была в моем взводе разведки.
Большая, разноголосая Москва, со своей людской пестротой, суетой и машинной неразберихой, с каменными глыбами нагретых солнцем домов плыла перед их глазами как огромная река в весеннее половодье.







