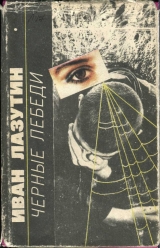
Текст книги "Черные лебеди"
Автор книги: Иван Лазутин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Всю ночь Луиза просидела в квартире подруги, стараясь утешить ее. Заверяла, что Николая Дмитриевича долго не продержат, что во всем скоро разберутся и его непременно выпустят. Когда уже под утро она поднялась к себе, Константин Петрович не спал. В ночной пижаме он ходил по темной столовой и курил. Обессиленная, Луиза молча прошла в спальню и легла. Через полуоткрытую дверь она долго наблюдала, как плавал в ночной темноте огонек папиросы. Потом Константин Петрович пришел в спальню.
Луиза тихо спросила:
– За что они его? Ведь это кристальнейший человек. Один вид Николая Дмитриевича говорит, что он честен и чист, как ребенок.
– Ни за что не арестуют, – сухо ответил Константин Петрович и, накрывшись одеялом, отвернулся к стене.
А через два месяца, в конце октября, подняли средь ночи с постели и Константина Петровича. Двое военных и представитель из домоуправления предъявили ему постановление на арест. Оно было подписано Берия.
Луиза отчетливо помнила лицо мужа. Он встал, молча надел свой новый черный костюм, в котором несколько дней назад был на приеме в Кремле, не спеша повязал галстук. Военные и домоуправ сидели в гостиной, терпеливо ждали.
Константин Петрович вышел из спальни и, встретившись взглядом с оторопевшей и испуганной женой, которая, как в лихорадке, не попадала зуб на зуб, приглушенно сказал:
– Теперь и я решительно ничего не понимаю…
Из рук Луизы выпал графин, из которого она хотела налить в стакан воды. Графин разбился вдребезги. На паркетном полу образовалась лужа, вода потекла под ковер. Никто не кинулся подбирать осколки стекла, никто не стал собирать с пола тряпкой воду…
Звон разбитого стекла разбудил сына. Кулачонками протирая спросонья глаза, он выбежал в гостиную и никак не мог понять, почему ночью в их квартире чужие, почему папа собирается куда-то уходить. Сердце ребенка почуяло недоброе. И когда Алеша понял, что Константина Петровича куда-то уводят чужие люди, горько заплакал. Защищая отца, он так вцепился в полы его пиджака, что молчаливым хмурым военным пришлось оттащить его силой. Если б не Луиза, он кинулся бы вслед за Константином Петровичем, которого уводили в темную дождливую ночь.
Луиза босиком выбежала на балкон. Она видела, как Константин Петрович остановился в воротах арки, как он молча помахал ей рукой. Сколько раз она жалела потом, находясь в камере Бутырской тюрьмы, что не бросилась в ту ночь с шестого этажа. Двух секунд было бы достаточно, чтобы оборвать все муки, на которые обрекла Луизу жизнь. Но она этого не сделала. Она помахала мужу рукой и крикнула ему вслед:
– Крепись, родной… Ты ни в чем не виноват!
Когда военные, домоуправ и Константин Петрович скрылись за воротами, Луиза обессиленно опустилась на холодный мокрый бетон балкона, залепленный желтыми листьями тополей. Над ней в одной коротенькой рубашонке жалобно плакал сын:
– Мама… Пойдем, мамочка…
Моросил мелкий дождь. Луиза поднялась, взяла на руки Алешу и прошла с ним в квартиру.
…Константина Петровича посадили в Бутырскую тюрьму. Через месяц Луизе разрешили свидание с ним. Но что это было за свидание! Сорок человек по одну сторону мелкой решетки, сорок человек по другую. Говорили сразу все восемьдесят. Говорили, стараясь перекричать друг друга. Собирая силы, чтоб не потерять сознание и не упасть, Луиза жадно впивалась глазами в побледневшее и постаревшее лицо мужа. По губам его она старалась понять, о чем он говорит. А он говорил о том, чтобы она берегла сына, чтобы берегла свое здоровье, уверял ее, что во всем разберутся. Несколько раз по движениям губ Константина Петровича Луиза поняла, что он упоминает Сталина. О Сталине слышалось со всех сторон. Все просили писать самому Сталину. Все уповали на Сталина, все были уверены, что Сталин во всем разберется…
Шатаясь, вышла Луиза из Бутырской тюрьмы. Пьяная от горя, опустив низко голову, брела через ноябрьскую слякоть и сеево дождя.
Больше она мужа не видела.
Во второй половине января, когда в Москве стояли крещенские морозы, арестовали и Луизу. Арестовали как члена семьи изменника Родины. Сын был в детском садике. Проститься с ним ей не дали.
Как и мужа, Луизу посадили в Бутырскую тюрьму. Следователь твердил одно и то же: «Ваш муж изменник Родины».
– Неправда! – резко ответила Луиза и встала. – Я знала моего мужа как человека, преданного партии и Советской власти!
Молоденький следователь криво ухмыльнулся:
– Так что ж, по-вашему: мы честных людей сажаем?
– Да, вы сажаете честных людей, лучших людей страны!
Следователь не дал Луизе договорить:
– Все вы, гражданочка, поете одну и ту же песню: «Мой муж честнейший человек, предан партии, Родине…» Слепые вы! Слепые, как котята, хотя и спали в одних постелях с вашими мужьями.
Омерзительно было видеть Луизе самодовольное, ухмыляющееся лицо. Но что она могла сказать? Что?! Ее не пытали, не били, не мучили, даже ни в чем не обвиняли. В нее просто-напросто плевали. Плевали не в лицо, а в душу.
В Бутырской тюрьме Луизу продержали три недели. Был в ее тюремной жизни и счастливый день. В этот день она получила коротенькое письмецо от двоюродной сестры, которая сообщала, что сразу же после ареста Луизы Алешу забрали в детский приют, но пробыл он там всего неделю. Из Киева приехала мать Константина Петровича и забрала внука к себе.
В Киеве у стариков свой небольшой домик, свой небольшой сад… Жили они обеспеченно. Луиза была счастлива. Но это продолжалось недолго, всего каких-нибудь несколько часов. Потом навалилась тоска. Вторую половину дня она проплакала.
В этот же день под вечер всех женщин ЧСИР вызвали в небольшую комнату. Сопровождали конвоиры. Поодиночке вызывали к столу, судья зачитывал приговор, объявлял срок заключения и заставлял в приговоре расписаться. Эта церемония продолжалась недолго. Сроки заключения были стандартными: кому пять лет, кому – восемь. Кое-кто догадывался, чем руководствовались судьи при назначении срока заключения: женам, чьи мужья занимали высокие государственные посты, давали по восемь лет, остальным – по пять.
Потом этап. Свирепствовала зима. В вагонах хоть волков морозь.
Ехали двенадцать суток.
В лагере ждали приземистые, полутемные бараки. В каждом около двухсот человек. Нары в два этажа. Утром – подъем, вечером – отбой. Поверки, переклички, «шмоны». Затем всех рассортировали по точкам. Луиза попала в овцеводческий совхоз «Асказань». Ее назначили санитаркой. И вот там она встретила удивительно порядочных и честных тружеников, которые, забывая, что они заключенные, целиком отдавали себя тому нехитрому и нелегкому делу, которое им поручили. На всю жизнь ей запомнился старый профессор Фортунатов, высокий, худой старик с густой седой шевелюрой. Отсидев свой срок, он остался в лагере. Много лет профессор-фанатик упорно скрещивал жирового «рамбулье» с тонкорунной казахской овцой. Старик сам ходил по овчарням и обмеривал курдюки молоденьким ягнятам. И когда находил, что у только что народившегося от скрещивания ягненка курдюк больше, чем у ягнят обычных, бежал к Луизе и, потрясая костлявыми руками, торжественно восклицал:
– Луиза! Дорогая Луиза! У нас родилось сокровище! Это, пожалуй, почище Фердинанда!
Умер старик одиноким, в неволе, так и не доведя до конца своих опытов. Но умер счастливым, даже успел написать ученикам своим завещание. Его он передал в лагерную администрацию. Какова судьба этого завещания – Луиза не знала.
С Украины шли письма. Хорошие письма. Приходили фотографии сына. Он рос. И чем дальше, тем сильнее походил на отца: такой же крутолобый, тот же открытый дерзкий взгляд, те же брови на взлете. Потом в письмах стали приходить вкладыши, заполненные неровными печатными буквами – сын уже писал сам.
О муже не было никаких известий. Но однажды в далекую кулундинскую степь дополз слушок: всех, кого взяли из наркомата, где работал Константин Петрович, расстреляли в тридцать седьмом году. А весной сорок первого года из главного управления лагерей Луизе ответили официально, что муж ее умер в декабре тридцать седьмого года. «Не вынес допросов, доконали», – решила Луиза, и с тех пор какой-то невидимый холодный камень навалился ей на грудь. Муж… Костя… Как он любил ее, как жалел… Она никогда его больше не увидит, не услышит его голоса, не порадуется вместе с ним на сына.
А тут еще летом сорок первого года грянула война. Киев бомбили в первый же день войны. Письма оттуда приходить перестали. А потом усталым и тревожным голосом Левитан сообщил по радио, что в Киев вошли немцы.
Луиза жила, словно во сне. С утра до позднего вечера работа, потом полубессонные ночи.
Прошло более двух лет. В ноябре сорок третьего года тот же голос Левитана, но в котором уже звучали не трагически-скорбные, а торжественно-победные нотки, сообщил, что столица Советской Украины город Киев освобожден от фашистских захватчиков. Тревога за сына и раньше саднила в сердце Луизы незаживающей раной. Теперь эта рана заныла сильней. На каких крыльях прилетит в кулундинские степи весточка из Киева? На крыльях беды или на крыльях радости?
Луиза ждала и сама писала письма: в Киевский горисполком, в горком партии, в милицию, в горком комсомола… Ответили не на все письма. Но те, кто ответили, сообщали одно и то же: дом, в котором жили родители ее мужа, и вся улица были дотла сожжены фашистами в первый же день вступления немецко-фашистских частей в Киев. Куда еще было писать? У кого спрашивать, что случилось с ее сыном и стариками?
…Война все шла. Луиза упорно писала. Теперь уже – в Москву, в Ленинград, в близлежащие к Киеву города… Кто-то посоветовал ей обратиться к Калинину или Ворошилову – она писала сразу обоим. Ответы пришли отовсюду, но ответы были неутешительные. Никаких сведений о сыне и родителях мужа адресаты не сообщали.
Кончилась война. Отблески Салюта Победы радостными сполохами отдавались в сердцах и тех, кто «именем Закона Российской Федерации» много лет назад был брошен за колючую проволоку.
Все годы в Карагандинском лагере маленькие радости и большие горести Луиза делила с Ларисой Орловой. Та тоже работала санитаркой, но в соседнем овцеводческом совхозе. Жили в бараке в маленькой отгороженной комнатенке с узким оконцем, из которого всегда дуло. Две кровати, посредине у окна – столик, две табуретки.
Муж Ларисы в прошлом был крупным морским военачальником на Тихоокеанском флоте. Детей у них не было. Своего мужа Лариса любила какой-то неземной любовью. Прожила она с ним всего шесть лет, а рассказов о муже у нее могло бы хватить лет на шестьдесят. Приставляя ко рту ладонь, она покашливала, а сама все говорила, говорила… Луиза знала, что кашель у Ларисы не простой, не простудный. Он начался два года назад. За это время она осунулась, похудела, но говорить о своем недуге не любила. Несколько раз Луиза просила подругу показаться лагерному врачу, но та обижалась и в ответ на уговоры Луизы только плакала.
…Минул и сорок пятый год. Срок заключения, вынесенный восемь лет назад по приговору, истек. Луизу формально освободили, но документов не выдавали. Предложили работать на старом месте, по старой специальности, но уже в качестве вольнонаемной. Так мучительно прошел сорок шестой год. Луиза рвалась в Киев – ее не пускали… Что делать? Она стала писать в Москву – в Верховный суд, в Прокуратуру Союза, в Президиум Верховного Совета СССР. Ответов не было. А тут еще одно горе: на ее руках умерла Лариса. В больницу она так и не легла, несмотря на уговоры врача, которого пригласила Луиза. Лариса знала, что никакие врачи ее уже не спасут. Да и жить ей больше не хотелось. За девять лет она не получила ни одной весточки о муже – все говорили, что крупных военных специалистов расстреляли еще в тридцать седьмом году, – а жить на земле, когда нет его в живых, Лариса считала бессмысленным. Ее последними словами были: «Луиза! Если в жизни случится чудо и ты когда-нибудь встретишь моего Володю – у меня в чемодане лежат для него письма, их некуда было отправлять… Семьдесят два письма… Передай их ему…»
Позади остался сорок седьмой год. Наступил сорок восьмой. Луиза больше никуда не писала. Перед ней стояла непробиваемая стена. Утешало единственное: не она одна томилась в ожидании настоящей свободы.
В декабре 1948 года Луизу вызвал начальник отделения и объявил, что, согласно указанию из Москвы, она и лица с ее статьей судимости (ЧСИР) подлежат административной ссылке в восточные районы Сибири. Это было уж вовсе неожиданным ударом. Киев, поиски сына – все перечеркнуло указание из Москвы, Теперь Луиза уже ничему не удивлялась. Крайняя несправедливость ожесточила. Объяви ей завтра, что на основании особого указания из Москвы она приговорена к смертной казни на электрическом стуле, – Луиза, не моргнув, сама села бы на этот смертоносный стул и своими руками включила рубильник.
Для жительства на выбор предложили ряд городов Красноярского края, Читинской области, Дальнего Востока. Среди них был Енисейск. Древними, седыми легендами веяло от одного названия этого старинного сибирского городка. Луиза, не колеблясь, выбрала для поселения Енисейск.
Снова душные, но холодные теплушки. Везли, как заключенных, с усиленной охраной. По ночам два-три раза обстукивали вагоны деревянными молотками – все боялись подрезов. Или охрана врывалась в вагоны и считала, освещая фонарем лица.
Красноярск. Сразу же, как только высадились из теплушек, налетели «покупатели». Всюду была нужна рабочая сила. «Покупатели» переманивали друг у друга «рабсилу», соблазняли, совали авансы… Многие согласились ехать в Южно-Енисейский – маленький поселок, где добывали золото. Луиза не изменила своего решения, она поехала в Енисейск.
…Началась жизнь ссыльной. Два раза в месяц – отметка в местной милиции. Живи, как хочешь, хочешь – работай, хочешь – не работай. Но выехать не имеешь права.
В Енисейске Луиза вскоре познакомилась с политическими ссыльными: бывшим комкором Туборским, комбригом Веригиным, поэтом Валдайским, старым белорусским партизаном Ивановичем. Все они, кроме Ивановича, работали на судоверфи. Луизу тоже устроили на судоверфь.
Ссыльные часто собирались после работы, вспоминали Москву, вместе проводили праздничные вечера. И вот в один из таких вечеров, это было Первого мая, Луизу познакомили с монтером Владимиром Александровичем Орловым, тоже политическим ссыльным. В компанию Туборского и Веригина его привел поэт Валдайский. Все они знали его еще по лагерю.
Весь вечер Орлов играл на гитаре и пел. Когда запел старинную матросскую песню «Альбатрос», Луизе взгрустнулось. В душе вспыхнули давно потухшие искорки надежд, которые теплились, еще когда она ожидала весточки от мужа, ждала конца срока заключения. Вспомнила профессора Фортунатова, неутомимого ученого-труженика… Вспомнила Ларису. Она часто пела «Альбатроса» и не раз говорила, что это любимая песня ее мужа.
Орлов умолк. В комнате стояла тишина. Ее затопило печалью.
– Эту песню часто пела моя подруга. Ее фамилия была тоже Орлова, – нарушила затянувшееся молчание Луиза.
– Орловыми, как и Ивановыми, Петровыми и Сидоровыми, можно запрудить Енисей, – глухо отозвался Туборский.
Но слова Луизы словно электрическим током прошили Орлова. Он сидел бледный. Еле слышно, дрогнувшим голосом, сказал:
– Как звали вашу подругу?
– Ларисой Сергеевной.
– Ларисой Сергеевной?!
– Да. Я пробыла с ней восемь лет в Карагандинском лагере.
Орлов встал и осторожно положил гитару на тумбочку. Все в комнате молчали. Видели смятение товарища.
– Она говорила вам о муже? – пересохшими губами спросил Орлов.
– Ее муж был вице-адмиралом. Служил во Владивостоке на Тихоокеанском флоте.
Орлов задел рукой гитару, и она упала на пол. Ее басовые струны долго гудели в притихшей комнате. Гитару никто не поднял. Все смотрели на Луизу и Орлова. А он, прижавшись спиной к простенку, стоял с посеревшим лицом и широко открытыми глазами.
Потом Орлов плакал. Его долго уговаривали. Затем он много пил. И много рассказывал о Ларисе.
На другой день Луиза передала Орлову письма Ларисы. Орлов попросил Луизу не оставлять его одного в этот вечер. Он читал письма Ларисы и опять плакал. Вместе с ним плакала и Луиза… Материнская жалость к этому человеку пустила ростки в ее сердце…
После печальной вести о жене Орлов стал пропивать почти все, что зарабатывал. Друзья урезонивали, поругивали, советовали остановиться, но Орлов, словно подрубленный дуб, кренился и как-то усыхал, словно шел к своему, начертанному судьбой концу. Однажды, в порыве откровения, он признался Луизе:
– Не хочется жить. Сегодня я видел нехороший сон. И если завтра меня не будет, передай друзьям, что я любил их. Скажи, что моя последняя просьба к ним была просьбой о прощении, – закрыв глаза, он тихо продолжал: – Для жизни сил больше нет…
Сидя на табуретке, Орлов высоко поднял голову и замер в оцепенении. На лице его застыла скорбная, страдальческая улыбка. Неожиданно он тихо, грудным голосом запел:
А море буйно шумело и стонало,
А волны бешено рвались за валом вал,
Как будто море свою жертву ожидало,
Стальной гигант качался и дрожал.
Это был припев из «Альбатроса». Орлов пел, а из глаз его текли слезы, текли тихо, умиротворенно. Они не походили на слезы скорби и прощальной тоски.
Закончив петь, он стремительно встал и, не попрощавшись, направился к выходу. Луиза его остановила. Она преградила ему путь у порога и сказала, что никуда не пустит.
В эту ночь Орлов остался у Луизы. Остался у нее и в другую ночь. А через неделю перенес свой чемодан и постель в маленькую комнатенку Луизы с крохотным оконцем, выходящим на Енисей.
Луизу никто не осудил. Наоборот, друзья-ссыльные стали относиться к ней с еще большей сердечной теплотой. Они понимали, что только Луиза могла удержать Орлова от безрассудства.
Орлов стал меньше пить. Тяжелая рана до половины надрубленного дуба постепенно затягивалась живительным панцирем-наростом. К увядающим листьям кроны снова начала просачиваться животворная земная сила.
Шли годы. Дремучий, безмолвный старик-Енисей катил и катил свои воды в Великий Ледовитый океан. Было, когда, стоя на обрыве, Луиза смотрела в его холодные неторопливые воды и думала: «Когда… когда все это кончится? Неужели я проклята самим Богом на всю жизнь?» Енисей никак не откликался. На своих берегах он видел и не такие беды и страдания.
Эти невеселые думы приходили к Луизе тогда, когда Орлов срывался и начинал пить. А когда пил, то забывал все: работу, друзей, Луизу… Были дни, когда не на что было купить даже хлеба. Луиза шла к друзьям-ссыльным, занимала. Орлов выпрашивал эти деньги и тут же пропивал. Она снова шла занимать. Потом научилась вязать кофточки. После работы на верфи часто до полночи просиживала с вязальными спицами и, время от времени прислушиваясь к ровному дыханию Орлова, молила только об одном: «Господи! Хотя бы он остепенился. Ведь так можно погибнуть».
Наступил 1954 год. Орлова вызвали в комендатуру и сообщили, что он полностью реабилитирован и может в любое время выехать в Москву или в другой город Советского Союза. Тут же вручили новый паспорт и деньги на дорогу. От счастья Орлов казался поглупевшим.
Луиза и радовалась, и плакала. Как-никак прожили вместе пять лет. Да каких еще пять лет – в неволе! Снова разлука, снова одиночество…
Пожалуй, за все пять лет не было такого веселого пиршества у политических ссыльных в Енисейске. Реабилитация Орлова всеми была воспринята как доброе знамение и для остальных ссыльных.
Проводили Орлова на следующий день утром, на пароходе. Луиза, не стыдясь слез и не замечая никого вокруг, махала рукой и кричала:
– Будь счастлив… Мы еще встретимся! Ты слышишь меня?
Орлов, понимая ее печаль и радость, тоже махал рукой ей в ответ и что-то говорил. Но ни Луиза, ни друзья не слышали его слов.
Боль разлуки смешалась с ожиданием. Все ссыльные ждали вызова в комендатуру. Но в комендатуру никого больше не приглашали. Ожидание стало тягостным. Так прошло полгода, прошел и год…
Орлов не писал никому. Канул как в воду. Это озадачило друзей. Луиза не находила себе места. «Неужели что-то случилось? Неужели?..» Тысяча самых тревожных «неужели» проносилась в ее голове.
В июне 1955 года вызвали в комендатуру Туборского, Ивановича, Веригина и Валдайского. Луизу не вызвали. Но вместе с друзьями она тоже пошла в комендатуру и долго ждала на улице, пока они не вышли.
Все четверо были амнистированы. Всем разрешалось проживать в любом городе страны, даже в Москве. Все четверо в этот же день получили паспорта.
Проводы друзей для Луизы были невеселыми. Она оставалась одна. Друзья считали ее задержку случайной нелепостью, временным недоразумением. Им было как-то неловко перед Луизой. Они стояли на палубе парохода и, стараясь через силу улыбаться, подбадривали ее:
– Ты нас обгонишь…
– Завтра вызовут и тебя…
– Упаковывай вещи…
– Не забудь адрес: Москва, Главпочтамт, до востребования. Там будут ждать тебя письма.
Луиза стояла на пирсе. Скрипели промасленные канаты старой баржи, лениво покачивающейся на волнах. Вода в Енисее была серая, грязная…
Взгляд Луизы скользнул по крутому обрыву, на котором росли три сосны. За шесть лет ссылки она трижды поднималась на этот обрыв, но так и не решилась сделать два решительных шага вперед. Долго она смотрела на три коряжистые сосны. А пароход тем временем становился все меньше и меньше. Людей на палубе было уже не различить. Потом пароход скрылся из виду. И снова взгляд Луизы упал на крутой обрыв, на три сосны. «Нет! Теперь я не поднимусь на этот берег! Я буду жить! Но прошу тебя: пожалей хоть ты меня, Енисей!» Больше крепиться она не могла. Из груди хлынули рыдания.
…Вернувшись в свою комнату, Луиза сняла со стены гитару, оставленную Орловым. Зачем-то долго рассматривала ее струны. Потом поймала себя на мысли: «Уж не с ума ли схожу?» Ей стало страшно. Она положила гитару. Полезла в тумбочку. Год целый, после отъезда Орлова, там стояла бутылка водки. Она осталась случайно. В спешке проводов Орлов о ней просто забыл. Обнаружив в тумбочке забытую бутылку, Луиза решила: «Разопьем ее вместе, в Москве». Но теперь откупорила бутылку и наполнила граненый стакан до краев. Выпила до дна. Потом, обняв гитару, долго перебирала басовые струны. Как уснула – не помнила…
На следующий день ее вызвали в комендатуру. Все, что было дальше, воспринимала словно сон. Выдали паспорт, деньги… Потом пароход, поезд «Владивосток – Москва»… Боже мой, неужели после семнадцати лет она снова вступит на московскую землю, пройдет по улицам столицы, снова пересечет Тишинскую площадь и войдет под арку большого серого дома, поднимется по крутым ступеням на шестой этаж и нажмет на кнопку звонка… Там теперь живут чужие люди. Нет мужа… нет сына… Но ведь есть Орлов! Он должен быть в Москве. Он полностью реабилитирован. Ему должны вернуть все его гражданские права. «Но неужели с ним что-нибудь случилось?»
…Московский перрон. Носильщики настойчиво предлагали своим услуги. Но к чему Луизе был носильщик, когда вся поклажа ушла в один небольшой чемодан. Слезы радости и тревоги стояли в глазах. Слезы от воспоминания о прошлых разлуках и от ожидания новых встреч.
…Через Мосгорсправку Луиза выяснила телефон Орлова. Но его в Москве не было. Женский голос ответил: «Он отдыхает на юге. Приедет не раньше, чем через месяц».
Московская квартира, где раньше жила Луиза, была занята семьей военного. Луиза остановилась у своей дальней родственницы в Александрове. Нужно было работать. Начальник почты в Александрове оказался хорошим человеком. Он не испугался, что Луиза как член семьи изменника Родины семнадцать лет была в изгнании, принял ее на работу почтальоном.
Каждое Воскресенье Луиза приезжала в Москву и на всякий случай звонила Орлову. Но он все еще был на юге. Томясь в ожидании предстоящей встречи, Луиза узнала адрес Орлова. Ей хотелось взглянуть на дом, на окна квартиры, где он живет, хоть минуту постоять на лестничной площадке перед его дверью.
Вот и Песчаная улица. Серый семиэтажный дом. Луиза поднимается на четвертый этаж. На лестничной площадке тишина. Высокая дверь обита коричневым дерматином. На двери медная табличка: В. А. Орлов.
Заслышав за соседней дверью чьи-то шаги, Луиза поспешно сбежала вниз. На ящике из-под продуктов сидела пожилая лифтерша. Луиза обратилась к ней с вопросом:
– Скажите, пожалуйста, как я могу увидеть кого-нибудь из Орловых?
Лифтерша подняла на нее вопросительный взгляд:
– Это из сто шестьдесят пятой квартиры?
– Да.
– Адмирал на курорте.
– А жена?
Лифтерша снова смерила Луизу с ног до головы:
– Какая жена, он один.
Больше Луиза ни о чем не стала расспрашивать и вышла из подъезда.
В этот же день она разыскала Валдайского. Он рассказал ей о том, что Орлов восстановлен в партии, что ему вернули его звание вице-адмирала, что живет он теперь в отдельной трехкомнатной квартире на Песчаной улице и в отставку ушел с приличной пенсией. Обо всем этом Луизе было радостно слышать.
Через неделю приехал Орлов. Об этом сообщил по телефону женский голос.
«Наверно, домработница», – подумала Луиза и поехала на Песчаную улицу.
…Это было утром. А вечером Луиза сидела в маленькой комнатенке Валдайского. Сидела униженная, оскорбленная, пристыженная…
Подняв заплаканное лицо, она долго смотрела в одну точку. Ей виделся высокий обрыв над Енисеем, угрюмые волны внизу. «Почему я тогда не решилась?» А перед глазами уже не обрыв и три сосны на нем, а пухлая дерматиновая дверь, медная табличка: В. А. Орлов. Она нерешительно нажимает на кнопку звонка. За дверью твердые шаги. Лязгнула защелка замка, дверь пошла в глубину квартиры. И он… Боже мой, как он поздоровел и как похорошел! Она не могла даже представить его таким. Он стоит, смотрит и молчит. На лице нерешительность и смятение. Сердце в ее груди стучит так, что вот-вот подступит к горлу и задушит. А из глубины квартиры доносится звонкий женский голос:
– Кто там, Вовик?
Орлов кашляет в кулак, виновато переступает с ноги на ногу:
– Я прошу вас… Позвоните мне, пожалуйста, по телефону… завтра утром… Сейчас я очень занят. Простите меня.
Тяжелая, обитая дерматином дверь глухо и тяжело закрывается…
Когда Валдайский рассказал обо всем Веригину, тот задохнулся от негодования.
– Успокойся, Саша, – уговаривал Валдайский. – Все это жизнь. Ростки хамства я иногда наблюдал у Орлова еще там, в Енисейске.
– Подлец! – сказал Веригин, разминая дрожащими пальцами папиросу.
– Почему подлец? – вступила в разговор переставшая наконец плакать Луиза. – Он ничем мне не обязан. Друзьями мы были в беде.
– Но все же этого я никак не ожидал даже от Орлова, – с грустью произнес Валдайский. – Ведь если б не ты, он погиб бы. Страшно! Страшно за человека…
Луиза глядела в одну точку и опять, казалось, ничего не слышала. Точно обращаясь к кому-то третьему, незримому, сказала:
– Я пришла к нему как к другу! Он мог бы принять меня и при этой женщине. Она и не почувствовала бы, что мы когда-то были больше, чем друзья.
– У Орлова какая-то большая рука в Министерстве обороны. За него кто-то очень побеспокоился. И это вскружило ему голову. Адмиральская пенсия, трехкомнатная квартира в новом доме, один из лучших курортов на юге! Где уж тут не забыть нас, сермяжную братию, – вздохнул Валдайский. – Гусь свинье не товарищ.
Веригин строго посмотрел на Валдайского:
– Кто свинья, а кто гуси?
– Судите сами, – развел руками Валдайский.
Веригин встал:
– Первую проверку на прочность Орлов не выдержал. Завтра я сделаю ему вторую, – подошел к Луизе, положил ей на плечо руку: – А ты, Луиза, не вешай голову. У тебя есть друзья, – с веселой улыбкой посмотрел на Валдайского: – Пока самый недосягаемый и счастливый среди нас – ты. Что тебе: ты поэт! Ты стоишь над адмиралами, премьерами и королями!
Луиза улыбнулась с грустной благодарностью:
– Спасибо, Александр Николаевич.







