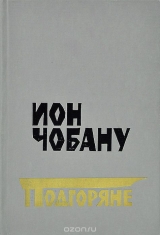
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
же как и они не знали меня, не интересовались мною. Мне же хотелось
обратиться к ним пушкинскими словами: "Здравствуй, племя, младое,
незнакомое!.."
Однажды в дальнем конце виноградника я наткнулся и на специалистов. Их
было трое: директор, главный агроном и бригадир, коим оказался мой отец. Они
вальяжно улеглись у стога сена. На земле перед ними на белом полотенце
лежали ломтики свежей овечьей брынзы, несколько здоровенных луковиц,
раздетых донага, краюха домашнего хлеба и, разумеется, две бутыли белого
вина. Увидев меня, страшно обрадовались.
– Ура! Дорогой гость объявился! – возгласил директор, вскакивая. – Не
будем тут валяться. А ну, товарищи, забирай еду и вино, марш к машине!
В несколько минут мы уже перебрались на полянку, в глубинку леса.
Трапезничали в прохладе.
Позже я рассказал про этот случай баде Василе Суфлецелу. Он выслушал
меня, казалось, без всякого интереса. Зато его хозяйка не промолчала. Аника
сейчас же принялась промывать косточки руководителям совхоза:
– Зазнались, пресытились! – бушевала она. – Им уж не сидится под
стогом сена!
У бади Василе была лишь единственная претензия к руководителям: они
соорудили новый колодец посреди виноградника, а это, по понятиям бади
Василе, неправильно. Колодец должен быть у дороги, чтобы любой прохожий мог
напиться.
Видел и я этот колодец. Если бы можно было привезти его в Москву, он
явился бы прекрасным экспонатом на сельскохозяйственной выставке. Длинное
горло колодца забетонировано, а верхняя его часть исполнена каким-то
скульптором-художником в виде большой чаши. Над нею стоял на длиннющих ногах
аист, сваренный из обрезков нержавеющего металла. Издали это изображение
напоминало натурального черногуза, ноги которого упирались в край чаши, а
шея заменяла колодезный журавель, клюв железной птицы – крюк для бадьи.
– Красота тоже должна служить людям, – ворчал Василе. – На кой он, тот
колодец, ежели из него не черпают воду? Задохнется, протухнет – кому нужен
такой?..
Наверное, бадя Василе отыскал бы и другие мотивы, чтобы побранить
руководителей, но во двор пригнали овец, и хозяин пошел доить их.
2
– Я всегда говорил, что пустая башка на торбу только и годится! -
ругался отец, продолжая вести, с кем-то, вероятно, не оконченную еще
полемику.
Признаться, я давно не видел его таким разгневанным. Он выходил из себя
в те времена, когда виноградники зарастали сорняками, а районные власти
заставляли председателей колхозов высаживать в траншеях лимонные черенки и
самые плодородные поля засевать кок-сагызом; односельчане же думали, что эта
несусветная чушь придумана отцом. Люди рассуждали так: лишь круглый дурак
сеет ветер на своем поле. И они были правы, люди. Но что делать
председателю? Он ведь находился как бы между молотом и наковальней: тут, на
селе, тебя проклинает народ, а в районе – сыплют выговор за выговором на
твою несчастную голову за то, что лимонные саженцы повымерзли, а из
хиленького кок-сагыза получался каучук, как из хреновины тяж. Курам на смех
вся эта затея, но смеялись-то над отцом не куры, а люди, и ох как несладок
был этот смех!
Теперь отец вроде бы не находился на "главной линии огня", поскольку на
его попечении была лишь одна бригада. За нее отвечать легче. Однако когда в
совхозе создали профсоюзную организацию, бедного Костаке избрали
председателем месткома. На ,практике это означало, что он должен был вместе
с "директором и секретарем парткома нести ответственность за весь
совхоз-завод, выезжать в район, где со всех троих "снимали стружку" за
какие-нибудь промашки в сложном хозяйстве. На этот рай, похоже, промашка
была серьезной, коль вместе с руководящей троицей вызывали и председателя
сельсовета. Соответственной была и толщина "стружки". Потому-то и
разбушевался, так мой родитель.
– Я говорил им, – кричал он, грозя кому-то кулаком, – что не нужен
Кукоаре этот ресторан. Не послушались! А вот теперь...
В прежние годы мама в таких случаях становилась на сторону мужа,
переживала вместе с ним его неприятности. А теперь вот смеется над ним,
будто хочет позлить хозяина. При каждой его вспышке, сопровождаемой особенно
крепким, соленым словцом, она подскакивает на месте, как дедушка, да еще и
приговаривает:
– Так вам и надо! Поделом!.. Дали, значит, прикурить?! Давно пора... А
то понатыкали этих ресторанов по всем лесам, и все им мало!.. Скоро и
ветряные мельницы в рестораны переделаете!..
"Ну, очнулся и в ней бес", – думает отец. А я удивляюсь: когда это мама
успела все приметить своими будто бы кроткими голубыми глазами? И рестораны
не скрылись от ее взора!
Что до меня; то я был прямо-таки очарован новым увлечением земляков.
Многие дороги теперь украшены преогромными бочками, но бочками лишь с виду:
изнутри – это ресторан либо винная распивочная с круглыми столиками на
высоких ножках и настоящими бочонками по краям. Иные рестораны бочки были
так велики, что под ними помещались подвалы для хранения вина и других
разных припасов. Там и сям глаз твой может приметить и совсем крошечные
ресторанчики-беседки в виде избушек на курьих ножках с интригующими
названиями, как-то: "Дубовая роща", "У бочонка", "Пристанище гайдуков"
[Гайдуки – народные мстители, поднимавшиеся против местных и иностранных
поработителей. Последним гайдуком в Молдавии был Г. И. Котовский (в ранний
период)], по соседству с этим, последним, просто "Бригадный дом" – творцу
этого питейного заведения не хватило фантазии. Ну как было не восхититься
сказочными этими теремами мне, который не в такие уж далекие времена спал на
райкомовских столах, подложив под голову газетные подшивки, или на лавках в
каком-нибудь отдаленном селении. Мне, который не смел мечтать даже о
малюсеньком гостиничном номере, о простой железной койке или раскладушке на
захудалом постоялом дворе?!
Сейчас, после годов учения в Москве, я вернулся вроде бы в совершенно
иной, неведомый доселе мир. Чуть ли не от всех сел и деревень к районным
центрам тянулись "дороги с твердым покрытием" – так местные руководители
называли шоссе; на равных отрезках располагались автобусные остановки, а на
конечных пунктах – станции,. тоже автобусные: покупай билет и катись в любом
направлении. Бегали туда-сюда по этим дорогам и легковые такси, подмигивая
кому-то своим зеленым глазком. Почти во всех селениях даже улицы были
заасфальтированы, а в богатых – справа и слева, вдоль домов, тянулись еще и
тротуары...
Столь разительные перемены действовали ошеломляюще. Они были так
кричащи, так бросались в глаза, будто специально пришли для того, чтобы
подчеркнуть собою лишения и убогость прежних лет. Мог ли я, подобно матери,
бунтовать против ресторанов? Я, который видел земляков, выходящих на работу,
как на праздник, в хорошей одежде; идеальную чистоту на виноградных
плантациях; ослепительно белые халатики на доярках; породистых телят,
потягивающих молочко из установок, имитирующих коровье вымя, – не только
молоко, но еще какой-то питательный раствор, богатый витаминами?.. Видел я и
то, как на фермах в определенное время животные принимают горячие ванны.
Видел в некоторых хозяйствах "родильные дома" для стельных коров... И
сделано все это руками сельских тружеников. Отчего же для них самих-то не
построить, не возвести что-нибудь такое, где б они могли отдохнуть,
повеселиться? Разве они этого не заслужили? Разве ради нынешних благ не
прошли они терний неустройств, бесконечных экспериментов, ошибок, перегибов,
неизбежных при радикальной ломке старого?..
Словом, я не видел ничего худого в этих забавных теремах и бочках, в
которых приютились ресторанчики и уголки-беседки. Сельскому жителю, равно
как и городскому, тоже надо иметь место, где б он мог посидеть с бокалом
вина и отвести душу в милой ли сердцу беседе с товарищем по работе, с
приехавшим ли погостить другом. Пускай в моей Кукоаре будут и гостиница, и
торговый центр. А что плохого в том, ежели ресторан разместится в ветряной
мельнице?! Разве будет лучше, если она развалится, рассыплется в прах и
исчезнет из памяти тех, которым вовсе недурно было бы помнить, как жили их
предки, как добывали хлеб насущный, как умоляли всевышнего, чтобы дал
ветерка для вращения мельничных крыл?! "Крылатые" рестораны уже появились на
Украине, в прибалтийских республиках. Старина, она тоже должна работать на
современность, на нынешний день!..
Все это я пытаюсь растолковать матери. Горячую мою речь она выслушала с
непонятным, подозрительным спокойствием. Глаза ее при этом снисходительно
улыбались, сверля меня голубыми буравчиками. Дождавшись, когда я замолчал,
подала и свой голос:
– Валяй, сынок, радуйся!.. Хлопай в ладошки!.. Можешь и красный цветок
воткнуть в шляпу!" Пожалуйста. Только не горячись так. Неужели тебе
нравится, что отец устроил трактир в нашей мельнице?..
– Не я его устроил! – не стерпел отец. – И ты это хорошо знаешь!
Перепалка разгорается с новой силой. И удивительно: с малых лет я
только и слышал одни проклятия по поводу этой же мельницы, хотя сама-то она
едва ли заслуживала нареканий. Вся ее вина состояла в том, что она выросла
на дороге по пути к нашему винограднику и пересекла этот путь так, что
отвозить урожай мои родители должны были окольным путем, который малость
подлиннее прежнего. Когда и этот путь -поглотили другие виноградные угодья,
наше оказалось совершенно изолированным, точно на островке: подъезжать на
телеге к нему было нельзя, корзины с виноградом надобно было носить на
плечах, воспользовавшись узкой тропинкой, проложенной пешеходами возле самой
мельницы. Но вскоре и тропинка исчезла. Не выдержав конкуренции, владелец
мельницы закрыл ее, предоставив четырехкрылое свое сооружение воробьям,
галкам и голубям, которые и выводили там потомство. Пространство вокруг
мельницы хозяин распахал и на бывшей залежной земле, обильно удобренной
конским навозом, получал богатый урожай картофеля. Через картофельное поле
он, понятно, ходить никому не разрешал. Не разрешал ходить и через коноплю,
которая приходила на смену картофелю в порядке, так сказать, севооборота.
Впрочем, за определенную плату хозяин мог все-таки пропустить через свой
огород и быстро сообразил, что взимаемый им таким образом "налог" приносит
ему доход куда больший, чем умолкшая навечно мельница.
Теперь она вновь обрушилась на голову отца. Совхозное начальство
переоборудовало ее под ресторан. Отец был решительным противником этой
затеи. И, может быть, потому, что мельница никогда не приносила ему счастья.
На черта ему сдался ресторан? Что у него, других забот нету?!
– Всё эти гайдуки придумали! – возмущался отец.
Из его же слов я узнал, что наш лесной край кинематографисты избрали
для съемок фильмов из жизни гайдуков: лучшего места для гайдукского царства
не сыскать во всей Молдавии. В сравнительно короткий срок киноадминистраторы
восстановили мельницу. Обили, обшили ее новыми досками, "оперили" крылья,
поправили главный, становой столб, к которому крепились все вращающиеся
сочленения, – тут киногайдуки и разыгрывали свои разудалые веселые
пиршества.
При отъезде последней киноэкспедиции руководителям совхоза и пришла в
голову идея дать новое назначение мельнице, то есть переделать ее в
ресторан. Когда еще, думал директор, приедут сюда киношники? Не все же
фильмы должны быть о гайдуках?.. Будем строить ресторан!
Идея была горячо поддержана. Ресторан открыли,
– Что ж... Иной раз баба и на кочерге пляшет до упаду! -
прокомментировал это событие дедушка.
В экзотический ресторан почему-то не пускали учителей. Объясняли эту
дискриминацию тем, что мясо и прочие припасы ресторан получал от совхоза, а
школьные служащие не являются рабочими хозяйства, так что... В общем,
ресторанные двери захлопывались перед носами преподавателей. Чем это
кончилось, нетрудно догадаться. Учителя, особенно холостяки, подняли такой
шум, что не приведи господи! И понять их возмущение можно. Кто же, кричали
преподаватели, ходит вместе с учениками на уборку урожая с совхозных
виноградников? Кто снимает яблоки? Кто, взбираясь на деревья, достает их с
самых немыслимых вершин? Разве не молодые преподаватели?..
Едва избавившись от шумливых бородатых артистов-гайдуков, Кукоара
увидела и услышала своих юных бородачей, то есть молодых преподавателей,
которые мало чем отличались от исполнителей гайдуцких ролей и были, пожалуй,
еще шумливей тех. Не долго думая, они разослали во все концы, во все
инстанции гневные петиции, одну из них направили в "Правду". Найдя гнев юных
воспитателей подрастающего поколения основательным, главная газета страны
опубликовала их письмо. Что тут началось! Не только на весь район, на
республику – на всю страну оскандалились кукоаровские руководители, хотя
письмо-заметочка в "Правде" была так мала, что ее даже пропустил мимо глаз
почтальон бадя Василе Суфлецелу. Лишь после того как вызванные в район
директор, председатель месткома, секретарь парткома и председатель
сельсовета получили хорошенькую взбучку, номер газеты стал переходить из рук
в руки как редчайшая находка. Отовсюду посыпались советы, предложения, как
поступить, что сделать со злополучной мельницей-рестораном. Получившим
выволочку руководителям, естественно, хотелось поскорее избавиться от нее, и
они не прочь были передать сооружение кооперативу.
Кооператив, однако, заупрямился, найдя, что ресторан этот окажется
непременно убыточным. Потребкооперативщики были правы. По всем лесам и по
всем дорогам красовались у них "памятники", напоминавшие строения давно
минувших времен, не хватало еще мельницы-ресторана в затерянном в глухомани
селе! Не хватало того, чтоб и там жарили шашлыки из свинины, как во всех без
исключения подобных заведениях! Многим это постоянное блюдо так "надоело,
что им не то что есть, но и глядеть было тошно на него. Отсюда и убыток.
Были неприятности и другого порядка. Большей частью экзотические
ресторанчики были разбросаны по лесным дорогам и полянам, на больших
расстояниях от сел, и трудно было найти женщин, которые пошли бы работать в
них. Кому ж охота торчать в лесу до полуночи, иногда до третьих петухов, а
потом возвращаться в темноте домой, рискуя встретиться с хулиганьем? Иных
все-таки удавалось уговорить, и они обслуживали лесной ресторанчик, а за
полночь робко, ощупью пробирались к своему селу, крепко сжимая ручонку
ребенка, которого часто не на кого было оставить дома.
Водки и вина в таких ресторанчиках было преизбыточно, и они не
переводились. Зато ассортимент кушаний был до крайности убог. Не хватало
поваров и поварих, способных из ничего сотворить нечто и чрезвычайно
вкусное, и завлекательное с виду. Говорится же в народе: хорошую хозяйку
узнаешь по цвету поджаренного мяса. Из доброй половины быка и никудышная
стряпуха сготовит вкусный борщ. Нынешние работники общепита иных блюд и не
знают, помимо мяса, начисто забыв, что множество превкусных вещей можно
приготовить и из других продуктов. Дело дошло до того, что традиционно
молдавская еда исчезла со всех столов. Появление на них в редких случаях
простой мамалыги вызывает у людей восторженные возгласы, словно бы люди эти
встретились с невидалью. Такой же редкостью стали и плацинды, и многие
другие кушанья.
Если б завлекающие глаз рестораны и ресторанчики располагались близ
деревень и сел и к их обслуживанию привлекались домашние хозяйки, для
которых сложили бы деревенские же печи да снабдили б их мешками с мукой,
луком, картофелем, орехами, дали б побольше брынзы, укропа, фасоли, солений,
раскрепостили стряпух от железобетонных прейскурантов и бухгалтерских
выкладок, тогда, глядишь, и убытка не было б, даже осточертевший всем шашлык
выглядел бы по-иному в окружении других блюд, тогда никто бы и не вспомнил о
бифштексе по-английски. Но, видно, преодолеть свино-шашлычную калькуляцию
куда труднее, чем принять решение о закрытии ресторана в нашей мельнице."
После всеобщего переполоха, -вызванного появлением помянутой выше
заметки, поспешил и я в мельничный ресторан, названный, очевидно, в честь
кинематографистов "Мельницей гайдуков". По всему было ясно, что жить этому
гайдуцкому прибежищу осталось недолго, – потому я и заторопился посмотреть
на него в последний раз. Если не сделать это теперь, то придется увидеть
мельницу разве что в кинокартине. Мне же было жаль с ней расставаться. В
пору моего детства таких мельниц насчитывалось семь штук. Стояли они,
выстроившись в ровный ряд на вершине холма, во время работы дружно и
согласно размахивали крыльями, как солдаты руками в походе. В ветреную
погоду крылья были дырявыми, а при слабом ветре к ним пришивались
дополнительные дощатые щиты. Когда с помолом зерна кончали, мельницы
переставали вертеть крыльями и молчаливо ожидали, когда к ним опять
потянутся телеги с хлебом. Но и тогда, когда бездействовали, они все равно
были нужны как некая постоянная величина, без которой немыслима жизнь села
или деревни. Потом "Ветрянки" на моих же глазах стали исчезать одна за
другой. Умирали медленно и, стоя, как старые или больные деревья.
Под напором железа и пара не устояли и наши деревянные мельницы, пали,
как солдаты в неравном бою. Пали у нас, исчезли бесследно и во множестве
других селенийч Иногда люди и не замечали их исчезновения: стояли – и вдруг
не стоят, словно испарились. Однако у времени бывают свои причуды. В
какой-то час оно, время, будто бы почувствовало, что ему чего-то не хватает.
Может быть, оно, как и мы, затосковало о старине? А может, тут другое, более
важное и глубокое? Не являются ли те мельницы вехами, по которым память
времени возвращается в далекое прошлое, чтобы, сверившись с ним, продолжать
свое поступательное движение более верным путем, с меньшими ошибками? Кто
знает?..
Как бы там ни было, но в виде ресторана, закусочной, распивочной тут и
там, точно грибы после теплого дождя, будто тени минувшего, начали возникать
ветряные мельницы, шатры, кибитки, бункеры со старинной утварью и
принадлежностями для виноделия. И не только внешне ресторанчики напоминали
старину, но и изнутри: стены их были завешаны нарядными самоткаными коврами,
а полы устланы тоже самоткаными дорожками, в простенках стояли глиняные
кувшины; оркестр составлялся из народных инструментов, а сами музыканты
выходили в старинных национальных костюмах; певцы и певицы, а также
официантки были облачены в расшитые, расписные рубахи, штаны, кофты и юбки.
Даже приготовленные блюда нередко носили– отголоски давно минувшего: "борщ
гайдука", "жаркое гайдуков", "жаркое по-домашнему" и тому подобное. На
поверку борщ оказывался обыкновенным, общепитовским, а все тот же жирный
свиной шашлык обрел лишь заманчивые названия."
Тем не менее я направил свои стопы к "Мельнице гайдуков", то есть к
ветряной мельнице, той самой, которую сейчас поминал недобрым словом отец и
которая дала маме повод язвительно посмеяться над мужем. Мне почему-то
казалось, что в кукоаровском ресторане кроме свиного шашлыка, сладких
рогаликов и печений подают что-то еще по-вкуснее и посытнее: иначе зачем бы
местным учителям ломиться в него и так яростно воевать за право посещать это
заведение?! Не было бы решительно никакой необходимости ставить у дверей и
часового (им оказался мош Петраке, дедушкин брат). Часовой ревностно
исполнял свои обязанности. Если перед ним был рабочий совхоза, мош Петраке
делал шаг в сторону и пропускал посетителя под гайдуцкий кров. Но ежели
видел, что в ресторан вознамерился войти работник не их хозяйства, то,
преградив ему дорогу, вежливо объяснял;
– Здесь питаются только совхозные механизаторы и прочие. Вы уж не
обижайтесь, но я получил на этот счет строжайшее указание.
К дверному косяку у мош Петраке была прислонена здоровенная пастушья
дубинка – единственное его оружие, приготовленное, видать, на случай ночного
штурма непрошеных гостей либо для тех, кто попытался бы игнорировать
малоразборчивое бормотание старика: мош Петраке так и не смог вернуть своей
речи членораздельность с тех пор, как отведал германских газов в первую
мировую войну.
Ко мне строгий часовой не применил своей власти: как-никак я был его
внучатым племянником, в жилах наших струилась родственная кровь. Могло быть
и так, что старик не сразу сообразил, к какой категории меня отнести. Кто
знает? Может, после долгих лет учебы я вернулся в родное село, чтобы
работать в совхозе каким-нибудь начальником над начальниками или после
отпуска руководить всеми из района. "Директива", полученная мош Петраке,
предписывала, чтобы районных работников он пропускал в ресторан
незамедлительно, не чиня им никаких препятствий. Думаю, что совершенно
безграмотному часовому трудно было разобраться, кто есть кто. Если б
руководителям совхоза пришла в голову простейшая мысль снабдить своих людей
специальными пропусками в ресторан, то мош Петраке пришлось бы передать свое
оружие, то есть дубинку, кому-то другому, ибо прочесть написанное в пропуске
он все равно не смог бы. Кажется, в душе-то он не прочь был оставить свой
пост: сдержанному по натуре, стыдливому, вежливому человеку мучительно,
совестно было останавливать человека перед дверью и учинять ему допрос.
Меня мош Петраке встретил с великой радостью, может быть, еще и потому,
что превращенная в ресторан мельница когда-то принадлежала нашей семье и что
для меня не было большего удовольствия, чем взбегать по лестнице и смотреть,
как мужики вносят наверх мешки с зерном и высыпают его в большой деревянный
ковш, похожий на бункер у нынешних комбайнов. По высветленной множеством ног
лестнице я стремительно спускался вниз, чтобы поглядеть, как течет струйка
муки по желобку в ларь либо в растопыренный мешок. Любопытно было видеть и
то, как от просеянной муки отделяются отруби, которые идут потом на корм
скоту и птице. Особенную же радость моим глазам доставляла пшеничная
мука-сеянка, потому что она была редкостью: ее готовили либо для поминок по
умершим, либо для свадьбы.
Много хлопот для мош Петраке доставлял я в ту далекую пору: он должен
был приглядывать за мною, следить, как бы этот дьяволенок не угодил в
барабан или не сломал ногу на ступеньках лестницы. По вечерам все время
окликал меня, искал по всем углам с "летучею мышью" в руках (это такой
фонарь, который обычно висел над жерновами). "Ну где же ты, куда нырнул,
мышонок паршивый?" – вопрошал мош Петраке, и когда ему удавалось изловить
меня, он погружал меня в мешок: пускай, мол, посидит там маленько. А когда
на улице была метель и холод проникал через щели внутрь мельницы, мош
Петраке устраивал для меня постель из мешков, еще теплых от только что
помолотой муки. Мука пахла поджаренным хлебом, и я наслаждался ее запахом.
Нередко я засыпал в такой постели.
Еще мне очень нравилось вертеться возле отца и мош Петраке, когда они
чинили мельницу. Теперь-то я понимаю, что взрослым не особенно нравилось,
что я кручусь у их ног и сыплю на их головы вопрос за вопросом, поскольку
находился в возрасте "почемучек". Почему, спрашивал я, толстый, как бочка,
дубовый столб, на котором держится все сооружение, называется "томаром"?
Почему дощатые щиты, прикрепляемые к крыльям мельницы при слабом ветре,
зовутся "задвижками"? Почему зубья у большого колеса делаются из сухого
ясеневого бревна, а вал с гнездами, в которые входят зубья, – из толстого и
тоже сухого ствола кизила? Почему выемка в барабане называется "гнездом"?
Почему плата за помол берется с каждой меры, и это называется "уюмом"?
Почему деревянное приспособление, с помощью которого поворачивается для
лучшего вращения крыл на ветру вся мельница, зовут "козлом", когда оно вовсе
и не похоже на козла?.. Мне хотелось побольше узнать и о чертях, и я
спрашивал, где же они прячутся на мельнице, почему я их не вижу, а бабушка
говорила, что их тут тьма-тьмущая, что их больше, чем мешков с зерном, – ну
где же они?!
Всякий раз, когда нужно было повернуть мельницу навстречу ветру, я
выскакивал вместе с отцом и мош Петраке на улицу. Делали мы это часто,
потому что ветер то и дело менял направление. При этом я спрашивал, почему
ветер дует то с одной, то е другой стороны. Почему, почему, почему?.. Тысяча
раз "почему"! Отец и мош Петраке не сердились, терпеливо отвечали и отгоняли
меня только тогда, когда набивали зубцы на каменных жерновах: осколки могли
попасть мне в лицо. Мне же до смерти хотелось посмотреть, как сыплются искры
из-под зубила. По душе мне было и другое зрелище: иной раз сильный ветер
срывал щиток с мельничного крыла и отбрасывал его далеко в сторону. С
верхнего этажа мне смешно было видеть, как, увязая в сугробе, мош Петраке и
отец пытаются изловить убегающий от них щит. Мне нравилось решительно все,
связанное с нашей мельницей. Нравилось наблюдать, как отец закрепляет ее,
ставит "на прикол", когда нет помола, как длинным тяжеленным ключом запирает
замок. Когда ветер был постоянным и умеренным и работа шла хорошо, мы все
усаживались на мешки с горячей мукой и слушали, как вращается главный вал,
как разговаривают все мельничные сочленения. То были минуты отдохновения:
развязывались торбинки, из них извлекались домашняя еда и бурдючок с теплым
кипяченым вином. Трапеза была тихой, умиротворяющей. При плохой работе
мельницы не было вокруг нас мешков с теплой мукой, внутри помещения
остужалось так, что замерзал хлеб в торбах. Мне же и мерзлый нравился, я
откусывал по кусочку и получал удовольствие, как от сосульки, свисающей
ранней весною с крыши дома или сарая. Но все же было лучше, когда все вокруг
заставлено теплыми мешками, они и еду твою сохраняли теплой; тепло как-то
было и на душе, тепло и весело. При подходящем ветре мельницу не
останавливали и ночью. С вечера и до утра в ней толпился народ. Люди
трудились, посмеиваясь друг над другом. Большая часть насмешек приходилась
на долю Тудоса Врабиоюл-Воробья за то, что тот уж очень труслив, боится идти
на мельницу через кладбище, делает большой круг, чтобы только не видеть
крестов на могилках. В свое оправдание твердит, что собственными глазами
видел однажды вышедшего из могилы мертвеца с цигаркой во рту. Слушая, мужики
потешались над чудаком, уверяли, что не мертвеца он видел, а лунное
отражение на стеклышке креста за железной оградой покойного помещика
Драгана. Но Тудос стоял на своем. Его страх иногда передавался и мне,
случалось, что и я поплотнее прижимался к отцовским штанам в ночное время
либо втискивался между отцом и мош Петраке, когда возвращались домой через
кладбище. Иной раз, прячась за отцовской спиной, я все-таки выглядывал: не
увижу ли того мертвеца с цигаркой во рту. Сердце при этом сжималось до
размера блохи, готовое, казалось, выпрыгнуть по-блошиному же из грудной
клетки. Однако никогда ничего не видел. Один только чугунный барин Драган
неподвижно торчал на одном и том же месте с ненастоящей цигаркой в губах.
Издали он похож был на огромного медведя с папиросой, и это страшно пугало
меня.
Иной ночью отцу и мош Пётраке приходилось по нескольку раз поворачивать
мельницу, чтобы она оказалась в лучшем положении относительно переменчивого
ветра. А когда погода устанавливалась, отец принимался за починку своих
валенок, так как новые русские валенки во времена румынской оккупации купить
было негде. Летом, чтобы их не источили вконец личинки моли, отец хранил
валенки в бочке с золой. Принимаясь за починку, отец обрушивался с матерной
руганью на румынских королей. "Даже такой мелочи, как валенки, и то у них,
паршивых, нету!" – бушевал родитель, и понять его было можно: зимой на
мельнице без такой обувки, как валенки, долго не просидишь, окоченеют сперва
ноги, а от них – и все тело. Меня отец пытался обогреть тем, что засовывал в
мои шерстяные носки пучки сена. А мош Петраке, так тот запихивал в свою
обувку, перевязанную проволокой, чуть не целую охапку соломы. Больше всех
страдал от холода, конечно же, отец. Поправляя мельницу, таская наверх мешки
с зерном, он сильно потел, а присев отдохнуть, тут же начинал мерзнуть.
Посылая проклятия румынским монархам, он сбрасывал с себя сапоги и натягивал
на ноги валенки, чиненые-перечиненые, так что уж и невозможно представить,
какими же они были, когда явились впервые на свет божий. В помощь валенкам
появлялся овечий тулупчик, набрасываемый отцом на плечи, – так-то и воевал
он с холодом. Однажды так вымотался этим одеванием и переодеванием, что до
срока закрыл мельницу.
Дул сильный ветер, мело. В снежной замяти ничего не было видно. Не
виден был даже церковный купол; в гуле и свисте вьюги гасился собачий лай.
Стоя у мельничного дышла – длиннющего бревна, чтобы с помощью "козла"
поворачивать мельницу, сообразуясь с направлением ветра, отец и мош Петраке
решали, в какую сторону пойти. Вспомнили, сколько раз поворачивали мельницу,
сколько и куда дул ветер, пригляделись, как поставлено ими дышло, и в конце
концов порешили, что будет вернее, если идти в плоскости этого направляющего
бревна. Отец прикрыл меня полой своего тулупа, ворча:
– Не мог поспать дома на теплой лежанке?! От чертенят, что ли,
научился шляться по ночам по такой погоде? Теперь иди дрожи как цуцик и
помалкивай!
Добродушно отчитывал меня до тел пор, пока не дошли до высоченных
сугробов снега у телеграфных столбов. Первым на них наткнулся мош Петраке.
Пораженный таким открытием, ахнул:
– Не зря, видно, вспомнились черти. Они нас попутали. Мы ведь идем
совсем в другую сторону!
– Черт сначала Отбил нам с тобой память, бадя Петраке! – отозвался
отец. – Мы забыли, что повернули мельницу еще раз, и дышло своим чертенячьим
хвостом указывало нам, дуракам, дорогу в сторону от села!...
– А говорили, что на нашей мельнице нет чертей?! – пискнул и я,
коченея от холода.
– И ты прицепился, как репейник! – шуганул на меня отец. – Показал бы
я тебе, где черти ночуют!..
Наткнувшись на чье-то гумно со стожком сена, согрелись там малость и
повернули обратно, теперь уже взяв верное направление к селу.
Я не рассердился на отца за его брань. Под отцовским тулупчиком мне
было тепло, а отец к тому же рассказывал мош Петраке интересную историю,
приключившуюся с ним во время одной зимней поездки. Повествовал о том, как
сбился с дороги и всю ночь крутился на санях на Ходжинештском холме. А когда
рассвело, то оказалось, что мучил он лошадей на одном и том же месте, на
меже, отделяющей наше поле от Ходжинештского. Слушая, мош Петраке
поддакивал. В зимнюю непогодь, уверял он, по ночам хозяйничают бесы. Это они
всюду крутят своими, хвостами и путают людей, сбивают их с дороги, в
особенности на межах, разделяющих селения: ведь там ничейная земля, нечистые
духи и захватывают ее. Там никто их не потревожит...








