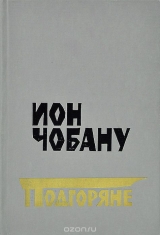
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
возводились обелиски – памятники павшим героям, и везде строители не могли
обойтись без этого белого металла.
Не хватало алюминия и для иных нужд. Архитектурные украшения новых
зданий, например, и не мыслились без него, но из-за алюминиевого кризиса
многим приходилось искать заменители, и замысел инженеров-строителей не мог
воплотиться в жизнь полною мерой.
Шеремет же достал-таки алюминий для памятников в его районе. Ну, а как
достал, лучше и не спрашивать!" Когда люди захотят помочь друг другу, они
найдут, как это сделать. Не было, скажем, бетонных столбов для
виноградников, но с одной московской фабрики привезли прямые как стрела
слеги, сделанные из вьетнамского бамбука. Позже та же фабрика освоила
производство цементных столбов (привозить бамбук за тысячи верст все-таки
накладно!). Но случилось это не скоро. Долгое время цемент был чрезвычайно
дефицитным материалом, так что легче было раздобыть бамбук во Вьетнаме, чем
цемент в молдавском местечке Рыбница, – и так было.
Я шел через лес узкою стежкой, прозванной "тропинкой Виторы".
Останавливался у какого-нибудь колодца, с бадьей с надписью: "Партизанский
колодец". Да, родные уголки входили в легенды: партизанский колодец,
партизанская поляна, партизанский овраг, партизанская роща... Посреди леса в
самое синее небо вонзилась стрела белого обелиска. Косые лучи заходящего
солнца падали на него и, отражаясь, рассыпались по поляне. Металлические
плиты переливались, как рыбья чешуя. У подножья памятника цветы, цветы,
цветы. Надпись на мемориальной доске указывала на то, что в этом как раз
месте, на этой поляне, партизаны вели жестокий бой с оккупантами. Не тут ли
где-нибудь оборвалась жизнь Митри Негарэ, о котором отец Георге Негарэ знает
лишь то, что сын его пропал без вести? А мои двоюродные братья, сыновья трех
маминых сестер, сложили свои головы – один на Одере, другой в Прибалтике, а
Андрей, сын тетки Анисьи, погиб под Кенигсбергом. Он был у нее единственным
сыном на целую ораву дочерей. Изба теъ-ки Анисьи напоминала женский
монастырь. Обабился как-то и Андрей. Прял на веретене, вязал носки и чулки
не хуже своих сестер, и неудивительно: с детства он видел лишь то, что
делают женщины, и перенимал их ремесло. И дружбу маленький Андрей вел
большей частью со своими ровесницами, а не ровесниками. Поэтому, ставши
взрослым парнем, он легко и просто сходился с девушками, нравился им за
такую смелость. Признаться, я сильно завидовал двоюродному брату, видя, как
увиваются возле него кукоаровские красотки.
У меня не было сестер. Не мог подружиться и со сверстницами на улице.
Нечаянно коснувшись их платья, я краснел и чувствовал, что у меня горят
ладони. Стыдился даже девичьей тени, упавшей на меня. Брат Андрей в отличие
от меня мог бы вполне быть назван бабьим угодником, он не постеснялся бы
почти голышом влезть на печку, где лежали девчата, и, растолкав их,
втиснуться между ними. И они бы не завизжали от испуга, потому что как он не
стеснялся их, так не стыдились и они его.
И все-таки эта близость не выходила за черту, за которой находился
таинственно-сладкий миг любви. Андрей и ушел из жизни, так и не став
мужчиной. Он погиб под Кенигсбергом, и тетка Анисья поехала, чтобы побывать
на его могиле и привезти оттуда хотя бы малую горсточку земли.
Мама рассказывала, что ее сестра вернулась со свидания с сыном страшно
постаревшей. Много дней не подымалась с постели, говорила, что ей не хочется
жить. Не вернувшиеся с войны мои земляки на фотокарточках, вывешенных в Доме
культуры, были как живые. Большинство сфотографировалось в военной форме, в
пилотках с пятиконечной звездой, с орденами и медалями на гимнастерках. Лишь
немногие – в гражданской одежде. На щите не было только тех, кто, уходя на
войну, не успел сфотографироваться. Но и для них оставлены рамочки с
подписями. Пустые эти "глазницы" обжигали сердце смотревшего на них. Под
одним таким окошечком значился и сын тети Анисьи, Андрей. Там указано его
имя, отчество, год рождения и год гибели. Облик исчез бесследно. Навсегда.
Он будет стоять лишь в глазах матери. И с ее смертью канет навеки.
Видел и я его живого, но помню как-то смутно, расплывчато. Отчетливо
вставала лишь смешная сценка, как он ссорился со своими сестричками из-за
пенки молокэ, из-за мамалыжной корки в горячем еще чугунке, когда тетя
Анисья собиралась вывалить из него круг дымящейся мамалыги. Во всех таких
случаях тетя Анисья набрасывалась на дочерей, брала сторону сына. Но за
мамалыжную корку доставалось и ему:
– Чтоб я больше не видала, как ты запускаешь грязные свои лапы в
чугун!.. Разве ты забыл, что я тебе говорила: кто снимет шкурку с мамалыги и
съест ее, навеки останется нищим?!
Тетке Анисье очень хотелось, чтобы сын ее был богатым человеком.
Девочки ее не очень беспокоили: что с ними будет, то и будет! Пускай жрут
мамалыжную шкуру! Но за сыном следила, отгоняла его от чугуна! И что же? От
всего богатства Андрея осталось одно лишь его ими под пустой рамочкой на
мемориальном щите в Доме культуры. Пропал малюсенький снимок и из его
воинского билета. Любимец матери, сестер, всей семьи, он не мог сохранить
себя для них. Не уберегла его от гибели и неизбывная материнская любовь. А
мне очень хотелось посмотреть на его фотографию. И непременно в военной
форме, в гимнастерке и пилотке с пятиконечной звездой.
В лесу, по которому я сейчас шел, мы не раз бывали с Андреем. И было у
нас немало приключений. Взял как-то нас с собой собирать кизил бадя Василе
Суфлецелу (дедушка отчаянно ругал его за то, что тот не может обойтись без
маленьких "стригунков", что шагу не сделает без этих сопливых чертенят). И
правда, бадя Василе, видать, на всю жизнь сохранил детский ум и детские
забавы. Лазал с ребятишками по оврагам в поисках кладов, ставил вместе с
ними капканы на зайцев и лисиц. Надеялся отыскать и показать нам затейливое
жилище барсука, его нору с запасными выходами на случай нападения врагов. В
душе-то планировал изловить этого хитрого зверька, жир протопить, а пышную
серебристую шкуру продать на базаре. Кладов, конечно, бадя Василе никогда не
находил, да, пожалуй, и не верил в их существование, иначе не устроил бы
ловушки, в которую попался Иосуб Вырлан. Пробрался однажды ночью бадя Василе
на поле Иосуба, вырыл там яму и замуровал в ней старый бочонок с десятком
медных монет времен царицы Екатерины Второй, а своих односельчан
предупредил, чтобы они вышли и подсмотрели, как Вырлан будет отрывать
"клад". Подстегнутые неискоренимым чувством любопытства, люди вышли за
окраину села, спрятались на краю оврага и, затаившись, наблюдали, как хозяин
поля выворачивает из-под земли бочонок, потрошит его и вовсю бранится:
"Мерзавцы! Грабители!.. Обобрали мой клад... Оставили несколько монеток, а
золото и серебро забрали!.."
Ну так вот: бадя Василе брал нас с собой в качестве своих незаменимых
помощников. Исполненные чувства благодарности к нему за то, что не чурался
нашей компании, мы трудились изо всех сил, чтобы наполнить кизилом два
здоровенных его ведра. Надо было знать этого мужика: он таскал нас по всему
лесу, от одной поляны к другой, от одних кизиловых зарослей к другим. В
каком-то месте ему казалось, что кизил не дозрел, в другом – что он очень
мелкий. Вот и мучил и себя, и нас в поисках лучшего кизила, чтобы Аника
сварила из него варенье. Во время этой кизиловой охоты бадя Василе учил нас
делам далеко не безгрешным: вернетесь, мол, домой, насыпьте в карманы
кизила, а вечером мажьте им девичьи щеки. Лучше бы, конечно, груди, добавлял
он, но вы-де еще не доросли, чтобы лезть к девкам за пазуху. Советовал
подсовывать к нежной девичьей коже и растертые листья кизилового дерева. Они
не так жгучи, как, скажем, крапива. Не оставляют и волдырей, зато на
какое-то время вызывают страшный зуд, и ребятам доставляет великое
удовольствие видеть, как чья-нибудь невеста или возлюбленная "чухается" на
виду у кавалеров. Что касается меня и моего двоюродного брата, то мы были
пока что очень маленькими для таких проделок. К тому же было не до забав:
бродя по лесу целый день, мы валились с ног и от усталости, и от голода
Мечталось о корочке хлеба, которую проглотил бы не разжевывая, как давно не
кормленный щенок. Убежать домой не пришлось: могли заблудиться, от
бесконечного блуждания по лесу у нас кружились головы, и мы не знали, в
какой стороне находится наша Кукоара. Под вечер, когда мы возвращались
домой, мама спрашивала, где Мы шлялись целый божий день. Но рты наши были
заняты едой, на которую мы с Андреем набрасывались, точно волчата.
– Да не донимай ты их своими расспросами! – вступался за нас отец. -
Еще подавятся.
Лишь покончив с поздним обедом, а точнее бы сказать, с ужином, мы хором
и с расстановкой произносили одно-единственное слово:
– Ки-зил!..
– Вы ходили за кизилом?
– Ага-а-а... в лес...
– С кем же? Скажите, пожалуйста!
– С бадицей Василе...
– Ну, задам я этому бадице!..
– Ну, ну, зачем же так?! – Отец, этот вечный миротворец в доме,
остановил маму. – Чем же плохо то, что Суфлецелу поводил ребятишек по лесу,
показал им хорошие кизиловые места и накопил в них волчий аппетит?
Насытившись, и Андрей не будет нынче драться со своими сестрами из-за пенок
и сливок. У себя дома Андрей ведет себя так, как ведут все баловни, -
чрезвычайно капризен в еде. А тут все подмел подчистую, что бы ни подали на
стол! За это не ругать – благодарить надо бадю Василе! Голод не тетка, к
тому же и лучший повар. Андрей ел так, что за ушами трещало!-
Вспоминая это, я медленно шел по тропинке старой отшельницы Виторы.
Сколько времени прошло, а я все не мог примириться с тем, что никогда уж не
выйду в этот лес со своим двоюродным братом и другом Андреем. Капризный
истребитель сливок и сметаны, женственно-нежный маменькин сынок, как же мне
не хватает тебя! Где ты? Чего не откликаешься? Отзовись!
Брат не отзывался. И лес хранил сумрачное молчание. В иной час оно было
бы лучшим врачевателем человеческой души. Когда человек нуждается в
одиночестве, лучшего товарища, чем лес, ему не найти. Но когда ты идешь и
память твою сопровождают тени ушедших из жизни близких людей, одиночество
становится невыносимым и ты был бы несказанно рад услышать в такую минуту
живой человеческий голос. И я услышал его, приближаясь к опушке леса.
То был голос Иосуба Вырлана. Никто бы, кажется, не пожалел, если б эта
крайне несимпатичная личность исчезла из Кукоары навсегда и бесследно. А я
вот даже обрадовался, увидев и услышав его! Он стоял, прислонившись спиною к
стволу дуба, и вел какую-то беседу с тетушкой Виторой. Эта похожая на
бабу-ягу отшельница привела сюда попастись своих коз и, надглядывая за ними,
слушала болтовню Иосуба.
Кукоаровский пожарник пришел к вдовушке в полной экипировке: в
широченных брезентовых штанах, в куртке из "чертовой кожи". Металлический
сверкающий шлем он снял со своего лысого черепа, но двухвершковый поясной
ремень был застегнут на самую дальнюю от начала дырку. Он, конечно, страдал
от жары и лесной духоты, но стоически терпел, лишь губы высыхали, и Вырлан
все время облизывал их.
– Послушай, Витора.
– Эй?..
– Я уже не работаю в школе-
– Слыхала.
– Откуда бы тебе услышать?
– Есть откуда, раз услышала.
– Гм... Люди, что ли, болтают?
– Если ты лазаешь по всем чердакам, люди не будут молчать]
– Гм...
– Лучше, если б ты оставался в школе.
– Ты, Витора, вижу, не знаешь, что теперь в школе нету печек. Там
сейчас центральное отопление.
– Остался бы конюхом.
– Вот глупая баба!" Зачем бы мне быть конюхом?!
– Был бы при деле – не лазал бы по чердакам, как мартовский кот.
– Но у меня теперь хорошая зарплата!.. Теперь не найдешь таких
дураков, которые работали б за шестьдесят два рубля и пятьдесят копеек!"
Шестьдесят два – это еще понятно. Но ума не приложу, откель наскреб директор
эти пятьдесят копеек?
– Сколько же теперь тебе отваливают? – поинтересовалась Витора.
– В два раза больше, чем в школе. И главное – без копеек. Круглая
зарплата!
– Зарплата, слов нет, подходящая, – согласилась старуха. – Плохо
только, что все время ссоришься с людьми.
– Ну и глупа же ты, Витора!..
– Зачем же разговариваешь с глупой? Иди своей дорогой, а от меня
отвяжись!..
– Да ты не сердись!.. Я ить пришел к тебе с серьезными намерениями...
– Не нуждаюсь я в твоих намерениях...
– Сыну построил новый дом, отделил его -
– Не перееду я к тебе – и не подмасливайся!
– Ну, поступай как знаешь. Только я хотел жениться по-настоящему. При
своей должности возвращаюсь домой весь в саже, а мне даже рубашку
простирнуть некому... Разве ж это жизнь?!
– Ищи себе другую прачку. А я пожила с тобой и хорошо знаю, что ты за
фрукт!
– Все течет, все меняется, – вымолвил Иосуб философски-раздумчиво, -
Сына, говорю, отделил. Теперь нам никто не помешает жить в мире и согласии.
Будешь в моем доме полной хозяйкой. А так что же, разве ж гоже тут одной...
в лесу?
– Ишь, какой радетель отыскался! Нет уж, милый, пожалей кого-нибудь
еще, а меня оставь в покое. Отправляйся в село по тропинке, по которой
пришел сюда, не то собаку на тебя спущу!..
– Твоя собака знает меня, – усмехнулся Вырлан.
– Поглядим. – не позабыла ли?!
Тетушка Витора оставила веревку с козами и направилась к проволоке, к
которой был прицеплен ее пес.
– Эй, эй!.. Никак ты с ума сошла! – испугался Иосуб.
– Уходи, говорю, по-хорошему!"
– Ухожу, ухожу... Но и ты не забывай, что одежда на мне казенная,
государственная!"
– Наплевать мне на нее, на одежду твою!-
– Мне придется за нее отвечать! – возопил Вырлан.
– Тогда уходи побыстрей. Катись, милок, е твоей зарплатой!
Может быть, у Вырлана отыскались бы какие-то еще, более убедительные
доводы, чтобы задержаться возле вдовушки, но на поляне появился мош Саша
Кинезу. Со своей неизменной кожаной сумкой на бедре он пас скот в лесу. Его
поднадзорные вышли на поляну и вознамерились было полакомиться кукурузой в
огороде тетушки Виторы. Чтобы избежать скандала, мош Саша с его больными,
красными, как у кролика, слезящимися глазами бросился отгонять непутевую
скотинку и, будучи близоруким, чуть было не наскочил на коз.
Иосуб Вырлан спрятался за дуб и, пропустив мош Сашу, прытью отправился
в село. Я же присоединился к мош Саше Кинезу, помог соседу выгнать скотину
из лесу на широкую проселочную дорогу и под звон колокольчиков на шее коровы
и теленка двинулся домой.
По дороге мош Саша, человек, в общем-то, очень неразговорчивый, пояснил
мне, что привязал эти тронки к шеям животных потому, что к старости стал
плохо слышать и видеть. Звоночки указывали ему, где в данную минуту пасутся
его корова и телок
Получив эти сведения, я уже ни о чем больше не спрашивал старика.
Распрощался с ним у наших ворох.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
В Кукоаре существует поверье: чего больше всего боится человек, того и
не минует. Паче всего я опасался попасть на дедушкин язык при всегда
неожиданных визитах Сабины. А она, взбалмошная девка, тут как тут! Что с нею
поделаешь? Стоит как ни в чем не бывало передо мною и моим дедушкой,
потряхивает косичками с подвязанными к ним капроновыми ленточками
апельсинового цвета и торжественно объявляет:
– Это я опять пришла к вам!
Покажи она мне язык, как делают дети, я бы даже не рассердился, что
поделаешь с глупым дитятей?! Но перед нами была разнаряженная барышня и
держалась так свободно и непринужденно, будто была тут не гостьей, к тому же
не шибко желанной, но хозяйской. Оглядев нашу работу, по-хозяйски же
поощряла:
– А вы пойте. Мне нравится. Я услышала со двора сестры, как вы поете,
и пришла.
Рожденный от кошки должен ловить мышей. Истинно сказано. На этот раз
Сабине хотелось понравиться и дедушке. Для этого сменила "штаны из чертовой
кожи", то есть джинсы, на новенькое платье. Приди она в брюках, старик,
глядишь, и турнул бы ее со двора. А так глядел, как на живую куклу:
– А чья же ты будешь, барышня?
– Из Кибирьского роду, дедушка. Кибирево семя! – засмеялась отчаянная
деваха.
– Так это ваша сестрица заманила в свои сети младшего сынка Саши
Кинезу?
– Она, она, мош Тоадер! Моя старшая сестра Федуце затуманила голову
мизинчику мош Саши!
– Хороши же вы фрукты!
– Хороши, мош Тоадер.
– Гм... Все; знать, перевернулось вверх тормашками. Где это видано,
чтобы девки сами приходили к парням?! Если б твоя ухватистая сестрица не
заморочила голову этому Феодорике, остался бы он навеки холостяком, как мой
брательник Петраке... Нелюдимы эти Кинезы! Их пока не взнуздаешь й не
набросишь им на глаза бабий платок, они так и останутся неженатыми!-
Сабине нравились дедушкины слова. Она хохотала от души и вертелась
возле бочек. Не вертелась, а пританцовывала, закинув руки за спину.
Вальсировала среди тары, как среди,ресторанных столиков. Раздувая платье,
останавливалась перед стариком, кокетливо подмигивая. Как бы невзначай
сунула в одну бочку букетик цветов.
– Вот... Вот!.. Коровья образина!.. Невеста приходит к нему со своими
цветами!– Ну и времена!
– Вам не нравятся цветы, мош Тоадер?
– Я, доченька, вроде староват для них. На могилку принесешь.-
Сабина выхватила из горловины бочки букет, разделила его на отдельные
стебельки. Один цветок сунула дедушке под нос, а остальные распределила по
всем бочкам и бочонкам.
– Эй ты, сорока!.. А ну, собери свои цветы! Им нечего делать в бочках.
Они не для этого предназначены. И в амбаре своем я не держу цветов. Ежели ты
пришла одурманить голову моему внуку, то им и займись, а меня оставь в
покое!.. Он ведь форменный баран, его легко околпачить!.. А цветы убери, я
чихаю от них, как сопливая овца!.. Пришла к внуку... ну что ж, дело ваше
молодое... Вы оба городские булочники... любуйтесь цветочками, как городские
мамзельки... А я уж как-нибудь обойдусь без них, без цветов... Займись,
говорю, этим ослом!..
– Я только на одну минуточку, мош Тоадер!.. Хочу попросить его
написать за, меня заявление. Хочу пойти учиться...
– Я не вмешиваюсь в чужие дела. Вол на вола мычит, дурак к дураку
спешит... Ваше дело! В мое время с цветами ходили только парни к девкам, а
не наоборот!..
Сидя в своей бочке, я слышал весь этот диалог и больше принимал сторону
дедушки: мне самому не очень-то нравилось, когда девушки приходят к
потенциальным своим женихам с букетами цветов. Зная, что так просто от этой
гостьи не отделаешься, я вылез из своего убежища, взял из рук Сабины бумажку
и написал заявление на углу завалинки. Писал и удивлялся, что такая
отчаянная девица не отважилась попытать счастья на экзаменах в каком-нибудь
кишиневском высшем учебном заведении, а решила поступить в Каларашское
педагогическое училище. Помимо того, что это было все-таки училище, дающее
хоть и специальное, но все же среднее образование, а оно у Сабины уже было,
в Калараш добираться было сложнее, чем в Кишинев, куда по хорошей
асфальтированной дороге регулярно ходили автобусы. А ездить зимой студентам
приходится часто, чтобы пополнить свои продовольственные запасы, нагрузить
сумки салом, разными пышками, пирогами, банками с вареньем и повидлом. Я
указал Сабине на этот далеко не маловажный факт. Но она реагировала на это
нервно и ядовито-насмешливо:
– А что, без института не могу понравиться вам?
– Дело не в том, понравишься мне или не понравишься. А вот после
получения аттестата зрелости писать заявления надо бы самой, – ответил я
колкостью на колкость.
Допускаю, что Сабина использовала заявление,, как предлог, чтобы
заглянуть ко мне. Но ведь точно с такою же просьбой ко мне обращались многие
десятиклассники, юноши и девушки.
Что касается бумажной макулатуры, то в ней недостатка мы не испытываем.
Извержение всяческих бумаг по всякому поводу можно сравнить разве что с
вулканическим. Однако по-настоящему грамотных среди грамотных у нас не
густо. Дети едва ли не с первого класса переходят на иксы и игреки, а
окончив десять классов, не в состоянии самостоятельно написать простейший
документ, заполнить анкету, изложить внятно собственную биографию. Да что
там десятиклассники – далеко не все с высшим образованием умеют это делать!
Бегут за помощью к полуграмотному секретарю сельсовета: у того нет диплома,
зато есть хватка толково излагать мысль в официальных документах, в разного
рода заявлениях, анкетах, договорах, обязательствах, актах. Задумали парень
или девица поехать в город, чтобы научиться какому-либо ремеслу либо
выхлопотать какую-нибудь немудрящую справку – сейчас же бегут морочить
голову секретарю, а она у него и без того заморочена другими бумагами,
волнрю накатывающимися на множества районных инстанций.
Принесла вот цветы... А откуда она взяла, что за написание примитивного
заявленьица мне нужно преподносить цветы?! Черт знает что!..
Тут же вспомнил, что старшая сестра Сабины до замужества всегда носила
с собой цветы, обернутые платочком. Это были васильки, георгины, барч-хатцы,
чаще же всего – мята с ее одурманивающим запахом. Платок был под стать
цветам – нарядный, с шелковистой бахромой. Девушка старалась попасться мне
на глаза, потанцевать со мной. Танцуя, клала на мое плечо кулачок с зажатым
в нем платком с цветами. Когда это были не цветы, а мята, чуть привянувшая,
у меня кружилась голова. Дурманили и цветы васильков, и бархатки, и я потом
ходил как пьяный. Но старшей сестре Сабины и этого было мало. Выходя в
хоровод, она нарочно оставляла на лице немножко душистой,., мыльной пены,
чтобы кавалеры видели, что она умывается дорогим туалетным мылом, – об этом
уже было сказано. И пудрилась Сабинина сестрица так, что была похожа на
мельника. Словом, модничала как умела... Сабина, видать, пошла по ее стопам,
заявилась к нам с букетиком цветов. Известное дело: яблоко от яблони
недалеко падает...
Мне бы, пожалуй, не следовало сердиться на Сабину. Не сердился же я на
ее сестру, когда часто видел ее возле дедушкиного колодца. Не только, не
сердился, а выходил к ней, чтобы обмолвиться ничего не значащими словами.
Болтали потихоньку, пока она наполняла свои ведра. Иной раз она загадочно
улыбалась мне, будто между нами существовала какая-то тайна. А никакой тайны
не было! Глупые и неловкие, мы ничего не сделали, чтобы она была, тайна!..
Нет, глупым был лишь я один, потому что не мог понять скрытого смысла ее
загадочной улыбки. А она?.. Что ж, не всякая даже самая смелая девушка
отважится сделать первый шаг. Он остается за мужчиной, за парнем. А я был и,
кажется, остался непонятливым дурнем, за то теперь и расплачиваюсь
одиночеством...
Пришла как-то к нам мамина племянница, дочка тетки Анисьи, моя, значит,
двоюродная сестра. Отозвала меня в сторонку, шепчет: "Заходи к нам. Скажу
тебе что-то". И я пошел. С той поры, как погиб Андрей, я часто приходил к
тетушке Анисье, чтобы помочь ей в делах, требующих мужских рук: подправить
ли крышу свежими снопами камыша, скосить ли пшеницу, которую мне же
приходилось сторожить по ночам, поскольку тетушкино поле находилось в
отдалении: мужики из соседнего села, зная, что эта полоска принадлежит
вдове, потихоньку потаскивали у нее из крестцов снопики пшеницы и ржи.
Случалось, помогал маминой сестре и сеять озимую пшеницу. Взрослые дочери
тетушки умели пахать и боронить, но сев мать им не доверяла, считая, что
мужик сделает это лучше.
Так что я не удивился, когда двоюродная сестра Фенуца позвала меня к
себе. Только не нравились мне ее лисьи повадки, да и внешность была далекой
от того, чтобы полюбоваться ею. Был у этой тетки нос длиною в дышло, и
все-таки его обладательница выпендривалась, словно какая-нибудь фрейлина с
царского двора. Приглашая меня, она делала это с какими-то дьявольскими
ужимками, но я не придал им решительно никакого значения. Словом, пришел к
ним домой и удивился тому, что двор был пуст, на всех дверях избы и сараев
висели замки, а за стеклом окон виднелось множество горшков и бутылок. Тетя
Анисья ужасно боялась воров, и, когда уходила из дому, она не только
запирала все двери, но и ставила на подоконники массу горшков, кувшинов,
фляг с молоком и без молока – выставляла как бы напоказ всю домашнюю посуду
и утварь. Расчет у тетушки был простой: полезет воришка через окно в избу,
наделает такого шуму, что сразу же либо убежит с испугу, либо его прихватят
на месте преступления. Дедушка поругивал дочь за такие оборонительные
сооружения, но ему скоро надоело это занятие, и он махнул рукой: пускай
делает, как ей заблагорассудится!
Все это так. Но зачем же покликала меня на свое подворье двоюродная
сестрица? Остановившись посреди двора, я даже выругался с досады. Не успел и
подумать обо всем как следует, как увидел бегущую от калитки старшую сестру
Сабины. Она плакала, а в руке все-таки держала букетик цветов, завернутый в
нарядный платочек. Звали ее Наталицей, это была одна из дочерей несчастного
Кибиря.
– Что случилось, Наталица? Отчего ты плачешь?
– Я люблю тебя, Тоадер!..
– ?!
– Солнышко ты мое!
– Ну и люби на здоровье.
– Ой, что же мне делать?.. Я ведь обещалась ждать Феодорике, сына мош
Саши Кинезу... Ждать, пока не вернется с войны!.. А сейчас он в госпитале...
– Обещалась, так и жди!.. Почему же не ждешь?..
– Ох, боже!.. Что мне делать?!
Мимо двора проходили люди, а она ревела и ревела. Мучает в руках
букетик и плачет. Попробовал утешить ее ласковыми словами, похвалил за
верность, которую она хранит одному из сыновей мош Саши. Чтобы избавиться от
прилипчивых глаз прохожих, вывел Наталицу в огород тетеньки Анисьи с его
бесчисленными запущенными кустами крыжовника, смородины и малины. Заглянув
сюда, любой сейчас же узнал бы, что огородишко этот принадлежит вдове.
Искренность и порывистость, с которыми призналась девушка в любви, не
могла не взволновать и меня. И я говорил ей какие-то нежные, мало, впрочем,
связанные между собой слова, а в душе проклинал двоюродную сестру, которая
подстроила мне это свидание со своей подружкой. Говоря всякие нежности, я
все-таки увещевал Наталицу, чтобы она оставалась до конца верной своему
слову относительно Феодорике. Но девушка не слушала, твердила как безумная
одно и то же:
– Да я же люблю только тебя одного!..
– Ну... пожалуйста... люби!.. Я не могу запретить ..
– Но я же дала слово Феодорике?!
Опять двадцать пять, как сказали бы в народе... Что бы ни делал, куда б
ни пошел, непременно попаду в какую-нибудь историю. Твердит, глупая, что
любит меня, но и не может нарушить данного Феодорике слова. Да и легко ли
его нарушить! Ведь она поклялась парню, когда, провожая на фронт, повязывала
его полотенцем, поклялась быть верной ему до гробовой доски. Война
кончилась, а Феодорике все не возвращался. Мотался, бедняга, по госпиталям
после тяжелейшего ранения. А Наталица ждала и ждала. Ждала, а любила,
оказывается, другого. Но что ему-то делать, этому другому, которым был я?
Получается по лукавой пословице: "Эй, Тоадер, ты любишь девушек?" -
"Люблю". – "А они тебя?" – "И я их!" Я мог, конечно, говорить Наталице
ласковые слова, даже прижимать ее трясущееся от рыданий плечо к своему
плечу, но был к ней совершеннейшим образом равнодушен. И об этом ее
неожиданном признании на тетушкином подворье вспомнил много лет спустя. А в
ту пору любил другую девушку. И как бы просторно ни было человеческое
сердце, оно не может поместить в себе сразу две любви...
Теперь Наталица стала моей соседкой. Вышла-таки замуж за "мизинчика"
мош Саши Кинезу. В эти тоскливые для меня дни я часто видел ее. То она
приходила к дедушкиному колодцу за водой, то бегала перед нашим домом за
теленком, "отбивая" его от коровы, чтоб не выдаивал ее, то развешивала белье
на своем дворе и украдкой поглядывала на меня через перегородку, то судачила
возле калитки с другими женщинами. Она сделалась еще красивее, чем до
замужества. Встречаясь, я сухо здоровался, иной раз и разговаривал с нею,
понимал, что так и должно было быть. И все-таки чувствовал, что на сердце
ложится томительная боль, вызванная воспоминанием о давней встрече с
прелестным этим существом на тетушкином огороде. Я хотел бы забыть, но
такое, видно, не забывается...
Не по совету ли старшей сестры зачастила к нам Сабина? Впрочем, она и
прежде заглядывала к нам, но больше для того, чтобы получить совет от мамы,
как наносить узоры на вышивках, – приходила так, как приходят к родным
тетушкам. А вот с цветами заявилась впервые, что и взбесило меня. Что это -
наивность или выверенный загодя ход? За этой Сабиной с букетиком я видел
Нину Андреевну, учительницу. Слышал отчетливо ее слова: "Вы сомнете цветы!"
Сабина беззаботно болтала с дедушкой и одновременно орудовала острым
ножом, измельчая лекарственные травы. Дедушка вынес ей связки сухой
ветреницы, травы татина, пожарницы. Девушка дробила их и тонким пальчиком
засовывала в узкие горлышки бутылок с самогоном из винных дрожжей. Дедушка
наблюдал за ее работой, как главный фармацевт на фабрике лекарств. Строго
следил за тем, как бы Сабина не напичкала в бутылки своих васильков и мяты.
А она, видя его настороженность, еще и поддразнивала:
– Мош Тоадер!.. Вы не будете против, если я добавлю в ваши бутылки
немножечко своих цветов?.. Ну, чуток мяты, чуток акациевых лепестков,
липовых... Они тоже лечебные! Не возражаете? Могу и ромашки... Ну, как вы на
это?..
– Водку с мятой лакали только купцы, коровья твоя образина!.. Дули ее
из глупой гордости!.. Отхлебывали наперсток зеленой гадости, закусывали ее
бубликом.– Засовывали пальцы в карманчики жилеток и орали, как будто
побывали на свадьбе! А я тебе не городской бубличек с бумажными кишками!.. Я
готовлю свой напиток как самое лучшее лекарство... Так что ты гляди,
бесенок, не перепутай мне травы!..
Голос Сабины делается для меня похожим на Нинин. Я поглядываю, как она
колдует вместе с дедушкой над его травами и бутылками, как смеется,
предлагая подбросить в них и своих цветов. Испрашивала разрешения кинуть их
в святую водицу – тогда, мол, она уж ни за что не испортится.
– Святая вода не портится, коровья образина! На то она и святая. Ты,
сорока, знать, забыла, что эта вода из моего колодца?!
– Любая вода портится, мош Тоадер. – Любая портится, а моя нет.
– Вода, мош Тоадер, есть вода. Она всегда тухнет, когда ее долго
держишь в закрытой посуде. А попы не дураки. Они святят воду в серебряном
кубке, и, прикоснувшись к серебру, вода не протухает.
– Попы святят воду в моем чану у моего колодца, паршивка! В самые
лютые крещенские морозы люди палят из ружей, а поп опускает большой
серебряный крест в воду...
– Aral Все-таки серебряный! – торжествовала Сабина.
– А ты не перебивай старика, соплячка!.. Это вы в своих школах святите
воду в серебре, а потом кидаете карандаши в мой колодец... И какой мерзавец
придумал такие – не гниют даже в воде!








