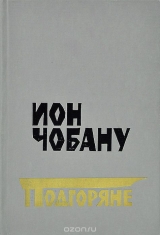
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
этажи. В некоторых домах их было пятнадцать и даже двадцать. Когда же они
успели вырасти, с удивлением думал я, кто их поднял к небесам за этот, в
сущности, очень короткий срок? Горделивыми великанами стояли они среди
старых построек, одним своим видом прижимая эту древность еще ниже к земле.
Никэ теперь вел мотоцикл осторожно, не спеша. Ворчал на великое множество
уличнодорожных знаков, в которых не вдруг разберешься.
– Как увидишь на углу улицы "кирпич", так и знай: тут где-то близко
горком или горисполком. Перед райкомами и райисполкомами – тоже "кирпичи".
Можешь и не спрашивать, где тут находятся самые важные городские и районные
партийно-советские учреждения. Легко бы нашел их по этим самым "кирпичам",
да вот только за них въезжать нельзя: гаишники враз сцапают и потребуют
водительские права! Дальше ты должен добираться пешком. Так что не
рассчитывай, Тоадер, что я тебя подкачу прямо к нужному дому!-
Сам я никогда не имел дел с дорожными (автоинспекторами, решительно не
разбирался в их предупреждающих знаках. А сейчас у меня не было и нужды,
чтобы Никэ подвез меня к самому входу здания, в котором размещался
Центральный Комитет Компартии Молдавии. Мне хорошо был известен дом на
Киевской улице. Это было одно из красивейших и старейших сооружений
Кишинева. Мне были знакомы в нем все лестницы и все кабинеты. Я знал цель, к
которой рвался всей душой, – это отдел кадров. Знал и комнату, в которой
находился секретарь ЦК, отвечающий за кадры партийных работников. В ней я
побывал, когда меня утверждали первым секретарем райкома комсомола, и тогда,
когда посылали на учебу в Москву. Всякий раз я поднимался по одной и той же
мраморной лестнице, чтобы заполнить разные анкеты и написать автобиографию.
Среди этих бумаг главной был листок по учету кадров. И порядок был известен:
сперва тебя вызовут для предварительной беседы (ознакомительной, наверное);
ожидая своей, очереди в приемной, ты будешь прикидывать в уме, какие вопросы
могут быть заданы тебе, как надо отвечать на них и вообще как будешь
держаться перед членами бюро. Могут спросить и о книгах: что читаешь?
Поинтересуются и тем, как я знаю Устав партии. Обязательно спросят и о том,
какие вопросы обсуждались и какие решения приняты на том или ином съезде
партии, на последних пленумах и конференциях.
В вопросах теоретических я чувствовал себя более уверенным, чем в
практических. В повседневной жизни партии, так же как и в жизни всего
народа, произошло и происходит много изменений, возникает множество новых
проблем, ставятся все новые и новые задачи и перед республиканской партийной
организацией. Какие они, эти задачи, скажем, в промышленном или
сельскохозяйственном развитии Молдавии? Еще поднимаясь по ступенькам
мраморной лестницы, я убедился, как же я отстал от времени. Не знал даже
того, что должность секретаря ЦК по кадрам давно не существовала. И отдел
кадров преобразовался – и тоже давно – в отдел, который занимался вопросами
организационными. И находился он в противоположной стороне здания, а вход в
него был со двора, через сад: чтобы попасть туда, мне пришлось сделать "от
ворот поворот", обогнуть огромный дом, зайти в него с тыльной стороны через
калитку. К входной двери шел под высокими – вишневыми деревьями, мимо
газонов с цветами, по асфальтированной тропе. Сообщив о своем прибытии,
удобно уселся в кресле перед низеньким круглым столиком в фойе и стал ждать
вызова.
Проходило много озабоченных чем-то людей. Впрочем, по лицам их нетрудно
было и определить, чем именно озабочены: приближались Октябрьские торжества.
Город одевался в праздничные одежды. На всех улицах видны были флаги,
плакаты, лозунги, транспаранты. По главным проспектам уже висели провода с
разноцветными лампочками, готовыми вспыхнуть в любую минуту. Атмосфера
подготовки к торжествам царила, видимо, и в кабинетах громадного здания, где
помещался главный партийный штаб республики. Помимо озабоченности на лицах
работников было и удовлетворение: все подготовительные дела подходили к
завершению. Откуда-то появилось множество Знакомых, дружественно улыбающихся
мне товарищей. Бывшие мои коллеги по комсомолу работали здесь инструкторами,
лекторами, районными инспекторами.
– А-а-а!.. Фрунзэ!.. Ты уже видел Бурдюжу?
– Нет.
– Как, ты еще не виделся с ним? Ну, брат! Бурдюжа теперь важная птица!
Подожди минутку... я ему сейчас позвоню!.. Сообщу, что ты приехал в
Кишинев!..
– Привет, москвич!.. Ты знаешь, что Алеша работает секретарем в
Рыбнице?
– Нет, не знаю.
– Как не знаешь?! Вы же работали с ним в райкоме комсомола!.. А
Вася... Ты знаешь, что он умер? И этого не знаешь... Вы ведь вместе сдавали
экзамены в Москве!..
– Его не приняли. Помню, что у него было что-то с легкими!..
– Да-а... Он потом работал здесь. Но очень болел...
– Жаль! Вася был совсем молодым...
– А Володю помнишь?.. Сейчас он в посольстве секретарствует. Он у нас
дипломат. Так-то, браток!
– Лунгу работает в Совете Министров!
– Ну, хорошо.. А Жосула ты видел? Он работает редактором вечерней
газеты. Я сейчас же ему позвоню!..
– А Лену?.. Как, и с Леной еще не виделся? Погоди секундочку... Я
сейчас позвоню ей по внутреннему телефону. Скажу, что ты у нас. Она тут, на
втором этаже... Замуж еще не вышла... Минуточку!
– Ну что, Фрунзэ? Может быть, ты не знаешь и о том, что восстановили
ваш районный центр?
– И Шеремет вернулся в Теленешты? – выкрикнул я в потоке обрушившихся
на меня вопросов.
– Какой Шеремет? Первым секретарем в Теле– нешты поедет главный
инженер из "Молдсельхозтех-ники". Он сам из Лазовского района. Это
предре,-шено!..
– Ты не уезжай! Оставайся на праздники в Кишиневе! – уговаривали они
меня. – Если хочешь, достанем тебе пропуск на трибуны, чтоб посмотрел
военный парад и демонстрацию... Или ты затосковал о Красной площади?.. Куда
нам до тебя?!
Люди эти хлопали меня по плечу, всячески показывали, что у них передо
мною нет секретов. Рассказывали мне, кто и где отдыхал, в каких санаториях и
домах отдыха, как купались и рыбачили в Черном море прямо с лодок.
Подтрунивали друг над другом. Не останавливались и перед тем, чтобы
рассказать и о своих любовных мимолетных интрижках. Те, кто еще не были в
отпуске, молча слушали и предвкушали будущие удовольствия на благословенных
берегах, "самого синего в мире" Черного моря. Эти боялись лишь одного: как
бы не подвела погода, внимательно изучали долгосрочные прогнозы синоптиков,
хотя отлично знали, что верить им могут лишь самые наивные простаки. Отпуска
таких работников, увы, приходятся на осенне-зимнее время, когда, скажем, в
Пятигорске свирепствуют шквальные ветры, а в Крыму поднимается шторм. И
самолеты летают не регулярно. Даже теплоходы порою подолгу отсиживаются в
портах, как утомившиеся мастодонты...
Чаю республиканские товарищи мне не предлагали, как это принято в
высоких московских учреждениях. Был такой обычай и тут, но он проник лишь в
кабинеты работников, занимающих более солидные должности. Эти же, которые
сейчас меня окружали, до кабинетного чаепития с посетителями еще не доросли.
Они и без чая выказывали мне свое гостеприимство и всяческое расположение.
Таскали меня из кабинета в кабинет, набивали мою голову новостями, звонили
общим друзьям в райкомы, райисполкомы, в разные министерства. Почти каждый
рассказывал и о своих домашних делах. О жене. О детях. О том, как устроились
с жильем. Приглашали к себе в гости, просили записать номера их служебных и
домашних телефонов. Я записывал, благодарил, обещал зайти. Видел, что ребята
не кривят душой, когда приглашают в гости и просят беспокоить их в любое
время суток, ежели будет у меня в том нужда. Моя записная книжка была уже
полным-полна разными адресами и номерами телефонов, которыми я никогда не
пользовался. И все-таки я находил местечко и для новых адресов: где есть
тысяча, там отыщется уголок и для сотни. Это уже известно. Не лопнет же мой
блокнот от нескольких новых строк и цифр!..
Между тем вопросы продолжали сыпаться на меня:
– А о Черныше?.. Как?.. Ты ничего не слышал о Черныше? Удивительная
личность! Он работал первым секретарем в Бельцах. А колхозники в одном селе
возьми да избери его. своим председателем! Председатели там менялись чуть ли
не каждый год. Колхозникам надоела такая чехарда, и когда Черныш приехал к
ним, чтобы предложить очередную кандидатуру, они ее решительно отвергли, а
председателем своего колхоза выбрали самого секретаря! Ну куда ему деться?
Что он должен был делать? Демократия! Народ так решил. Пришлось взять это
хозяйство, а первым секретарем райкома был избран другой человек. Правда,
Бельцкий район был вскоре ликвидирован, а Черныш работает председателем
колхоза. Вот, брат, какие бывают у нас дела!..
– А про штучки Герасимовича не слышал?.. Не успел услышать? Его хотели
оставить тут заведовать лекторской группой, но он наотрез отказался. Как ни
уламывали его, не уломали! Работает теперь директором школы в родном селе.
Ну ж и упрямый этот Герасимович! И все-таки он чудак. Столько лет учиться в
Москве – и вдруг пойти в сельскую школу! Форменный молдавский чудила! Даже
Москва не смогла вытряхнуть его из крестьянского зипуна!..
– Фрунзэ! Где ты бродишь? Мы ищем тебя по всем кабинетам!.. Иди
скорее – тебя ждет Егоров!..
В большом кабинете Егорова кроме письменного стола, на котором
возвышались горы папок разных цветов и размеров, был еще один длинный стол
для совещаний и заседаний. Хозяин кабинета хотя и находился, что называется,
во цвете лет, уже успел обзавестись изрядным количеством седых волос на
голове, остриженной под бобрика, что на парикмахерском языке назывался
"полубоксом". Этой прической он был похож на спортсмена. Егоров вышел мне
навстречу, пожал руку и пригласил к длинному столу.
– Мы постоянно говорим о необходимости проявлять заботу о человеке, а
на деле нередко забываем о нем, – довольно скупо улыбнулся Егоров. – Ну как,
не надоело тебе отдыхать?
Вспомнив, что разговор наш происходит накануне Октября, поздравил с
наступающим праздником. Потом сообщил, что второй секретарь срочно выехал в
командировку. Во всех районах сейчас проходят активы, совещания и собрания,
в которых принимают участие члены бюро, – подводятся итоги
сельскохозяйственного года. Но меня, уточнил Егоров, вызвали для того, чтобы
я настраивался на работу. Мой вопрос совсем не сложный. После праздников
вызовут снова на беседу. А пока у меня есть время подумать, в какой район я
хотел бы поехать. Дал знать при этом, что в ближайшее время будут
восстановлены еще три района.
– Если не хочешь в новые, то можешь выбрать Кагул или Вулканешты. Как?
Разве тебе ничего не сказали эти пустобрехи из отдела?.. Намечаем секретарем
по идеологии!" Я думал, что тебе уже сообщили...
Нет. Мои бывшие коллеги не сказали мне главного. Даже не шепнули на ухо
под величайшим секретом, зато в остальном были чрезвычайно откровенны.
Забросали меня всякими новостями, рассказали обо всем, что происходило на
земле и на небе, но о том, что касалось лично меня, не обмолвились ни единым
словом – блюли профессиональный секрет: поп крестит дитя, но не гарантирует
ему долгой жизни. Скажут мне одно, а начальство решит по-другому. Ведь за
какой-нибудь час все может измениться, пока не сказал своего последнего
слова человек, который держит в руках и хлеб, и нож, и время, когда можно
этот хлеб разрезать и положить на стол.
– Мы, в общем-то, знаем, какой район будет для тебя подходящим. -
Егоров стряхнул усталость со своего лица и улыбнулся уже естественной
раскованной улыбкой. – Мы говорили тут с Шереметом.
– С Алексеем Иосифовичем я готов пойти работать куда угодно! – выпалил
я.
– А без Алексея Иосифовича?
– Тогда мне нужно подумать.
– Подумай. Однако как ни крути, ни верти, а придется тебе взяться за
воскрешение твоего родного района. Дальше Теленешт мы тебя, очевидно, не
пошлем. Так считает и Шеремет.
Чувствую, что лицо мое расплылось в широченной улыбке.
– Алексей Иосифович прав! – выдохнул я.
– Ну и отлично. А пока что возьми вот эту папку и погляди на досуге,
какую судьбу она тебе готовила. Ты, наверное, и сам не знаешь, какую
романтическую жизнь тебе приписали и какую роль тебе готовили в совсем не
веселом спектакле. Полистай, пожалуйста, этот "сценарий". – Сказав это,
Егоров положил передо мной толстенную папку и ушел с грудой других
скоросшивателей на второй этаж. Я же углубился в исследование оказавшихся
передо мною бумаг.
Задним числом я уже испугался того, что чуть было не уехал на поиски
своей доли опять в Москву. В таком случае я лишил бы себя возможности
держать документ, который читается как детективный роман, как произведение
самой изощренной человеческой фантазии. О, чего только не сделает ненависть
и зависть людская! На некоторых листках я читал резолюции, выведенные рукой
Шеремета и выражавшиеся одним коротким словом: "чепуха" или "бред" с тремя
восклицательными знаками. Но не везде Шеремет ограничивался столь коротким
заключением. Были там и более пространные, выраженные в еще более ехидных
тонах, замечания. Зарегистрированный, проштемпелеванный и пронумерованный
бумажный хлам, в котором пришлось разбираться не одному Шеремету, замешивал
в своей зловонной грязи и меня, и моего отца, и нашего дедушку. Судя по
разным пометкам, удивительное это сочинение успело побывать в высших
инстанциях Кишинева и Москвы. Сам черт не поймет, чем, какими соображениями
руководствовался его автор.
Но передо мной лежали бумаги, в которых с усердием волостного писаря
зафиксированы все "речи" моего дедушки. Затем доносчик перешел к анализу
классовой борьбы – как она отразилась в истории нашей семьи. Написал, что
мош Петраке, дедушкин брат, всю жизнь батрачил в хозяйстве моего отца. Для
пущей убедительности просил проверить и этот факт. Затем шли листочки, в
которых повествовалось о коллективизации в нашем селе, о высылке кулаков. В
них, этих поганых бумаженциях, утверждалось, что в списки раскулачиваемых
отец заносил невинных людей, бедняков и маломощных середняков, а зажиточных
укрывал. Так он спас, мол, Георгэ Негарэ, самого богатого в Кукоаре мужика.
Вместо него мой отец "упек" в Сибирь своего бывшего батрака мош Петраке,
который ходил в рубище. Но и на этом, утверждал "летописец", отец мой не
остановился. Вскоре он стал хлопотать, чтобы возвратить в село жену Георгэ
Негарэ Ирину вместе с ее дочкой и этим несчастным Петраке. Ему, то есть
отцу, это удалось. Правда, были возвращены и другие кулаки, но им не
разрешили жить в родном селе. И это в то время, когда Ирине с ее дочкой
такое право дали, а самому Георгэ Негарэ была возвращена даже конфискованная
изба. И какие же меры "взыскания" были приняты в отношении этого Костаке
Фрунзэ? – гневно вопрошал "хроникер". – Да почти никаких! Правда, он был
освобожден от должности председателя сельсовета. Но вскоре его сделали
секретарем того же сельского Совета, Его сняли и с секретарей, но только
затем, чтобы сделать председателем колхоза. И что бы вы думали? – бушевал
"летописец". Через какое-то время он, то есть Костаке Фрунзэ, становится
директором совхоза. По причине малограмотности его все-таки освободили от
этой должности, но тут же сделали бригадиром виноградарей в совхозе-заводе.
А тесть этого, с позволения сказать, бригадира поносит Советскую власть,
костерит ее почем зря, даже пенсию, которую ему назначило государство, не
хочет получать. Верно сказано, напоминал доносчик, что в селах, в которых
нет собак, воры ходят без палок. Так и в Кукоаре. никто не хочет призвать к
порядку зловредного старика! А его зять и внук рвутся к власти. Один уже
бригадирствует, а другой учится в Москве, чтобы потом заполучить высокий
пост, стать министром. Яблоко падает недалеко от яблони. Весь род Фрунзэ
испокон веку славился заносчивостью и хулиганством. Теперь этого студента
выгнали из Москвы за то, что бегал по улицам столицы нагишом. Об этом
говорит сейчас все село. А местные руководители слышат это и помалкивают, не
принимают никаких мер к неисправимым хулиганам. Костаке Фрунзэ, сообщал
далее "историк", на совхозные деньги отремонтировал свою ветряную мельницу и
устроил в ней ресторан. Теперь принимает там начальников, спаивает их,
заливает им глаза, чтобы не видели его проделок. А своего бывшего батрака,
этого глупого Петраке, поставил часовым у ресторана, чтобы никого из
посторонних не пускал. Свою зарплату "часовой" получает из совхозной кассы.
Для маскировки, уточнял разгневанный доносчик, Костаке Фрунзэ назвал
ресторан "Гайдуцкой мельницей". Ха-ха! Ничего себе мельница! Это самое что
ни на есть питейное заведение, куда сельским учителям вход воспрещен. Ни
один интеллигент не может попасть в это частное предприятие Фрунзэ! Об этом,
как известно, писала центральная газета. Рука руку моет, блеснул еще одной
пословицей "хроникер", Ге-оргэ Негарэ не остался в долгу у Костаке: подарил
новый дом своего погибшего на войне сына младшему Фрунзэ.
С прилежанием архивариуса клеветник подколол и вырезку из газеты
"Правда" с заметкой, о которой я уже рассказывал раньше. Самым удивительным
для меня, однако, было то, что все "главы" обширного повествования – не плод
отъявленного анонимщика, а подписаны собственным именем Профира Коркодуша,
рабочего кишиневского кирпичного завода. Лишь теперь я узнал, что вернулся
из дальних краев и этот добрый молодец. Для меня это было большой новостью.
Я знал, что другие бывшие кулаки давно возвратились, а этот писал, что ни за
что не вернется, что живет припеваючи и в Сибири, на лесоразработках. "Ради
куска мамалыги с луком я не вернусь! – писал он родственникам. – Я не такой
дурак, чтобы добровольно надеть на себя хомут и ломать кости на колхозной
земле!" В этом клялся Профир и в письме к Василе Суфлецелу. Позже Коркодуш
узнал, что жизнь в родных местах резко Изменилась, и изменилась к лучшему. И
Профир не выдержал – вернулся. И теперь строчил жалобу за жалобой, сетуя на
то, что ему не разрешали жить в Кукоаре. Он был убежден, что этому
препятствует мой отец, а не закон, по которому кулаку не полагалось жить в
родном селе. И вот тогда-то Профир Коркодуш и засел за свое мерзкое
сочинение. Крайне удивляло меня и то, что вся его безграмотная стряпня
аккуратно подшита, пронумерована и над нею часами просиживали многие умные,
занятые важными делами по службе люди.
Лишь на самой последней странице папки, в самом низу, я разглядел, что
у Профира Коркодуша были соавторы, и среди них – Иосуб Вырлан! В подшивке
есть место, где рассказывалось о том, как мой отец отвесил несколько пощечин
Иосубу. Не уточнялось лишь, почему это было сделано. Не говорилось, к
примеру, о том, как Вырлан слонялся по базару со своим стаканчиком, чтобы
принять участие в магарычах и угоститься бесплатно чужим винцом.
Умалчивалось, понятно, и о том, как прятался этот самый Иосуб в своей
барсучьей норе, сооруженной из кукурузных снопов на задах. Люди разыскивали
его, думали, что замерз по дороге е базара по пьяному делу, а он сидел в
теплом шалаше и посмеивался над односельчанами. Не рассказано в папке о
множестве пакостей, которые натворил за свою жизнь Вырлан. Утверждалось
лишь, что отец отхлестал его за то, что Иосуб не хотел подавать заявления в
колхоз. К чести Иосуба и других, подписавших донос, следует сказать, что все
они дружно подтвердили: все, что наворочал там Профир Коркодуш, клевета
чистейшей воды. На что последовал вопрос:
– Зачем же вы подписали ее?
Он был задан членами комиссии, которая проверяла писанину Профира
Коркодуша.
– А мы ре знали, что в тех бумагах. Подписали – и все. Тогда все
подписывали. Подписи за мир. Так сказал Профир. Ну, мы и расписались!..
– Ну как же так? Вы подписывали бумагу, не взглянув, что в ней?
– Так и подписали. Войны-то и мы не хотим!
– Хорошо. Но это же не было воззвание сторонников мира! Вы расписались
в клевете!
– Говорим, не знали. Не очень-то мы разбираемся в грамоте! Пришел
Профир с кучей бумаг, подсунул нам их, мы и того... подписали!
Написанное пером, как известно, не вырубишь топором. Для устранения
словесной пакости, сотворенной Профиром Коркодушем, потребовался более
тонкий инструмент и немалое количество дней для таких людей, как, скажем,
Егоров, заместитель заведующего орготделом. Разобравшись в сути дела,
начитавшись этой галиматьи, заключенной в толстой папке, он сейчас от души
хохотал. А мне было не до смеха. Я сидел за столом и понуро, как после
изнурительной и немилой работы, глядел на ненавистный скоросшиватель. Мог
утешить себя немного тем, что еще легко отделался: Профир уготовил мне
только вынужденный длительный отдых в родном селе, в отцовском доме. Я не
обижался на Шеремета за то, что он не говорил мне того, что знал сам.
Алексей Иосифович не сидел сложа руки, сражался за меня с этой черной папкой
вместе с другими честными людьми. И это было самое важное. Но какой
Макиавелли мог вползти в душу и в голову полуграмотного мужика, оказавшегося
способным сотворить этот страшный по своей злобной изощренности документ?
Вот этого я понять уже не мог...
После того как я вышел из кабинета Егорова, его сотрудники хором
закричали:
– Ну что?.. Ты дал согласие?.. Имей в виду: тебя посылают в
перспективный район! И не делай вид, что не рад этому. Мы знаем, что твое
сердце принадлежит Кодрам, подгорянам! Тебя не вытащишь из твоих лесов!..
Чего уж там говорить!
– Я приеду к вам после праздников!
5
Никэ ждал меня со своим мотоциклом во дворе «Молдвинпрома» – там у него
были некоторые поручения от директора совхоза. Ведь мош Тимочей не выпускал
в столицу ни одного своего специалиста, не дав ему поручений в этот самый
"Молдвинпром". То ему, директору, нужно выклянчить какое-то количество
материалов для заасфальтирования еще одной улицы в Чулуке, то заручиться
поддержкой союзно-республиканского объединения, чтобы получить от
Министерства культуры новые музыкальные инструменты для Дома культуры.
Сейчас Никэ должен был "выбить" в недрах "Молдвинпрома" большую люстру все
для того же Дома культуры, а заодно "прощупать почву" относительно
строительства промышленного холодильника для хранения фруктов и овощей. Судя
по мрачному виду, Никэ не очень-то преуспел в исполнении директорских
поручений. Брат был явно расстроен.
– Что, опять не повезло тебе у этого Аурела Ивановича?
– Не повезло. Он тоже переносит нас на следующую пятилетку.
Сговорились, наверное, с Шереметом...
– Не вешай головы, братец! Нам возвращают район! – поскорее сообщил я.
– Ну и обрадовал! У нас в совхозе и так не хватает рабочих рук. А
теперь и подавно все побегут в Теленешты!..
Совхоз из Чулука был ближе всех к этому городу. Став районным центром,
он принесет Никэ и всем другим руководителям совхоза одно несчастье: часть
их рабочих непременно захочет попивать чаек с горячими бубликами в городе, а
сезонники постараются устроиться там на постоянную работу во вновь
возрожденных учреждениях и предприятиях. Об этом и говорили Никэ в
объединении "Молдвинпрома". Вот почему огорчение брата было почти
безутешным.
И все-таки возвращение Теленештам ранга райцентра было актом
справедливым. Сколько себя помнят его жители и те, кто был вблизи от него,
Теленешты всегда были либо волостным, либо районным центром, главою всех
окружавших его сел и деревень. Лишь гримасы истории могли на какое-то время
исказить перспективу, сыграть с городком злую шутку. Такое случилось в эпоху
бесконечного экспериментирования, когда в стране начали создаваться отдельно
обкомы индустриальные, промышленные и обкомы сельскохозяйственные, а вместо
сельских райкомов – парткомы, тоже двух профилей. Теленешты !как-то не
подходили ни к тому, ни к другому, были как раз ни городом Богданом, ни
селом Селифаном. Сотни лет до Советской власти были они волостным центром с
благочинными попами и чиновниками, с усатыми стражниками и урядниками, а при
румынах – пласой с ее преторами вместо урядников, а совсем недавно – ни то
ни се. Захолустное, сонное местечко с допотопными старушками, которые по
всем углам продавали стаканами подсолнечные и тыквенные семечки. Война
превратила центр городка в развалины. Фашистские оккупанты даже вывезли и
распродали камень от порушенных домов и погребов.
Ранг райцентра вызвал Теленешты -к новой жизни, возродил его из пепла.
Строились многоэтажные жилые дома, возводились современные предприятия,
кирпичные заводы, комбинат по производству вина и спирта, фабрики для
переработки молока. Были построены пекарни и гостиницы. Росли, как грибы
после благодатного дождя, кварталы частных домов, которые после ликвидации
района спешно продавались владельцами за полцены. Все получалось по
известной пословице: если нет озера, не будет и лягушек. Владельцы
собственных домов были государственными служащими. Лишившись своих мест в
учреждениях, они остались без работы и сейчас же начинали искать ее в других
местах, уезжали вместе с семьями в другие города республики. В Теленештах
оставались лишь учителя, врачи да несколько инженеров промышленных
предприятий, десяток-другой специалистов из мастерских по ремонту
телевизоров, радиоприемников; не покинул город какой-нибудь десяток
фотографов, парикмахеров, пекарей, рабочих по изготовлению масла и брынзы,
закройщиков на пошивочном комбинате. Так жил городок. В одну неделю был
ликвидирован жилищный кризис, казавшийся неразрешимым. Прежде очереди на
получение квартир были пугающе длинными, думалось, что им не будет конца. Но
стоило лишь отнять у Теленешт статус районного центра, как появилось
множество свободной жилой площади в государственных домах, а частные
отдавались чуть ли не даром.
Отец сказывал, что Никэ рвал на себе волосы. Он купил дом у Негарэ и не
знал, что мог бы купить лучший в самом городе, и притом за пустяковую цену.
Его совхоз почти что сливается с Теленештами – так что брат, не меняя места
работы, сделался бы городским жителем. Но кто мог знать, что район будет
скоро упразднен, а через некоторое время вновь восстановлен?
Домой мы возвратились по асфальтированному шоссе, совершив объезд в
сорок без малого километров. По пути руки брата отдыхали, потому что не
попадалось ни рытвин, ни бугров, ни выбоин. Теперь Никэ был недоволен и
своим железным другом – мотоциклом. Считал, что мог бы приобрести другую,
более модную, что ли, марку. "Ирбит" соблазнил его своей мощью, количеством
лошадиных сил. Другие бригадиры и агрономы покупали себе мотоциклы с
колясками киевского завода. Однако брат, заручившись запиской Шеремета,
пришел на базу с правом выбора. Не раздумывая долго, Никэ выбрал самую
могучую машину, тяжеленную, с тормозами, как у грузовика, с несокрушимыми
рессорами, годными для ганка, а не то что для мотоцикла, с мотором, который
ревел, как двигатель реактивного самолета. После длительной поездки мускулы
на руках водителя болели так, словно их отхлестали здоровенной палкой.
Было уже прохладно. Я расположился поудобнее в люльке мотоцикла,
прикрыл грудь прорезиненной накидкой, надежно укрывшись от встречного ветра.
А Никэ продрог так, что сделался синим. Чтобы немного согреться, он
остановил мотоцикл у леса Пита-ру, возле винзавода. Слово "согреться" в
данном случае имело только одно значение: Никэ отправился к знакомым ребятам
за спиртом. Он, конечно, сейчас не отхлебнет и капельки, а вот уж дома, до
которого рукой подать, "отогреет душу". Я сидел в коляске и удивлялся тому,
каким печальным выглядел лес и все вокруг леса в эту осеннюю пору.
Грустно перешептываются умирающие листья. Но у леса неиссякаемый запас
красоты. Дикая черешня с помощью легкого морозца выкрасила свои листочки в
кроваво-красный цвет. А кизил, воспользовавшись услугами тех же ночных
заморозков, придал своим листьям цвет ярко-желтый, лимонный. Дубы не
захотели быть одинаково одетыми. Как капризные модники, они подбирали
костюмы каждый по своему вкусу. У одних листья оставались зелеными, у других
чуть желтыми, у третьих багряными, а у четвертых цвета каленого кирпича.
Кизил казался облитым кровью, потому что ветви его были усыпаны спелыми
плодами. Думалось, что чья-то щедрая рука понавешала на его ветви ожерелья
из красного жемчуга. В ярко-красные ризы облачились и боярышник с
шиповником. Лес был похож на огромный букет, собранный человеком, обладающим
тонким вкусом. И все-таки красота его была какой-то холодноватой, как лицо
засыпающей красавицы, – тающий иней на листьях казался капельками слез на ее
ресницах. Листья, колеблемые легким дуновением ветра, тихо кружась, медленно
опускались на землю. Солнечные лучи хоть и светились, но в них не было
тепла, не было и жизни.
Во дворе завода у опушки леса Питару толпился народ. Рабочие в
комбинезонах и ватниках снуют туда-сюда, что-то носят, что-то поднимают и
бросают, шумят, покрикивают друг на друга. Одни укладывают цемент на
платформы, другие натягивают толстые, рубчатые, как шеи драконов, шланги от
одного погреба к другому. Специалисты в белых халатах появляются из одних
дверей и исчезают за другими – там они мудрят над какими-то бутылочками и
мензурками, будто алхимики или лаборантки, которые собираются сделать анализ
крови.
Васуня, старший винодел, выносит под своим халатом посудину Никэ и сует
ее в коляску мотоцикла. Васуня – это закадычный дружок Никэ. Они вместе
закончили десятый класс. Но факультет по технологии винодельческой
промышленности при Кишиневском политехническом институте Васуня закончил на
два-три года раньше мoero брата.
– Это правда, что нам возвращают район?.. Никэ сказал мне! – радовался
винодел, когда мы оказались в цеху новой очереди завода.
Я смотрю, как бежит вино по толстым стеклянным трубам. По одним -
красное, как кровь, – каберне, мерло, саперави; по другим – белое,
золотисто-прозрачное, как подсолнечное масло, – это тоже каберне, но
готовится без брожения в "рубашке", в жмыхе. Васуня так и называет его:
"белое каберне". Сейчас тут работает много сельского люда, управившегося с
уборкой урожая. Здесь осень не окрашена в грустно-унылые цвета, как на
опустевших полях, садах, огородах и виноградниках. В Васуннны погреба как бы
стеклись все соки ушедшей на отдых земли. Тут не стихает и гул человеческих
голосов. Одни рабочие процеживают вино. Другие заливают его в цистерны. В
одном крытом помещении винные пары плывут под самым потолком. Там гонят
коньячный спирт. Пройдет несколько лет – и спирт этот предстанет в облике
коньячных бутылок на витринах магазинов, а десятком лет позже украсит
праздничные столы марочными коньяками, отборными, юбилейными и прочими, еще
более дорогими. Работа в самом разгаре. Биохимические анализы. Фильтрование.








