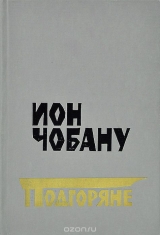
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
едет да поглядит на жену и сына. На этот раз она более решительно отогнала
Никэ от телевизора. Передача "Сельский час" была для нее вдвойне приятна:
репортаж об окончании жатвы велся с юга, как раз из тех мест, откуда родом
была ее сношенька.
Что и говорить, мама была бесконечно счастлива, так же, впрочем, как и
отец.
2
Празднование Последнего Снопа проводилось по-новому. Выстраивались в
одну линию все комбайнеры и шоферы передовых хозяйств. Наряженные во– все
новенькое, они были повязаны полотенцами, которые своими концами свисали до
самой земли. Победители соревнований, те, что заняли первые три места по
району, стояли с надетыми на шею венками, сплетенными из колосьев пшеницы. В
их честь играли туш, причем делали это для каждого, когда ему вручались
подарки: телевизор, холодильник, радиоприемник, стиральная машина, отрезы
дорогой материи на костюм, огромный, размером с тележное колесо, калач,
конвертики с "наличностью" – да мало ли еще что!
Юные девушки в национальных костюмах и пионеры, похожие на живые цветы
в своих белых блузках и ярко-красных галстуках, подбегали к героям жатвы и
вручали им большие букеты цветов. Перед малость смущенными от таких почестей
победителями суетились газетчики, фото– и телерепортеры, которых старались
потеснить "фундаментальные" кинематографисты. Параллельно шла запись на
магнитофонную ленту коротких репортажей, а точнее бы сказать – рапортов
самих героев, которые на будущий год брали на себя повышенные обязательства.
Затем началось праздничное веселье, распространившееся на всех собравшихся
на главной городской площади. Крики "ура", цветы в воздухе, музыка, пляски,
хороводы!.. Словом, да здравствует Кормилец Хлеб! Слава Хлебу! Пусть растет
он даже на камне!..
В желании получше разглядеть людей мама так подалась вперед, что чуть
было не ткнулась лбом в кинескоп телевизора. Дедушка стоял позади, засунув
руки за ремень, как граф Лев Николаевич Толстой, и бормотал, кажется,
впервые одобрительно:
– Беш-майор... Коровьи образины!.. Вот это я понимаю! У них есть что
положить в амбар!.. Не будет гулять ветер по сусекам!..
Мама прямо-таки выпивала своими голубыми глазами все, что видела на
экране телевизора. В глазах этих сохранилась с девичьих еще лет
небесно-чистая синь, как сохранялась она с молодых лет и у ее отца, моего,
значит, дедушки. Над ними, глазами, оказалось не властно время. Ни годы, ни
бесконечные заботы и нужда, ни солнечные жгучие лучи на поле, ни пылища -
ничто не могло притуманить голубых, как лазурь, и широко и наивно раскрытых
на мир маминых очей! Сейчас они светились счастьем и умилением.
– Большой каравай испекут эти люди! – сказала она с придыханием и
умолкла, не найдя других слов, чтобы выплеснуть вместе с ними душевное
волнение. Она жадно пожирала взором щедрость степи, горы пшеницы на токах,
колонны грузовиков с полными кузовами золотого зерна, такого золотого, что
хоть нанизывай его на нитку и вешай на шею вместо ожерелья из янтаря.
Хлебное зерно – мамина слабость, тревога, боль, радость и безмерное
счастье. Она вроде бы и родилась с крохотным серпиком в руках. Бывало, во
время страды никто в селе не мог сравниться с нею по проворности, с какой
она орудовала серпом. Впрочем, один все-таки нашелся. Но это был мужчина. С
тонкими, как у женщины, руками и шустрыми, как у зайца, ногами, этот обгонял
маму. Тудос Казаку, прозванный Врабиоюлом, то есть Воробьем, действовал
серпом, как фокусник или эквилибрист в цирке; и наблюдавшие за ним люди не
могли заметить, как он это делает. А вот мой отец считался – по
справедливости – плохим косарем. Работать с серпом вообще не любил. Приехав
к своей делянке ранним утром, снимал рубаху, расстилал ее на меже, бросал
тут же серп и приступал к жатве, то есть выдергивал пшеничные стебли с
корнем, набирал из них. сноп за снопом. Дело двигалось хоть и медленно, но
верно. На утренней заре пшеница была росной, влажной, из нее легко было
скручивать пояса для снопов, так что не нужно было бегать за водой к
колодцу, чтобы смачивать стебли для поясов-жгутов, или искать папоротник с
той же целью.
Нельзя сказать, что отец вовсе не умел жать серпом. Умел, конечно, не
такое уж это хитрое дело. Но после работы у него очень болела поясница.
Дедушка в этом отношении шел еще дальше моего отца: о серпе он и
слышать не хотел. Он хорошенько оттачивал свою знаменитую косу-крюк и за
один день мог уложить целую десятину пшеницы или ржи. Укладывал двумя
способами: рядком, плашмя и под прямым почти углом, когда срезанные стебли
прислонялись к стене еще не скошенной пшеницы колосьями вверх; при втором
способе было удобно вязать снопы. Однако так убирался хлеб, когда посев у
нас был большим. А при малом мама не разрешала лезть в него с косой. Брала в
помощь себе сестер и жала пшеницу, рожь ли серпом. Позже тетка Анисья
приходила со сеоими дочками. В такие дни и я получал серп, да притом еще
самый лучший, новенький и острый, как бритва, чтобы я не хныкал и не
привередничал, не задирал каждую минуту голову и не таращился на солнце.
Из-под наших рук рождались и убегали назад ровные рядки хлеба: колос к
колосу, стебелек к стебельку. Бурдюк с водой или вином все время убегал от
солнца, его то и дело переносили в тень. Нас, детей, приводили в восторг
красные маки, кровеносными сосудами растекавшиеся по пшеничному полю. Там и
сям на меже виднелись темно-зеленые шары перекати-поля, "умбра епурелуй",
что означает "тень зайца". Под него-то и прятали бурдючок. Когда мы сильно
уставали, то бежали к бурдюку. В таких случаях мама захватывала своим серпом
и мою полоску. Чтобы работа спорилась, отец подносил к рядкам смоченные
жгуты для снопов. Вязал их сам, красиво и аккуратно. К вечеру мы сносили их
на середину делянки. Там отец укладывал их в крестцы – по тринадцати снопов
в каждом. Один, самый верхний, служил крышей на случай дождя. Были кучи из
семнадцати и более снопов, они уже назывались копнами и свидетельствовали о
хорошем урожае.
На жатве я был похож на отца и дедушку: мне тоже не нравился серп. Он
быстро утомлял меня в знойный день.. А вот таскать снопы мог сколько угодь
но. Таскал бы, кажется, круглые сутки. Особенно нравилось увозить их с поля.
Отец научил меня, как складывать снопы в рыдванке. Снопы отвозили на ток, и
там вырастала скирда выше нашего дома, под ней, в тенечке, мы отдыхали. На
эту пору множество золотистых скирд вырастало в селе и вокруг села, было
приятно бродить среди них и прятаться за ними. Казалось, за каких-нибудь
два-три дня вырастал сказочный город с золотыми домами причудливых форм.
Город с узенькими средневековыми улочками и переулками. Город, полный
колдовских чар, особенно в лунную ночь. В какой-то час посреди этого города
появлялся локомобиль с молотилкой. Он начинал чихать, попыхивать дымком. Дым
смешивался с упоительно-вкусным запахом молодого хлеба. Мужики толпились,
хлопотали, чтобы стать в очередь для обмолота своих скирд. Возы с пшеницей и
рожью выплывали отовсюду, окружали, брали в полон молотилку. А у самой
молотилки кипела работа. Одни привозили на волах воду для паровика, другие
волокушей отгребали обмолоченную солому, третьи, самые умелые, укладывали ее
в небольшие копны, чтобы потом сподручнее было увезти ее на свое гумно.
Парни с могучей мускулатурой подбрасывали снопы на дощатую площадку. Там
самые красивые и тоже сильные девки разрезали жгуты, "растряхивали" стебли,
чтобы с ними мог справиться мельничный барабан. А "задавалой", то есть
человеком, который направляет в барабан пшеницу или рожь, ставился человек
не только самый выносливый, но и самый искусный: он должен был исполнять
работу трудную, но и тонкую одновременно. Готовую пшеницу отвозили в фурах и
фургонах на свои тока, где можно было ее хорошенько провеять и убрать в
амбары. Механики от паровика и молотилки вертелись возле бухающих и
рокочущих своих машин в огромных очках, предохраняющих глаза от пыли, в
которой тонули все и вся. Один все время находился у барабана,
захватывающего охапки пшеницы и направляющего их в прожорливую утробу
молотилки. За молотилкой, по пяти-семи рукавам, текло зерно прямо в
растопыренные мешки. Наполненные оттаскивались в сторону, а их место
занимали порожние.
Муравьиная, общинная, целенаправленная и осмысленная канитель
захватывала, подогревала людей. Ржание лошадей, мык волов, крики
возбужденного народа, скрип и тарахтение колес, шумная беготня с мешками
парней, хвастающихся своей силушкой, взвизгивания девушек от щипков
ухажеров, хохот – все сливалось в пеструю картину, как бы венчающую хлебную
страду на селе. Молотилка пела, захлебывалась, сердилась, когда барабанщик,
или задавала, как называют его в некоторых краях, пихал в ее зубастую пасть
слишком большую порцию пшеницы. Паровик, он же локомобиль, пронзительным
свистом давал знать, что ему надо воды, воды, воды. v Воды и топлива, чтобы
вырабатывать пар – главную его двигательную силу. Одна артель мужиков,
объединившихся для того, чтобы нанять молотилку (у одного-то – кишка тонка
для этого!), сменяла другую.
Тут же договаривались, кто и сколько людей может выделить, кто подаст
лошадей, а кто волов. Пыль стояла до самых небес, но никто не замечал ее,
потому что запах нового хлеба был той очистительной, освежающей душу силой,
перед которой отступали все другие запахи, и, кажется, даже сама пыль не в
состоянии была проникнуть в легкие.
Я с отцом и еще несколько человек из нашей артели отвозили зерно от
молотилки. В каждом дворе нас ожидали веселые хозяйки. Поощренные их
радостными улыбками, мы играючи сбрасывали мешки. Мне нравилось, когда отец
скрещивал свои руки с моими, подцеплял мешок, который в таком случае не
казался уж очень тяжелым. Если в каком-то дворе амбары были еще не готовы,
сусеки не прошпаклеваны, мы уносили мешки в каса маре, то есть в дом для
гостей, и высыпали пшеницу прямо на пол – в таком разе она попадала на самое
почетное место, на что, собственно, имела полное право... Некоторые хозяйки
выходили нам навстречу с кувшинами вина. Нас угощали самой вкусной едою,
какая готовится лишь по большим праздникам.
Шла пшеница! Шел хлеб! В пшенице зароются и будут храниться целую зиму
отборные яблоки и айва. Да здравствует мать-пшеница!.. Мы берем из рук
хозяйки по стаканчику и выпиваем. Закусив, желаем дому хорошего урожая в
будущем году: пусть растет пшеница даже на голых камнях! Пусть будет ее
стебель толщиною с тростник, а колос с воробья, зерно – величиною с
горошину! Однако как бы ни были гостеприимны хозяева, нам нельзя было
задерживаться: нас ждала у молотилки артель. Боялись и хватить лишку. Мешки
тяжелые, от них и у трезвого подкашиваются и дрожат ноги. И носить их
приходилось не только в амбар, но и на чердак дома по ступенькам крутой
лестницы. Стаканчик винца, конечно, грузчику не помеха, только бы знать ему,
стаканчику, меру, чтобы ты им командовал, а не он тобой. Ведь не всякому
доверялось развозить хлеб по дворам. Для этого выбирались люди
исключительной честности и порядочности, без единого пятнышка на совести.
Дорога от молотилки к дому немалая. Нечистому на руку возчику ничего не
стоило бы сбросить мешок-другой в виноградник, в кукурузу, за плетень
родственничка. Так что приходилось отбирать честных.
Свистит требовательно паровичок. Жалобно стонет молотилка. Мы с отцом
выжимаем последние силы из лошадей – нам кажется, что там нас ждут, людям не
во что насыпать зерно, оно из всех семи рукавов течет прямо на землю, и
паровик задыхается либо без воды, либо без топлива – оттого и
плачет-свистит. Мчатся повозки с бочками. Мчимся мы с опорожненными мешками.
Взбудоражено все село...
О чем-то задумалась мама перед "голубым экраном". Не о серпе ли тоскуют
ее руки? Но что делать серпам, когда и зерновым комбайнам негде развернуться
в наших полях? От края и до края раскинулись по ним виноградники, бегут,
вызывая рябь в глазах, белые столбы подпорок. По всем возвышенностям и
склонам гор покачивается на шпалерной проволоке виноградная лоза.
Виноградники и небо. Небо и виноградники! Мелькают на экране телевизора
механизированные тока, текут пшеничные ручьи в кузова машин из жерл
комбайновых бункеров. Запахи гумна, хлеба и пыли, неповторимые, хотя и
повторявшиеся из года в год, из столетия в столетие, ни с чем не сравнимые
эти запахи можно вызвать лишь памятью обоняния. Не оттого ли вздрагивают ее
ноздри, не оттого ли так глубоко она вдыхает в себя воздух? А не погрустнела
ли мама? Не смущает ли ее собственная совесть: наработавшиеся руки мамины
теперь постоянно побаливают от кистей до самых плеч, и мама не может месить
тесто и выпекать большие калачи, как делала еще недавно. Отец знает это и не
заставляет ее возиться с квашней, вставать к замешенному тесту по нескольку
раз за ночь. Она никому не жаловалась на свою боль, переносила ее молча.
Отец же по-настоящему понял ее страдания лишь "а свадьбе Никэ. Глава нашего
семейства заказал свадебные калачи в сельской хлебопекарне – так теперь
поступают почти все кукоаровцы. В прежние времена с калачами у нас была
целая история. Какая б непогодь ни была на улице, мама гнала мужа непременно
в Бравичи, на мельницу Миллера. Лишь тесто, изготовленное из муки, смолотой
вальцами Миллера, можно было сделать почти воздушным и таким тягучим, что
оно раскатывалось до тонкости папиросной бумаги.
Губы мамы шевелятся. Я не знаю, что она там бормочет. Уткнулась в
телевизор, и губы ее подрагивают. Она явно что-то говорит про себя. Но что?
Почему не заговорит вслух, не откроет нам своих мыслей? Мама убеждена, что
на каждом пшеничном зернышке запечатлен лик господний. Сколько бы ни уверял
Никэ, что не лик божий это, а всего-навсего зародыш, из которого
выбрасывается жальце всхода, мама оставалась при своем убеждении и могла
часами всматриваться в пшеничный глазок. Всматривалась с молитвенным
умилением, будто перед ней крохотная иконка с изображением Спасителя.
Пшеничное зерно для мамы и вправду было святым, потому она и млела перед
ним, светилась вся каким-то глубоким внутренним светом. Она способна
возненавидеть человека, наступившего на хлебную крошку. И готова расцеловать
тех, кто эту крошку поднимет и поднесет к губам в знак благоговения перед
ней. Смахнуть хлебную корочку на пол – тягчайшее преступление, по убеждению
мамы. Это святотатство, коему нет прощения. Поступить так – это все равно
что плюнуть в икону с изображением Всевышнего Творца – так думала мама. Она
не настаивала на том, чтобы й ее младший сын думал точно так же. Только,
говорила она, пускай и он не пытается отбить у нее святую веру в богоподобие
пшеничного зерна! Она унаследовала ее от своих предков и знала, что дурного
от нее никому не сделается. Если сын сходит с ума от футбола, то это его
дело: пусть себе смотрит, как почти две дюжины великовозрастных верзил
носятся словно очумелые за одним мячом. А ей, матери, пусть не мешает
наглядеться (хотя бы по телевизору!) на то, как возносится хвала Пшеничному
Снопу!
В лице дедушки мама имела хорошего союзника. Со своими постоянно
меняющимися, точнее, варьирующимися амбарными теориями он смотрел все
сельскохозяйственные передачи. Если мы забывали позвать его к их началу, он
страшно сердился. Сейчас он стоял позади мамы и удивленно-радостно кричал:
– Ох, какие толстенные цыгане! Все беш-майоры попали на патрет!..
Скажи на милость!
Механизаторы все в пыли. Руки и лица в масле. Загорели на солнце до
угольной черноты и теперь были похожи на людей, только что поднявшихся из
шахты. Белые полотенца да такие же белые зубы светились у всех.
– Какие тебе цыгане, батюшка? – ответила отцу мама. – Сейчас там все
одинаково черные. Земля еще чернее, а родит белый хлеб и нас кормит.
Помнишь, ты пел мне, когда я была маленькой: "Папина дочка, беленькая, как
черная сковородка". Пел ведь?
– Ежели ты была чернее грачонка, как же еще я должен был тебе петь,
коровья башка?! Черненькая, а глаза голубые, как у меня. Такое бывает только
у молдаванок! – заключил старик не без гордости.
Дедушка не захотел оставаться у телевизора, чтобы посмотреть
праздничный концерт по случаю Последнего Снопа. Сказал, что нагляделся всего
досыта и больше не желает портить свои старые глаза, что за всю свою жизнь
ни разу не топал в хороводе и, слава богу, от этого соски на его титьках не
выросли сверх нормы"
3
Виноград зреет. Приближается время его сбора. На опушке леса, где в
последние годы вырос винзавод, вовсю кипит работа.
– Если хочешь увидеть Шеремета, приходи пораньше к лесу Питара. Там он
бывает каждое утро, – советует мне Никэ. – Сколько бы я ни проезжал мимо,
всегда его вижу. Привозит с собой котлеты до того вкусные, что пальчики
оближешь!..
– Ты уже успел попробовать и его котлет? – смеется отец над своим
пронырливым и нахальноватым сынком.
– Отличное место выбрал Шеремет для винзавода. С одной стороны лес,
который тянется аж до Оргеева. С другой – старые погреба Овалиу, – говорит
Никэ, минуя уколы отца.
Помещика Овалиу кукоаровцы называли сумасшедшим греком, потому что он
всегда прикрывал свою спину лисьей шкурой. Одни говорили, что таким образом
барин прикрывал горб. Другие были уверены, что, облачившись в лисью шерстью
наружу шкуру, "сумасшедший грек" превращается в привидение, чтобы пугать
людей. И вообще за этим вконец разорившимся дворянином тянулся длинный шлейф
всяческих легенд. Знающие люди утверждали, что родители Овалиу имели
огромный замок на берегу Реута. В замке этом комнат было больше, чем в
петербургском Зимнем дворце. Потолки, говорили знающие люди, сделаны из
толстого стекла, замкнутое пространство между ними было заполнено водой, в
которой плавали редкие рыбы. Старики уверяли, что крестили горбуна император
и императрица России. Однако когда выяснилось, что в замке реутовского
вельможи комнат больше, чем в Зимнем дворце, между "высокими кумовьями и
кумушками" вышел преогромный скандал, потому как никто не имел права жить в
замке, который по количеству комнат превосходил царский дворец. Дружбе царя
и помещика пришел конец. Потом стало известно, что Овалиу делает фальшивые
деньги. За это его увезли в Петербург. Там по высочайшему указу беднягу
казнили. И казнь была самой что ни на есть лютой: в горло Овалиу вылили
расплавленное золото, и помещик умер в жутких мучениях – обожрался, стало
быть, деньгами!
Согласно одной из легенд, у этого Овалиу только в одной Бессарабии было
девяносто девять имений. Девяносто девять – и ни на одно больше или меньше!
Располагал он богатыми поместьями и за пределами Бессарабии, в Таврии,
например, и на Кавказе. Из всех бесчисленных усадеб легендарного Овалиу
почему-то сохранились лишь развалины барского дома в селе Казанешты,
виноградники с погребами под лесом Питару, неподалеку от нашей Кукоары, да
длинный полусгнивший дворец на окраине Теленешт, и как приложение к этим
останкам, дожил до наших времен сын Овалиу с лисьей шкурой на спине. Ему мы
обязаны тем, что наши края впервые увидели верблюдов. Где их приобрел
Овалиу, лишь он сам да господь бог знает. С того времени нужно было
соблюдать осторожность, когда направляешься на базар через виноградники
"сумасшедшего грека". В любую минуту из-за кустов могло появиться горбатое,
как и сам Овалиу, чудище и окатить тебя с головы до ног зеленоватой пеной.
Сам верблюжий плевок был не так уж и страшен: в конце концов его смывали у
водокачки рядом с базаром, но от ужаса, который могли навести эти существа,
скажем, на женщин, долго не сможешь прийти в себя. Мыслимо ли столкнуться
ли-,цом к лицу с таким страшилищем, которое к своему жуткому внешнему
обличью присовокупит обязательно и свой звериный, утробный рев! Выругает
тебя и заплюет!
Легенды4 распространялись и на винные погреба Овалиу. Они-де соединены
были между собой бесконечными подземными проходами, которые тянулись не
прямо, а делали хитроумные извивы, лабиринты, – так что, зайдя в подземелье,
ты мог заблудиться, не найти выхода из него. Опять же "знающие люди"
уверяли, что там многие любопытные или злоумышленники, позарившиеся на
барское вино, нашли свой смертный час, в память о себе оставив лишь
косточки. В Теленештах, в полуразвалившемся дворце помещика, я научился
грамоте. Там одно время помещалась средняя школа. Дворцовых комнат мы не
боялись даже ночью. А вот погреба пугали нас и днем. Правда, самые отважные
опускались в один из них, но и они не решались исследовать лабиринты. К тому
же с приходом Советской власти горбун стал поспешно выворачивать камни из
своих погребов и продавать. Лишившись стен, погреба обвалились. Ко времени
моего отъезда из Теленешт о них вообще забыли.
Велико же было мое удивление, когда спустя много лет я увидел их
рожденными заново, на том же самом месте. Это было длинное подземное
помещение с зацементированными полами, разрисованными белыми и красными
линиями. По бокам тянулись трехъярусные ряды огромных бочек, за ними шли еще
большего размера чаны. В бесчисленных галереях погреба стояли амфоры для
многолетнего хранения особенно дорогих вин. На них виднелись цифры с
указанием вместимости этих античных посудин в литрах и декалитрах. Люди
работали тут, как на заводе. Гирлянды электрических лампочек освещали все
уголки. Над погребами находилось и само винодельческое предприятие с
прессами, дробилками, с колоссальными емкостями. Стеклянные трубы толщиною с
рукав вились поверх погребов. Запах винных дрожжей витал незримо вокруг
завода, выросшего на месте сгинувших в Лету помещичьих погребов. Судя по
свежим пристройкам, винзавод расширялся. Одна за другой подкатывали огромные
машины и сгружали камень, цемент, бочки, амфоры, прессы, дробилки,
металлические трубы и другое оборудование. Толстенные, похожие на шеи
драконов, гофрированные шланги подавали горячую воду. Никто тут не оставался
без дела. Одни мыли бочки, другие обмывали горячей водой прессы и дробилки,
третьи монтировали новое оборудование. Всюду шла работа.
В этом людском муравейнике я находился около двух часов, пока не
повстречался с Алексеем Иосифовичем Шереметом. Подсказка брата, где я мог
увидеть секретаря райкома, не помогла мне: к моему приезду Шеремета у опушки
леса уже не было. Может быть, он в это утро вообще не приезжал туда и
угощался генеральской ухой, а не котлетами, которые привозил с собой на
место стройки? Котлеты с чесноком могли быть и плодом выдумки Никэ: братец
мой соврет – недорого возьмет!.. Шеремету с его постоянной спутницей -
язвой – только прочесноченные й проперченные котлеты и есть!..
– Ну, что там у тебя слышно, Фрунзэ? – сразу же спросил Алексей
Иосифович, стараясь перекричать шумы машин.
– Плохо слышно... потому что ничего не слышно! – так же громко ответил
я.
– После уборки винограда придется, видно, мне взяться за тебя.
– Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
– Знаю я эту пословицу, Фрунзэ. Говорю: управимся с виноградом, тогда
постараюсь разобраться в твоем деле. А сейчас все внимание винограду.
Пригласили студентов, собрали учителей и старшеклассников из всех школ
района. Выделили каждому по гектару. Один гектар – фуражке, другой -
косынке. Многих горожан двигаем сюда, даже пенсионеров потревожили. Словом,
всеобщая мобилизация! Не остались в стороне и мы с женой. Взяли по гектару в
Чу-луке.
– Почему не в Кукоаре?
– К вам приедут студенты из Кишинева. А мы с районными работниками
будем убирать урожай в Чулуке. Так-то вот, Фрунзэ! А ты мне тут о
сказочке...
4
На этот раз за рулем машины сидел шофер, молчаливый парень, как и все
шоферы больших начальников. Он разрешил себе лишь спросить:
– Куда едем?
– В винокурню мош Иосуба! – сказал Шеремет. – Ты, видно, забыл, что в
Кукоаре мы имеем еще один винзавод?
От Питарского леса до нашего села – рукой подать. Спуститься с пригорка
в долину – и вот она, Кукоара. Через несколько минут мы остановились перед
двором Иосуба Вырлана.
Шофер подкатил машину к самому забору, в тень, открыл одну дверцу и
сейчас же погрузился в чтение какой-то книги – и тут он ничем не отличался
от других водителей легковушек.
Алексей Иосифович начал свой неожиданный визит с осмотра ворот Иосуба.
Скорее это были царские врата, а не ворота. Железные, выкрашенные чуть ли не
во все цвета радуги, они дразнили всех прохожих и проезжающих своим
вызывающе-кричащим видом. Шеремет подергал за железное кольцо калитки и стал
кричать:
– Гостей принимаешь, мош Иосуб?.. Ты где?
За высоченным забором и коваными воротами молчали.
– Капитан Иосуб!.. Ну, покажись же наконец!
Двор продолжал безмолвствовать. Мы стали подтягиваться на руках и
сквозь заостренные зубья верхней решетки ворот заглядывать во двор мош
Иосуба. Так, тыкаясь то в одну, то в другую сторону, мы наконец на одном из
столбов обнаружили выразительную надпись: "3 в а н о к". Нетрудно было
определить, что сделана эта надпись рукою самого хозяина. Мы же не
догадались поискать ее сразу же по приезде, тогда бы нам не пришлось
беспомощно топтаться возле ворот и карабкаться к их вершине, увенчанной
грозными железными пиками. После того как мы нажали на кнопку этого "зван к
а", послышалось хлопанье двери в самом доме. Засим появилась огромная
лысина. Издали казалось, что Иосуб несет на голове маленькое блестящее
корытце с белым вином.
– Кажется, турок сдает свою крепость! – засмеялся Шеремет. – Да ты
поскорее, мош Иосуб!
– Иду, иду!.. Поясница что-то разломилась – не могу бежать! -
ответствовал со двора Иосуб. Кажется, его в самом деле прихватил радикулит.
Ступал он по земле осторожно, а поясница у него была повязана толстым
шерстяным кушаком. Иосуб Вырлан пригласил нас в дом. По лицу его было видно,
что появление Шеремета не доставило ему большой радости.
– Ты еще не привел из леса свою бабку?
– Не хочет она идти сюда, товарищ секретарь!.. Она ведь сумасшедшая.
Кормится одними грибами-поганками, мухоморами, значит... Чокнутая малость,
говорю...
– М-д-а-а... Небось трудно без бабы в твоих-то летах. Старость – не
радость.
– Знамо, трудно, – согласился Иосуб. – Пожарные дела меня выматывают
до смерти. Цельными днями мотаюсь по селу. Оставляю дом без присмотру...
– Дом, да... его нельзя оставлять без пригляду. Я слышал, что ты и
погреб соорудил себе преотменный. Это правда?
– Какой там погреб!.. Так, землянка, погребица крохотная для соленьев.
Выкопал по-стариковски, как же без нее?!
– Землянка, говоришь? А обложена-то она у тебя камнем изнутри.
– А как же без камня, товарищ секретарь? Теперь все так...
– Ну да, конечно... А чего же ты нас держишь за воротами, не
приглашаешь куда-нибудь в холодок?
– Ах да!.. А мне, дураку, показалось, что вы торопитесь!.. А так что
ж, милости прошу, пожалуйте в тень, в холодок!
– Может, угостишь нас стаканчиком винца из старого погреба?
– Отчего не угостить? Угощу. Вино для людей существует. Другая
живность его не употребляет. Только человек... Обождите малость. Сейчас
сбегаю за ключами – и тогда...
Даже по спине удаляющегося Вырлана было видно, как не милы ему были эти
непрошеные гостечки. Он шел за ключами, согнувшись в три погибели и воровски
озираясь по сторонам.
– Теперь часа два будет искать ключи, – смеялся Шеремет.
Алексей Иосифович – кошмарный сон для жуликов. В других районах
секретари меняются так часто, что не успевают приглядеться как следует к
людям, выяснить, кто есть кто, где честный человек, а где с рыльцем в пушку.
Шеремет находился в числе трех райкомовских секретарей республики, которые
бессменно работали на одном месте со времен войны. Он медленно продвигался
по должностям. Перед тем как стать Первым, заведовал парткабинетом, затем
был заведующим отделом агитации и пропаганды, потом секретарем по
пропаганде. А с того момента, когда этот последний стал называться
секретарем по идеологии, Шеремета начали постоянно выбирать первым
секретарем райкома. По этой причине его хорошо знали в здешних местах не
только взрослые, но и дети. Соответственно так же отлично знал и он их. Судя
по всему, выше теперешней ступеньки ему уже не подняться. Между тем он
шутил: смотрите, мол, я уже в Калараше, а он на целых пятьдесят километров
ближе к Кишиневу. Похоже, однако, на то, что эта полсотня окажется для
стареющего секретаря непреодолимой. Сдается мне, что и пенсионером он станет
в Калараше. Грустно, конечно, но что поделаешь?.. У Шеремета уже два сына
работают инженерами в Ленинграде. Один успел жениться. Подтянулись и младшие
сыновья. Самый младший учится на последнем курсе Кишиневского университета.
Единственная дочь стала учительницей, преподает физику. А годы самого
Алексея Иосифовича шустро катятся под уклон, приближаются к рубежу, когда
уже надо нянчить внуков. А выйдет на пенсию – его назначат на какую-нибудь
более легкую должность: люди типа Шеремета уходят на пенсию, но не от
работы. Подыщут, обязательно подыщут ему подходящую работенку где-нибудь в
Комитете по защите природы, или Охране памятников старины, либо в Обществе
охотников и рыболовов. Может пойти в Комитет ветеранов войны или защиты
мира. Было б желание, а дело найдется. Но это потом. А пока что он
выуживает, выводит на чистую воду очередного районного плута.
– Ну и негодяй! Вот посмотришь, Фрунзэ, Иосуб до самого вечера будет
искать ключи. Ох, как не хочется ему показывать нам свой погреб! Небось,
проклинает себя за то, что вовремя не залез в свою нору и не закрылся там!
Иосуб Вырлан явно не торопился с возвращением. Но не спешил и Шеремет.
Он удобно уселся в тени беседки, снял даже пиджак и расстегнул ворот
рубашки. Попробовал на стене выключатель – горит ли свет. Вырлан хорошо
оформил свою беседку. От земли до самого конька шатровой крыши, извиваясь,
ползла виноградная лоза, с которой прямо в беседку свисали гроздья
продолговатых виноградин, похожих на набрякшие молоком соски козьего вымени.
Странно, что, находясь внутри помещения, вроде бы в тени, гроздья все-таки
созревали. Посреди беседки стоял стол, ножки которого были врыты прямо в
землю. Вокруг стола были тяжеленные скамейки, как в каком-нибудь маленьком
ресторанчике, работающем под старину. Черепичная крыша предохраняла гостей
от дождя. Дорожки от порога дома до беседки и погреба были покрыты цементом
и окантованы осколками красных черепков. Цветы, посаженные по краям дорожек,
придавали этому уголку двора вид небольшого ухоженного парка.
– Видишь, что наделали эти сукины сыны кинематографисты? Ведь это они
помогли Иосубу построить его "потемкинскую деревню!"
Тут я вспомнил, что и наша ветряная мельница вторым своим рождением
обязана "киношпикам". Они восстановили ее так, что она стала гораздо








