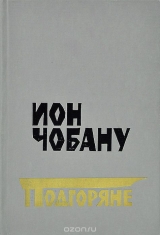
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
высушиваемой сливы, как начинают главенствовать настырные запахи капусты,
перца, синих баклажанов, помидоров – на зиму готовятся соленья. За полночь
появляется иней. По всем дворам всю ночь напролет горят электрические
лампочки. Люди трудятся, убирают все со своих личных участков: орехи, лук,
кукурузу, закатывают бочки с вином в погреба и подвалы. Хорошо, что ночи
длинные, остается немного времени и для сна, и для сновидений. Летом народ
не видит снов: до смерти уставшему человеку не до них. Да и ночи так
коротки, что не успеваешь как следует заснуть, а надо уже вставать и
приниматься за дело.
Я уже говорил, что с тех пор, как вернулся из Москвы в родное село,
видел лишь один-единственный сон. Тот, в котором отец кричал на меня:
"Почему ты не напоил лошадей?!" Но теперь, когда мы управились с уборкой
винограда и я вкусил молодого винца, сны посыпались на мою голову, как из
рога изобилия. Сновидения накатывались сериями. О некоторых забывал еще до
пробуждения. Другие удерживались в памяти кусочками, обрывками, осколками. А
вот один, самый, пожалуй, нелепый сон, запомнился с поразительной
отчетливостью и ясностью. Мне приснился профессор латинского языка из
Московского университета. Он вроде бы переселился в дедушкину хибарку.
Просыпался на дедушкиной лавочке. Подходил к плите, ставил железную кастрюлю
и кипятил в ней вино. Вскипятив, бросал в него кусочки размельченного
горького стручкового перца. Снова кипятил. Затем смачивал куски калача и ел.
Плел, как и дедушка, чулки и варежки деревянным крючком. Пол застилал
соломой, чтобы можно было ходить по нему босым. Жердину от решета ставил в
уголке хатки, точно так же, как делал дедушка, чтоб была под рукой. Поутру
профессор выходил с этой палкой из хижины и отгонял нашего последнего
жеребенка, который подходил сюда, чтобы полизать дверную ручку.
Словом, действовал новый наш житель точно по житейскому сценарию
хозяина хибарки, то есть дедушкиному. Но было одно жуткое "новшество": от
профессора разбегались в разные стороны какие-то странные огромные вши с
соломинкой во рту. Каждый вечер мама приносила ему чистое белье, меняла
постель, наволочки, а вши-великаны появлялись снова и снова. Слышал я во
сне, как тетка Анисья, старшая мамина сестра, говорила, что профессор скоро
умрет. Вошь-де нападает на обреченных. Вернее, не нападает, а покидает их,
как крысы тонущий корабль. Вылезают из-под кожи и разбегаются, потому что не
хотят умирать вместе с человеком. Но профессор ничего этого не знал. Он как
ни в чем не бывало позволял мыть себя и купать, менять ежедневно свое белье,
кипятил вино, размачивал в нем сухари и все время декламировал стихи Овидия
и Вергилия. Декламировал нараспев, восхищался гекзаметрами античной поэзии.
Мама спорила с сестрой, которая советовала не менять профессору белье:
без толку, мол! Мама не соглашалась. Как же она оставит человека без чистого
белья? Что скажут люди?
"Он все равно умрет, – говорила тетка Анисья. – Ему ничем уж не
поможешь! У каждого человека живут под кожей свои вши. У белого – белые. У
черного – черные. Так что не канителься, Катанка!"
"А может, мыло плохое? – спрашивала мама. – Давай попробуем золу от
кукурузных початков!"
"Не поможет и зола! Умирает человек, значит, богу нужно, чтобы он умер.
Не мучь ты его!" – сердилась тетка Анисья. Она очень терпеливая женщина,
такая же, как и мама, но иногда все-таки выходила из себя. В особенности
когда ее не слушала младшая сестра.
Но профессора вроде бы и не касается бабья болтовня. Он декламирует и
декламирует монотонно, будто читает псалмы. Перед тем как лечь спать,
молится у черной доски, на которой проступает лик Николая Угодника, ужасно
строгий в сумерках: "Отче наш... Иже... и Сына... и Святаго Духа... Аминь!"
Твердит ту же, что и дедушка, молитву, соблюдая и бессмыслицу. Святой глядит
на профессора с тем же осуждением, которое было на его лике и тогда, когда
взирал на нашего старца...
Я чувствую, что задыхаюсь, но не могу проснуться. Охвативший меня ужас
не сразу проходит и после пробуждения. Я дрожу, а рассказать маме свой сон
не решаюсь: стыдно. Бывают сны, о которых ты не расскажешь никому, даже
родной матери. И вот еще такие, как этот, фантасмагорические, такие
невообразимые и кошмарные, что лучше, если они останутся при тебе. Мне
стыдно за свой сон перед тобой, Москва, городом, где я провел самые
прекрасные годы своей жизни, годы студенчества. Милая Москва, разве
простительно мне, что память о тебе так или иначе, но все-таки отразилась в
этом чудовищном и нелепом сне?! Все мы грешны не только перед -тобой, но и
перед наивно-добродушным университетским профессором-латинистом. Студенты и
студентки злоупотребляли его доверчивостью и добротой. Он выводил им высокие
оценки по сути за незнание материала. Стоило какому-нибудь хитрецу или
хитрунье пробормотать невнятно: "Какая музыкальность!.. Какая изумительная
чеканка слога у этих античных поэтов!" – как профессор брал зачетку и ставил
"отлично". Ему было достаточно и того, что ты просто признаешься в любви к
латыни, и больше ничего. Мыслями своими он всегда витал где-то в облаках.
Большую часть академического времени на занятиях читал стихи древних, бросив
на стол свой измочаленный пухлый портфель. Декламировать мог и час, и два, и
три подряд. И все наизусть. Тысячи и тысячи гекзаметров – на память! Лишь
делал небольшие паузы, чтобы облизать губы, как после вкуснейшей еды, а
потом снова продолжал декламировать нараспев. Читая, он прогуливался по
аудитории, отсчитывал подошвами своих стоптанных ботинок ритмы классического
стиха. Мы жадно внимали ему и часто не слышали истерического вопля звонка в
коридоре. Спохватившись (в который уже раз!), что перебрал со временем,
профессор хмурился и просил прощения. Мысленно упрекал себя за то, что не
успел спросить у нас, как склоняются и спрягаются такие-то и такие-то
существительные и глаголы. Торопливо называл страницы, которые мы должны
были "проработать" дома, потому что в следующий раз будет строго спрашивать
каждого. Но и в следующий раз он не успевал сделать этого, потому что
девушки при его появлении начинали восхищаться музыкальностью латинской
фразы, а мы, студенты, засыпали профессора вопросами относительно
русско-турецкой войны и освобождения Балкан. Поглядев на студенток
счастливым взглядом за то, что те восхитились музыкальностью латинской
фразы, он бросал на стол портфель и с пылающим взором начинал разворачивать
перед нами, фаза за фазой, картину сражений под Пленной и на Шипке.
Профессор был старше моего дедушки и уже забыл, когда росли волосы на его
голове. Осталось несколько волосинок где-то на затылке да за ушами – и все.
Казалось, перед нами стоял постаревший Юлий Цезарь и рассказывал про свою
войну с галлами. В Балканской кампании наш профессор принимал
непосредственное участие, сражался с оружием в руках, был не погонщиком
волов, как мой дедушка. Может быть, латинист листал перед нами самые дорогие
и незабываемые страницы своей жизни.
По правде говоря, мы не были так уж сильно захвачены рассказом
профессора, но делали вид, что в эти минуты забыли про все на свете и
слушаем только одного его, что давно нам во всех подробностях хотелось
узнать, как штурмовались крепости и другие редуты турок. Таким образом мы
освобождали себя от слушания скучных лекций по латыни. Немудрено, что никто
из нас даже с помощью словаря не мог перевести не только длинных
гекзаметров, но и прозу помянутого тут Юлия Цезаря. А о грамматике и
говорить нечего. Когда профессор собирался заговорить и о ней, за дверью
раздавался трескучий, переполошный звонок.
После смерти профессора каждый из нас испытывал нечто вроде угрызений
совести. Латинист умер в наше отсутствие, во время каникул. Мы даже не
смогли проводить его в последний путь и там, у его могилы, хотя бы мысленно
попросить прощения за свои проделки. Умер старик не своей смертью, а попал
не то под трамвай, не то под колеса троллейбуса. Бедный профессор на склоне
лет был почти совсем слеп и глух...
Все семестры для нашей группы закончились вполне благополучно. Латынь в
наших головах и не ночевала, зато высокие отметки по латыни в зачетках были.
И поэтому мы не могли не вспомнить добрым словом покойного профессора и не
поблагодарить его хотя бы сейчас, когда он уже не нуждался ни в наших, ни в
чьих-либо других благодарностях. Что и говорить, мы чувствовали свою вину
перед латинистом. Других старых професоров студенты приводили на лекции под
руки. К иным за консультациями приходили на дом. Наш же старичок
собственными ножками добирался до нас даже в вечернее время. Спешил к нам,
чтобы переложить часть своих обширных знаний в наши пустые черепки. А мы
хитрили, ловчили, обманывали его. Не за эту ли провинность мне и приснился
такой "премиленький" сон? Сновидение, от которого я долго не мог оправиться,
прийти в себя.
Прошло без малого десять лет со дня смерти профессора. Признаться, я и
забыл про него. Молодость редко задумывается о старости. И как наказание за
эту забывчивость и явился ко мне во сне уважаемый профессор. Мне, очевидно,
нужно все-таки кому-то рассказать про этот сон. Говорят, ежели расскажешь
кому-нибудь о жутком сновидении, то избавишь себя наполовину от возможных
неприятностей наяву. Боялся я не за себя, а за дедушку: как бы с ним чего не
случилось.
– Ты видел своего профессора в дедушкиной избушке? – спросила мама.
– Да. Он кипятил вино в закопченной кастрюле дедушки.
– А когда ты видел этот сон: до полуночи или после полуночи?
– Я спал. Как же я мог установить время?
– Ты, сынок, не беспокойся. Сон твой не плохой. Вши – это деньги!..
– Ха-ха-ха! – захохотал Никэ. – Дедушка обрастет деньгами, как лягушка
шерстью. Да он даже пенсию свою не хочет получать!
– Что ты ржешь как жеребец! – обиделась мама. – Никто никогда не
знает, откуда может привалить человеку счастье!
Между тем приближались Октябрьские праздники. Повсюду были вывешены
красные флаги, лозунги, плакаты, транспаранты. Никэ готовился к крестинам
своего наследника. Мы горячо спорили, подыскивая имя сыну, а нашему
правнуку, внуку и племяннику. Дело это оказалось далеко не легким. Ребенок
один, а красивых имен много. На каком остановиться? Ведь человек будет
носить его всю свою жизнь, а она может оказаться долгой. Мама почему-то
настаивала, чтобы мальчику дали имя в честь деда со стороны матери.
– А как звали бабушкиного отца? – спрашивал Никэ.
– Мироном. Очень хорошее имя, сынок! – отвечала мама.
– Как, как? Мирон, говоришь?.. Да ты что, мама?! Кота нашего так
зовут. А ты хочешь, чтобы я сыну дал это имя?! Ни за что!
– Тогда давай назовем его Георгэ. Как твоего дедушку со стороны отца.
– Георгэ – это еще куда ни шло. Но Мирон – ни в коем случае!
Споры шли до тех пор, пока не вернулся из райцентра отец. Сам он не
предлагал никаких имен, но решительно потребовал:
– Называйте как угодно, но только поскорее. Надо вскипятить побольше
воды. Ведь я пришел не один, а вместе с Илие Унгуряну. Он поможет мне
заколоть кабанчика. А вы тут с самого утра толчете воду в ступе. До сих пор
не можете выбрать ребенку имя, как будто породили какого-нибудь принца!..
Илие Унгуряну заявился с австрийским штыком за голенищем сапога. Прежде
отец никого не звал себе в помощь: сам резал и сам же разделывал кабана.
Шкуру осмаливал с помощью подожженной соломы, чтобы" она была
светло-золотистой и мягкой. Стряхнув золу, окачивал шкуру кипятком,
хорошенько соскабливал обгоревшую щетину, сбривал ее начисто. Сало вместе со
шкуркой отделял от мяса и засаливал, оставшуюся часть туши подвешивал в
амбаре или в подвале. Управлялся, повторяю, со всем этим нелегким делом сам.
Но после одного случая, когда громадный кабан целый час носился по двору с
воткнутым под лопатку ножом, глава нашего семейства не решался уже один на
один выходить на схватку с обреченным на смерть животным и кого-нибудь
обязательно приглашал на помощь. Теперь вот привел Илие Унгуряну, который,
войдя в дом, весело попросил:
– А ну-ка, мош Костя, принеси кувшинчик вина, а кабан пускай поживет
еще с полчасика... Я-то, чудак, думал, что бригадир сам догадается и
припасет винца!
– Принесу хоть два кувшинчика, только боюсь, как бы после этого ты,
Илие, не всадил нож в кабанью спину!
– Не бойся, мош Костя. Попаду куда нужно. У меня не пикнет! – заверил
Илие.
– А сколько вышло винограда? – спросила вдруг мама.
– Шесть тысяч семьсот тонн, тетя Катанка, – ответил за отца
Унгуряну. – Третье место по району – вот так!
– О господи! На целых три тысячи тонн больше, чем в позапрошлом
году! – радостно удивилась мама.
– Нам,, мать, повезло: поправились подмерзшие виноградники и новые
дали хороший урожай, подросли и они, – сказал отец.
А Илие посоветовал, обратившись к моему брату:
– Ты, Никэ, подлизывайся к отцу, угождай ему во всем. В конверте мош
Кости лежит пол-автомобиля. Ты это учти!
Отец улыбается и передает конверт маме. Затем берет кувшин, чтобы
отправиться в погреб. Илие надо, конечно, угостить, да и самому не грех
пропустить несколько глотков; оба они с дороги, а впереди ждет нелегкая
работа.
Илие Унгуряну тоже премировали, и он вернулся из Калараша
радостно-возбужденным.
Никэ, которого не нужно было учить, как надо подлизываться,
перехватывает у отца кувшин: сам, мол, сбегаю за вином. Илие отпускает в его
адрес шуточки, задевает и маму:
– Да ты не считай деньги, тетя Катанка! Дареному коню в зубы не
смотрят!..
– А ты не сбивай меня! Человек находит деньги на дороге и то
пересчитывает! – отвечает мама. – Мне кажется, что вы успели заглянуть в
ресторанчик!
– Ну, это ты зря, мать! – приходит на помощь гостю отец, улыбаясь. -
Не было у нас времени на разные рестораны и другие питейные заведения.
Заглянули на обратном пути к Илие: нужно было прихватить австрийский штык...
– Так я тебе и поверила! – говорит мама, тоже улыбаясь. – Аль не вижу,
что вы не пронесли стаканчики мимо рта?..
Мама перешучивалась с мужчинами, а денежки все-таки пересчитала самым
тщательным образом. Она питала к ним слабость, как, впрочем, и всякая
женщина. Вдруг вспомнив что-то, она бьет себя ладонью по лбу:
– Да .как же я сразу-то не подумала?.. Слышь, Тоадер? – окликает она
меня. – Это все твой сон! Говорила тебе, что он к деньгам?!
– Какой еще сон? – удивляется отец, глядя то на нас, то на Илие. Отец
уехал на районный актив до рассвета й ничего не знал о моем кошмарном сне.
Мама охотно пересказала чудовищное содержание моего сна, и было видно,
что она страшно довольна собой: разгадала-таки его!
Никэ принес вино и присел поближе к маме – пытается, плут, выведать, в
какую сумму вылилась отцова премия. Говорит ей, что согласится дать сыну имя
Мирон, если она скажет, сколько получил отец.
Илие вовремя вспоминает, что пора приниматься за дело. Выпивает свой
стаканчик и говорит:
– Ну, в добрый час! День сейчас короткий, а с кабаном будет, много
возни!-
Мы все выходим во двор. Там дедушка ведет разговор с дочерьми Унгуряну,
увязавшимися за отцом. Старику хотелось бы узнать, кто те поганые мальчишки,
которые бросают в его колодец шариковые ручки.
Илие набрасывается на дочерей:
– А ну марш в школу! Чего вы ходите за мной, как ягнята!
– Мы пришли поглядеть, как ты будешь резать кабанчика! – ответили
девочки.
– Ступайте, а то опоздаете. Хвостик и ушки я принесу вам. Не
беспокойтесь.
Одеты девочки были в одинаковые платья – так одевала их Мариуца, чтобы
одна не завидовала другой. И цвет, и фасон – все одинаково. И похожи малышки
на куколок, только что принесенных из магазина и вынутых из упаковочной
коробки. Одна лишь была чуток повыше – тем и отличались сестренки. Такие
кудрявенькие и белокурые куклы обычно продаются в прибалтийских наших
республиках или в Финляндии. Дедушку это занимает.
– Где ты нашел таких беленьких, коровья образина? – спрашивает он Илие
Унгуряну,
– Теперь такие в моде, мош Тоадер.
– Сам-то ты здоровенный и черный, как цыган, а дочек понародил
белобрысых. Может, в мать пошли?.. Но, кажись, и она смуглая? А? Аль
покрасилась?.. Ведь теперь все бабы ходят в штанах и все красятся!..
– Моя Мариуца не красится. Она немножко смугловата. А в детстве,
наверное, была такой же, как вот они.
– Гм... И у тебя одни девчата... Правда, ты еще молод, беш-майор.
Может, будут у вас еще и мальчишки... А вот теперь я знаю, почему ты всю
свою избу облепил зеркалами. Это для того, чтобы вот им, – дедушка указал на
девчонок, – было на что пялить глаза и причесывать лен на головках... Но ты
ослепил нас всех. Я не могу пройти мимо твоего дома, того и гляди врежусь в
стену, коровья башка!
Были бы у Илие мальчишки, рассуждал старик, он не тратился бы на эти
глупые зеркала, в них бы не было нужды.
– Я буду копать и копать, пока не доберусь до мальчиков, мош Тоадер!
– Копай, копай, пока есть чем копать, – замечает старик.
Слышится пронзительный визг кабана, который никак не хочет покидать
свинарник. Отец и Никэ тянут его за уши, за ноги, но свинячий сын отчаянно
сопротивляется. Чует, знать, недоброе. Да и как не чуять, ежели Илие
Унгуряну уже вытаскивает из-за голенища австрийский штык.
– Принесите корыто! – требует он.
Мама подбегает с деревянным (из ореха) корытом. Кабанчика уже выволокли
из хлевушка и повалили на землю. Год всего прожил он на свете, а мы
вчетвером едва удерживаем его. Илие одним коротким движением бьет его под
лопатку и направляет освобожденную кровь в корыто. Мама, которая сама режет
кур и гусей, теперь отворачивает голову в сторону, чтобы не видеть последних
конвульсий умирающего кабанчика.
– Уходи отсюда! – кричит на нее отец. – Тебе жалко его, потому он
никак не может умереть. Не мучай животное, уходи!
Он говорит так потому, что ему и самому жалко кабана. Как никак живое
существо. Целый год за ним ухаживали, кормили, поили, тревожились, когда
кабанчик болел. Радовались хорошей породе, тому, как быстро прибавлял он в
весе. Но подошла осень. Наступали праздники. Никэ готовился к крестинам. Это
все и приблизило роковой час для кабанчика. Вот он лежит на соломе, а корыто
полно его кровью. Поворачивают тушу спиною вверх, обкладывают всю соломой и
поджигают ее. Потрескивая, горит щетина. А было время, когда палить свиную
шкуру не разрешалось. Ее надобно было снять и сдать государству: разоренная
войной страна оказалась почти нагой и босой. Свиная кожа шла на обувь. А
когда-то самые длинные и жесткие щетининки отбирались для щеток и для
дратвы. Теперь же магазины ломились от разной обувки. И щеток там сколько
угодно. Свиней палят повсюду и открыто. Отец держит пылающий жгут с одной
стороны, Илие – с другой.
По обе стороны свиной туши стоим и мы с Никэ и делаем то же самое.
Пахнет горящей соломой. Подванивает щетиной, приятно пахнет подрумяненной
свиной шкуркой.
Работая, Илие Унгуряну развивает перед дедушкой разные теории. Он
говорит, что смог бы осмолить шкуру кабана и с помощью паяльной лампы. Но
тогда она стала бы жесткой, как сапожная кожа. И шкурка, и сало получаются
сочными и ароматными, когда тушку опаливают соломой. Шкурка делается чистая,
румяная и приятно хрустит на зубах. А от паяльной лампы и сало делается
тверже, не говоря уже о шкурке.
Отец замачивает в кипятке жгуты соломы, обтирает ею тушу и затем бреет
ее, выскабливает. Илие вырезает небольшие дольки и от шкуры, и от ушных
хрящей – с аппетитом ест.
– Ты, Илие, жрешь прямо с волосом, как волк! – смеется дедушка. Он
крутится возле нас с неизменным кувшинчиком вина. Наливает в кружку и
подносит ее то одному, то другому, боясь только перепутать очередность.
– Эй вы, лупоглазые, идите-ка сюда! – окликает он дочерей Илие
Унгуряну, которые стоят за калиткой, прижавшись к верее. А в школе
надрывается звонок. Блондиночки слышат его, но не торопятся возвращаться в
школу. Заметив их, Илие отхватывает обработанный хвостик, кончики свиных
ушей и кидает к калитке, как собачонкам. Дедушке хочется быть более
вежливым. Он подзывает девочек, чтобы угостить их глотком вина. Но
возмущенный Илие прогоняет их прочь.
– Марш в школу! Получили свою долю – и убирайтесь! А если сунете свои
мордашки в кружку с вином, выпорю!..
Илие читает мораль и старику: зачем приучает к вину малолетних? Разве
он не знает, как сердится директор школы, когда видит на губах учеников
темные усики от красного вина?..
– Приходят эти паршивцы в праздничные дни в школу с мордочками,
измазанными вином до самых ушей. За это директор и мне однажды намылил шею.
Увидал у моих дочерей следы вина и отчитал меня. На белых личиках красное
вино оставляет следы особенно заметные. Беленькие-то, они у меня беленькие,
мош Тоадер, а усики красные получились. Вот мне и влетело! Вино, говорит
директор, отбивает у детей память, и они плохо усваивают уроки. Так он мне
сказал...
Бадица Василе Суфлецелу плетется от автобусной станции с кирзовой
сумкой, набитой газетами и журналами. Не знаю, какая часть прочитываемся в
селе из такой массы периодики, но бедный бадя Василе сгибается под тяжестью
своей ноши, как коромысло. Дома он сортирует почту по участкам села и
намечает порядок разноски. Это он делает для того, чтобы не носить всю
корреспонденцию сразу. А вот сейчас он прямо-таки рысью мчится в сторону
нашего двора с полной, что называется, почтальонской выкладкой. Может быть,
он приметил дедушку с кувшинчиком в руках? Или вознамерился попросить у
отца) чтобы тот дал ему взаймы с пудик мясца? Теперь, когда в магазинах были
перебои с этим продуктом, сельские жители стали брать мясо друг у друга
взаймы. Забивает какой-то хозяин кабана, теленка, барана – половину
"позичит" людям, а другую половину оставит себе. Взявшие взаймы возвратят
долг сполна, когда наступит срок забивать свою скотинку. Так и выручают друг
друга в течение всего года. Редкий хозяин теперь продает мясо. Разве что по
крайней нужде. В Кукоаре, например, все перешли на взаимоодолжение. Что
касается бади Василе, то он держит у себя на дворе много овец и разной
птицы. Но кто его душу знает? Вдруг ему захотелось свининки свеженькой?
Что-то уж он здорово нажимает!
По тому, как сияло его лицо, мама сразу поняла, что почтальон несет
добрые вести. Может, приезжают из Донбасса ere сыновья?
Мама терялась в догадках. Между тем бадя вытащил из сумки большой
конверт с сургучными печатями и двумя проволочными защепками посередине и,
вручив его мне, заставил тут же расписаться в получении. Дождавшись, когда я
поставил свою подпись в его разносной книге, разрешил мне сорвать печати с
конверта. С проволокой прищлось повозиться. Ее концы так плотно врезались в
бумагу, что я поддел ее австрийским штыком Илие Унгуряну.
– Что, что там, сынок? – нетерпеливо спрашивала мама.
– Меня... меня вызывают в Кишинев!.. Слышите, в Кишинев!.. Срочно!..
Никэ вырывает письмо из моих рук. Поворачивает его так и сяк.
Недовольно бормочет:
– Подождут, ничего с ними не случится. Ты больше ждал.
– Нет, нет. Тоадер должен ехать немедленно, – говорит отец,
– Поедет. Но, только после крестин моего сына!
– Он успеет вернуться к ним. Не будут же держать его в Кишиневе в
праздничные дни! – резонно замечает мама. На радостях она опять начинает
пересказывать мой сон. Каким он вышел счастливым! Дедушка впервые слышал о
нем и теперь сердился, что впустили в его жилище какого-то вшивого
профессора из Москвы. Но мать не слушает старика и продолжает свое:
– Тебе на роду записано в зодиаке, сынок... Твое счастье всегда будет
приходить осенью. Осенние месяцы самые счастливые для тебя. Попомни мое
слово! Только гляди, не езди в Кишинев в черной одежде. В зодиаке твоем
написано, что тебе нельзя одеваться в черное. О господи, как хорошо, что ты
родился на рассвете! Ведь если б ты появился на свет до кочетиной побудки,
то стал бы самым отъявленным вором, лесным разбойником. Но бор миловал нас,
избавил тебя от такой судьбы! Ты, Тоадер, родился под утро, и в созвездии
твоем сказано, что станешь знаменитым человеком. Так мне и цыганка нагадала.
Лишь бы, говорит, не носил черного костюма. Я не верю цыганке, но и она
предсказала то же самое. Я-то и без нее знала, что быть тебе знамениту!
– Знаменитым чиновником, протирателем штанов – вот кем он будет! -
портит мамину обедню дедушка. – Если сойдется с кишиневскими булочниками,
которые ходят с карандашами за ухом, то выйдет из твоего Тоадерика настоящий
щелкопер. А ты начнешь таять от радости, коровья башка!.. Будет и он
перекрывать трубы в избах, как этот прохвост Иосуб Вырлан!..
Все огромное тело Илие Унгуряну сотрясается от смеха. Затем Илие
неожиданно вспоминает, что рядом с ним находится Василе Суфлецелу, и
поворачивается к нему:
– Суфлецелу, где твоя жена?
– А какое у тебя дело до моей жены? – в свою очередь осведомляется
почтальон.
– Есть кое-какое дельце. Приведи ее сюда. Я ее осмолю, как вот этого
поросенка!"
– Ну, ты не больно-то!-, Что плохого сделала тебе моя Аника?
– А кто пустил по селу сплетню о Тоадерике? Не Аника разве болтала,
что он голым бегал по улицам Москвы?– Приведи, и я ей прямо на твоих глазах
отверну голову, как куренку! Передай, чтобы она не попадалась мне на глаза.
А то оттяпаю ее длинньгй язычище вот этим штыком!..
4
Никэ обеспокоен больше всех. Чтобы ускорить мое возвращение из
Кишинева, он не дает мне возможности дождаться вечернего автобуса. Усаживает
в коляску мотоцикла, и его "Ирбит" начинает трясти меня так, словно
вознамерился вытряхнуть мозги из моей головы. Если брат будет и дальше
выдерживать такую сумасшедшую скорость, то случится одно из двух: либо мы
через час окажемся в Кишиневе, либо через несколько минут влетим под
недостроенный еще мост на Каларашском шоссе.
Надо знать моего брата. К намеченной цели он устремляется не только
всеми фибрами души, но и на предельной скорости. До прихода бадицы Василе
Никэ, развернув простыню желудочной оболочки кабанчика, восхищался ее
золотистым цветом и звездочками жира на ней. Поднимал над головой,
просвечивал на солнце, предвкушая, какие будут великолепные котлеты,
завернутые в такую жирную одежду, Никэ обожал их и знал, что мать нынешним
же вечером будет стряпать такие. Но и котлеты не удержали его дома. Мы
проглотили по кусочку наспех поджаренной печенки и выехали со двора, где
мама принялась промывать кишки, обсыпанные кукурузными отрубями, протирать
их таким образом. После этого она хорошенько промоет их в кипяченой воде,
наполнит пропущенной через мясорубку свининой, и это будет домашняя колбаса.
Круг за кругом уложит ее в глиняный горшок-амфору, наполнит до краев
сочными, подрумяненными колбасными кренделями, вкуснее которых, кажется,
ничего уж и не бывает на свете. Впрочем, я забыл об одной чрезвычайно важной
детали, без которой не обходится мама при изготовлении домашней колбасы.
Укладывает она ее так: слой колбасы, слой котлет, обернутых все в ту же
оболочку требухи. И так до самого верху. Затем покрывает содержимое амфоры
топленым салом, и когда оно застынет, колбаса и котлеты могут храниться
сколько угодно. Никэ, наверное, рассчитывал полакомиться ими по возвращении.
Я же вовсе не был уверен, что и мне доведется отведать маминых кушаний
на именинах сынка Никэ. Я думаю об этом и о том еще, как мама уговаривала
младшенького, чтобы он не привозил из Кишинева парней с электрическими
барабанами и гитарами. Довольно и того, говорила мама, что Никэ сыграл свою
свадьбу под рев этих дьявольских инструментов, от которых у жителей Кукоары
до сих пор в ушах звенит. Все свабедные дни село чувствовало себя, как при
бомбежке. Хватит, мол, с нас этого шуму-грому!
Никэ какое-то время правит мотоциклом молча. Я краешком глаза едва
успеваю следить за дорогой. Впервые вижу, что шоссе из Хирова теперь связано
с асфальтированной дорогой из Онишкан. Мы выскакиваем на какую-то дамбу, и я
вижу Гербовецкий монастырь. Слышал я, что его отремонтировал за свой счет
знаменитый одесский глазной врач, академик Филатов.
Проезжаем долину и через несколько минут оказываемся у самых стен
монастыря. Он стоит на окраине Рэчулы. Намеревались проследовать дальше, но
нас не пустили: участок шоссе между Рэчулой и Каларашем уничтожен оползнем.
Никэ, не раздумывая, выворачивает руль мотоцикла, и мы мчимся в сторону леса
Гаицы. Справа видны Онешты. Слева, сквозь дубраву, виднеется Цыганештский
монастырь. А еще раньше, недалеко отсюда, промелькнул Гыржавский монастырь.
Кто знает, какими соображениями руководствовались святые отцы, облепив все
здешние места монашескими обителями? Монастырские башни и их кирпичные стены
покрыли все кодрянские леса. Теперь в них размещены санатории и дома отдыха.
Один из монастырей стал даже обителью не монахов и монахинь, а алкоголиков,
помещенных сюда со слабой надеждой сделать их трезвенниками. Со слабой -
потому, что статистика давала мало поводов для оптимизма: редкий из
побывавших здесь избавлялся навсегда от своего недуга...
Обо всем этом я узнаю из слов брата, который в полуобороте ко мне
короткими громкими выкриками делится со мною сведениями. Брату приходится
орать изо всех сил, надрывать глотку, потому что его мотоцикл ревет так, как
ревут подобные машины при "смертельном" цирковом аттракционе на
весенне-осенних ярмарках. Лес Гаицы, известный с древних времен густыми
зарослями сумаха, сок которого использовался при окраске ковровых ниток, уже
не кажется мне таким страшным, каким казался раньше. Справа и слева мелькал
какой-то невзрачный кустарничек, хотя это был все тот же лес. Мы вылетаем на
вершину холма. С него уже видны высокие трубы кишиневских заводов. В долине
лежит плоское зеркало огромного озера.
– Гидигичское море, – бросает мне Никэ, зная, что я еще не видел этого
водохранилища.
К моменту моего отъезда только начинали асфальтировать улицы
республиканской столицы. А теперь я увидел, что все без исключения улицы
сменили булыжник на асфальт. Со Скулянской рогатки исчез трамвай – его место
занял троллейбус. Всюду возвышались громады новых строений, административных
и жилых домов. Страх перед возможными землетрясениями, который охватывал
архитекторов и диктовал им не забираться со своими новостройками выше пятого
этажа, – этот страх прошел. И Кишинев устремился ввысь своими красивыми
железобетонными и стеклянными зданиями. Тут легко отличишь горожанина от
деревенского жителя, который, поправляя мешок за плечами, будет стоять у
такого красавца дома и задирать голову, чтобы добраться глазами до
последнего этажа. Я хоть и без мешка, но, наверное, смахивал на такого
зеваку. Хоть жил и учился в Москве почти десять лет, но все-таки то и дело
останавливался чуть ли не перед каждым высотным домом и пересчитывал его








