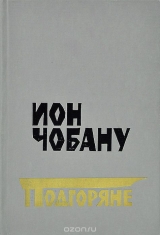
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Это так. В хорошую-то погоду и автобусы ходят.
– Да и другие машины по сухой дороге бегают туда-сюда. А когда
развезет, то даже новобранцев возят в район на тракторах. По лесной-то
дороге в дождливую пору на автомобиле не проедешь.
– В распутицу и телеграммы идут из района по три дня.
– Василе сказывал, что скоро, вишь, восстановят наш район.
– Дай-то бог! Я тоже слышала такой разговор. Но когда это будет?
Правду говорят умные люди: упаси боже от того, чтобы затянулась твоя хворь
до той поры, пока созреет виноград!..
– А было б очень хорошо, если б восстановили наш район! – мечтательно
произнесла одна из собеседниц.
Женщины продолжали судачить и судачили б, наверно, еще очень долго,
если б их не остановил дедушкин крик. Старик ворвался во двор откуда-то, как
коршун, и заорал:
– Где топор? Я разрублю эту дырявую тыкву, какая у меня на плечах...
Забыл тут ремень!.. Теперь на мягкую подушку положу ноги, а эту голову-тыкву
оставлю спать на ореховом корыте!.. Чтобы знала, старая развалюха, про свои
обязанности, помнила бы, что надо, и не заставляла меня по многу раз бегать
туда-сюда. Не голова – решето!.. Ничто не задерживается в ней!.. Надо же -
забыть ремень от кацавейки!.. Тьфу, коровья образина!
Никэ куда-то убегает и сейчас же возвращается со злополучным ремнем.
Пытается успокоить старика. Но старика уже понесло, как норовистую лошадь,
которой вожжа попала под хвост. Орет, клянется, что положит голову на плаху,
чтобы не давала лишней работы его старым ногам. Вечно, мол, эта "тыква"
что-нибудь да забудет. Из-за нее одну и ту же работу приходится делать
множество раз.
Дедушка всполошился не напрасно, ибо ремень, его был бы бесценным
приобретением для тех, кто скоблит свой подбородок по старинке опасной
бритвой. Сработанный из настоящей кожи, он от долгого употребления был
черный, как деготь, и скользкий, как стекло. Ничего не было лучше, чем
поправить, "навести" бритвенное лезвие после того, как наточишь его на
бруске. Словом, дедушка знал ему цену, а потому и поднял панику: с
незапамятных времен он как зеницу ока хранил свой ремень.
– Вы что тут табунитесь, таращите свои зенки! – набросился он на Ирину
Негарэ и Анику Суфлецелу, вынужденных прервать милую их сердцу беседу. -
Может, и вы носите штаны?.. Аль никогда не видали мужского ремня и прибежали
глянуть на него?.. Я натерпелся столько страху из-за него!.. До сих пор
трещит голова, как расхристанная молотилка!..
Не имея решительно никаких секретов от людей, старик выкладывал им все,
что скапливалось у него в голове и на сердце. Испытывая давнюю неприязнь ко
всем, кто жил за лесом, то есть к жителям Чулука, он говорил им об этом
прямо в глаза. Не мог простить им и того, что при дележе помещичьих угодий
эти "дымари", эти "нищие" прихватили самые плодородные земли и создали на
них богатейший совхоз. С этим, может быть, дедушка со временем и примирился
бы, но вот того, что там женщины ходят в брюках, вынести уже не мог. А то,
что еще и внука переманили к себе, увеличивало стариковский гнев до крайней
степени. Богатые, шумел дед, в финских банях парятся, а еду для себя
готовить не умеют. Кроме студня из молодого барашка других блюд и ее знают,
не научились готовить. Не забыл обругать за глаза и своих дочерей,
повыходивших замуж за "дымарей". Ругал на чем свет стоит и их храмовой
праздник – день святой Марии. Угодил на злой стариковский язык и Василе
Суфлецелу, который привел свою Анику тоже из этих мест.
– Не нашел черный баран невесты в своем селе! – кричал дедушка. – Она,
ведьма, купила его за амфору вина и наплодила ему полный двор байстрючат. И
внука моего купили за ломоть жирного чернозема. И он поддался, коровья
образина!..
Покидая двор Никэ, дедушка с яростью хлопнул калиткой. Успокоился
маленько лишь у своего колодца. Впрочем, ненадолго. Через минуту его вновь
прорвало:
– Круглый год из-за дыма и тумана их села и не видать, а вот поди ж
ты – черешни у этих проклятых "дымарей" поспевают раньше, чем у меня, на
целых две недели!
Досталось и туману, и дыму, и черешням, которые будто не знают, где им
родиться, как созревать; попутно – в какой уж раз! – обрушивался с бранью на
дочерей, вышедших замуж за этих ненавистных для него "дымарей" и чужаков.
Больше всего перепадало Никэ, этому "предателю рода и племени", как
выразился старик.
– Я как в воду глядел, когда говорил, что из этого паршивца непременно
вырастет городской бубличник! – разорялся он.
Затем шли перечисления всех преступлений внука. Одно из них было, с
точки зрения дедушки-, совершенно уж непростительным. Привез, возмущался
старый ворчун, жену аж с берегов Дуная, а она, как верховая кобыла,
оказалась бесплодной. Не может родить хотя бы одного байстрючонка, который
порадовал бы старика на склоне его лет, под конец жизни. Устлала и завещала
весь дом коврами, бездельница, заставляет всех разуваться у порога!.. Черта
с два: нога почтенного старца и не ступит никогда за этот порог! Разве она
не знает, что он с величайшим трудом развязывает шнурки, когда готовится ко
сну в своей хибарке?! У него и без разувания, без этих проклятущих шнурков
скрипят все кости, а ключица повреждена еще в молодые годы.
– Привередливый старикашка, – улыбается Никэ. – Только баня моя
пришлась ему по душе.
Никэ с его характером нелегко вывести из равновесия. Его толстую кожу
не проткнешь и цыганской иглой. Дедушкино буйство для Никэ вроде спектакля.
Вот и сейчас, возясь со своим мотоциклом, брат корчится от смеха, вспоминая
трам-тарарам, поднятый неуживчивым стариком.
– Предлагал мне перебраться в его конуру! – хохочет Никэ. – Обещал
научить кроильному искусству. Бондарничать и столярничать обещался научить.
Когда же я не принял его предложения и перебрался сюда, дедушка и тут не
дает мне житья. Придирчиво следит, что я тут делаю, как веду хозяйство.
Боюсь, что в один прекрасный день он приволочет свое кроильное решето и
установит в моей передней! Он уже приглядел в сенях, в одном углу, место для
крупорушки...
– Перестал бы ты, Никэ, валять дурака, молоть языком! – пытался я
остановить брата. – Довольно врать!
Никэ смотрел на меня в крайнем удивлении.
– Думаешь, вру? А ты спроси у родителей. Старик до сих пор бережет
свою ручную мельничку, жерновок то есть, как редкую драгоценность. И решето
хранит так же, хотя уже давно никто не пользуется им. Ни мельничка, ни
решето никому теперь не нужны: отошло их время. Тем не менее дедушка
продолжает ухаживать за своим инструментом. Сам уже не может поднять камень,
чтоб сделать на нем новую насечку, на помощь себе зовет мош Петраке.
Водрузив на нос очки, целыми днями порою возится с тем камнем... Мою жену
обозвал бездельницей, хотя она отвечает в совхозе за все финансовые дела,
иной раз целыми ночами просиживает вместе с бухгалтерами над бумагами. Дома
почти не бывает – некогда. Запасные ключи находятся у мош Петраке. А калитка
не запирается. В наше отсутствие Петраке приходит и хозяйничает тут вовсю:
поливает огород, пропалывает его. Приглядывает и за домом. Не забывает и
своих соток, обрабатывает их. А чтобы не вступать в перепалку со своим
старшим братом, не перечит ему, уступает во всем. Зная, как тот любит
попариться в бане, готовит ее, греет воду, припасает мочалку и дубовый
веник. Последнее время старый скандалист, точно селезень, постоянно
полощется! Баней в основном он только и пользуется...
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Занятый постоянными своими заботами, народ находит время и на то, чтобы
позабавиться причудами самого древнего жителя Кукоары. Дедушка между тем был
несокрушимо убежден, что это вовсе не причуды, что просто так, зазря, он
ничего не делает и никаких пустых слов не говорит, то есть не болтает
попусту. Будто строгий ревизор или инспектор, останавливается он чуть ли не
у каждого двора и начинает по-своему оценивать обнаруженные им перемены: "Ну
вот... Этот беш-майор построил себе4 не дом, а новую школу... Коровья
образина!"
"Новой школой" дедушка называл большой просторный дом, каких теперь
немало понастроено в Кукоаре, равно как и по всей Молдавии. И все-таки
старик добавлял с досадой: ни у кого, мол, такого дома нет!.. Ишь,
расхвастался! Иногда его страшно злили не новые дома, а железные ажурные
ворота и высокие каменные погребицы посреди двора, и тогда старый придира
ворчал: "Прежде люди учились на доктора, чтобы иметь кусок хлеба, а
нынешние.– как их там?., мех... мехзаторы, моторщики разные, катаются в свое
удовольствие на трескучих машинах и лопают кусок хлеба, намазанный толстым
слоем масла!"
Когда он говорит про себя ли, вслух ли такие слова, то так и знай: дед
остановился перед домом молодоженов. Новые семьи теперь по большей части
составляются так: она учительница – он шофер; она врач – он тракторист, или
комбайнер, или электрик, или высококвалифицированный рабочий с какого-нибудь
ближайшего завода; этот последний ночует в селе, а днем сидит в кабине
высоченного башенного крана, орудует там рычагами либо стоит у заводского
станка.
Слов нет, село разительно изменилось, похорошело, как написал бы
газетчик. Но почему же холодком, чем-то едва уловимым, нерадостным веет от
его великолепия, внешней красоты? Почему при взгляде на красу эту в сердце
твое непрошено вкрадывается легкая грусть, даже печаль? Все вроде бы есть в
новом доме для человеческого благополучия: большая комната с модной,
"современной", как ее называют, спальной мебелью; просторная, тоже
"современная", гостиная. Газ. Вода. Электричество. Телевизор. Чего еще не
хватает?.. Но чего-то все-таки не хватает, ежели в сердце закрадывается
холодный сквознячок? А уж не отгородили ли эти красавцы дома людей друг от
друга непроницаемой крепостной стеной? Имея узкую специальность, рабочий
совхоза отрабатывает свои часы, возвращается домой, и до следующего утра его
никто не видит. Людей на селе много, а почему-то ты не можешь избавиться от
ощущения некоей пустоты. Без коровьего мыка, без овечьего и козьего блеяния,
без кочетиного крика на заре, стожка сена или соломы в закутке, нередко даже
без собачьего бреха во дворе – что же это за село такое? Не петух будит
человека, а будильник, заведенный с вечера на определенный утренний час,
чтоб человек этот не опоздал к автобусу и вовремя приехал к своему станку
или башенному крану, на строительную ли площадку, на укладку асфальта, к
печам, где калится кирпич или черепица, к автоматической линии на заводе или
фабрике...
С той поры как ликвидирован район, захирел как-то и наш городок. Его
жители продавали свои дома прямо-таки за мизерную цену, лишь бы только
поскорее избавиться от них и перебраться в другое место. Из старых моих
знакомых я повстречал возле парикмахерской только Фиму: он подкарауливал
редких клиентов у входа в парк, который тоже был запущен и подметался лишь
два раза в году: к Первому Мая и осенью, ко Дню урожая. Если кто-то и
заходил в парикмахерскую Фимы, то это случалось в воскресенье, в базарный
день. Вся культура в городке, покинутом соответствующими районными
учреждениями, вертелась теперь возле этой самой парикмахерской да еще у
кинотеатра. Тут можно наслушаться чего угодно: молодые обсуждали дела
футбольные, старики и старушки вели разговор о кадушках для солений, о
повидле из слив; иногда вспыхивали дискуссии вокруг -кроличьих ферм, клеток
с попугаями и аквариумов с золотыми рыбками. Каждый парикмахер или инженер с
консервного завода, с хлебопекарни, ликеро-водочного, строительного
предприятий, с завода по изготовлению железных заборов и ворот и других -
словом, все специалисты, оставшиеся еще в бывшем райцентре, обзавелись
теперь кроликами, клетками с канарейками и попугаями, аквариумами с
диковинными рыбками.
Дискуссии разгорались жарче, когда к парикмахерской или кинотеатру
приходили городские фотографы. Фотомастер Шура мог с успехом заменить
печатный орган, он был вроде живой газеты. Он запечатлевал на пленку все,
что попадало в его объектив: эти сам-ые клетки с кроликами, попугаями и
канарейками, аквариумы и прочее; бывал, разумеется, на всех свадьбах,
мотался по всей округе, все видел, все слышал и был похож на торбу,
наполненную до краев новостями. Его, как и волка, кормили ноги. Проникал
всюду.
Как всякий провинциальный фотограф, Шура был чрезвычайно нахален. Из
своих поездок никогда не возвращался с пустыми руками. Со свадебных и иных
праздничных столов к нему каким-то таинственным образом перекочевывали
преогромные бутыли с вином, покоившиеся в чуть заплесневелыд ивовых
плетенках, водочные и коньячные посудины и всякого рода и размера пакетики с
жареным и вареным мясом. И жил не тужил предприимчивый Шура, нимало не
страдая от того, что родной городок превратился в жалкое захолустье.
Как бы там, однако, ни было, но именно этот городок обслуживал
преобразившиеся и обновившиеся села и деревни, посылая в них своих мастеров
для исправления телевизоров, холодильников, стиральных машин и прочих
атрибутов современной цивилизации. Были в городе бригады и по ремонту дорог,
по возведению домов, по сооружению уже помянутых мною ажурных ворот и
заборов из железа – всеми этими делами ведал местный промкомбинат. Шифер и
черепица для крыш – тоже его забота. В киосках продавался прескверный
лимонад, а вот хлеб выпекался, как и прежде, превосходный – вкусный и
душистый.
Коренные городские труженики по утрам уходили на свои рабочие места, а
возвратясь, рано ложились спать. Бывшие же землепашцы, ставшие рабочими,
вечерами уезжали на ночлег в свои села и деревни – так-то и мотались
туда-сюда на автобусах и попутных грузовиках. Селения заливались
электрическим светом, являющимся как бы отблеском пришедшей новизны, во всех
окнах по ночам видны были голубые пятна телевизоров, накрепко привязавших к
себе обитателей домов, Как бы заживо похоронивших их там. Никто не выйдет за
калитку своей крепости, не обмолвится словом-другим с соседом, который тоже
прикован к этому дьяволу-телевизору. Почти ничего не осталось от прежнего
уклада. Все куда-то уезжали, откуда-то приезжали, электросвет зажигался и
гас, как на стадионах или на строительных площадках.
Неделями я не мог встретить никого из тех, с кем можно было бы
поговорить, отвести душу. Мне бы хоть какое-нибудь занятие, но и его нет:
родительский двор давно опустел, обесскотинел. Вся моя забота состояла в
том, чтобы я сидел дома и присматривал за дедушкой. Бесконечное чтение книг
надоело, от телевизионных передач рябило в глазах. Поэтому я и радовался как
дитя малое, когда приходил погостить к нам бадя Василе Суфлецелу: а вдруг,
думаю, в его почтальонской сумке отыщется и для меня конверт. Но покамест не
получил никаких вестей-новостей. Оставалось только сидеть и ждать. А у бади
Василе было свое на уме. Застав меня дома, он сейчас же вопрошал:
– Ты не видал моих овечек?.. Правда ведь – не видал? Пойдем-ка, я
покажу тебе их!..
Он говорил так, а глаза светились гордостью. И было отчего: овец в селе
сильно поуменьшилось, а у бади Василе сохранилось семь овечек, которые к
тому же были дойными.
– И годовалых поросят моих не видел? Хватал меня единственной рукой и
почти силою
волок через свой сад во двор, к закутку, где похрюкивали его годовалые
кабаны.
– Ну, что скажешь?.. К весне наберут сотню?
Я пожал плечами, поскольку первый раз в своей жизни видел такую породу
свиней. Сосед пояснил, что купил их на заводе. Поросята венгерские. Видя,
что я разбираюсь в этом, как свинья в апельсинах, бадя Василе и не ждал от
меня какого-либо определенного ответа. К тому же сам-то он отлично знал,
какой вес наберут его "иностранцы" уже к рождеству.
– Зимой обязательно куплю еще парочку маленьких, – выкладывал Василе
свои планы. – На Украине молодцы. Даром раздают с колхозных и совхозных ферм
поросят колхозникам и рабочим. Сам видел в Одесской области. А у нас нужно
покупать. И продают их нам дороговато. Правда, убытку не будет. Свинья хоть
и прожорлива, но не разорит. Лопает все подряд; картофельные очистки,
остатки от нашего обеда, разные там объедки, сыворотку от овечьего молока. А
когда пойдут травы, запаривай для них лебеду, осот, молочай, крапиву,
подбрось туда немножко отходов – уплетут за милую душу. Не заметишь, как
вырастут, и на всю зиму ты опять со своим мясом. Недаром же говорится:
кусочек от кусочка – телочка! Осенью и того проще: то кукурузное зернышко,
то недозрелый початок, мелкая картошка, тыковка... Не успеешь оглянуться, а
в нем уже под сотню килограммов... в поросенке, то есть!.. Одного заколешь к
рождеству, другого – к пасхе. Ешь вволю собственную свининку. А лишнюю можно
и на базар свезть – вот тебе и деньжонки! Рубль обернется сотнею! Во!
Двор свой бадя Василе держал в прежнем виде – не развел в нем-
виноградника, как делали другие. Огород и сад были у него отделены забором.
Показал он мне и то и другое. При этом вел себя чрезвычайно деликатно: не
спрашивал, почему я сижу здесь, скучаю от безделья, растранжириваю попусту
время. Возможно, и слышал бабью выдумку относительно мнимых моих похождений
в Москве. Слышал, но не справлялся у меня, правда ли то, что я бегал по
ночной столице нагишом. Словом, не лез в душу, не совал свой нос в чужую
тарелку, как сказал бы мой дед.
– Ну что за порядок такой?! – рассуждал почтальон. – Когда у тебя
много детишек и из-за них, паршивцев, ты не можешь работать в полную силу,
заработок твой мизерный. А их, ребятишек то есть, надобно кормить, поить,
обувать, одевать... Растить, одним словом... Но вот дети выросли – сами
зарабатывают. У тебя же, их отца, появилась уйма времени, зарплата твоя
резко возрастает, поскольку трудиться на обчество стал больше. А тебе ни
обувать, ни одевать, ни кормить, окромя одной жены, больше некого. Какой же
это, к дьяволу, порядок! Будь моя власть, я распорядился бы по-другому. Я
сделал бы так, чтоб человек получал большую зарплату, когда у него малые
дети. А когда они подрастут, обзаведутся собственными семьями, отделятся от
родителей, зачем тебе она, большая-то зарплата?! Куда, скажем, мне ее
девать?..
– Ну, хватит философствовать, бадя Василе! Чуток подбросили тебе к
твоему почтальонскому окладу да инвалидную пенсию собес маленько увеличил -
а ты уж и расхвастался, о каких-то новых законах толкуешь. Оставь-ка их тем,
кто их принимает, а сам иди в избу: обед, наверное, остывает...
Все то время, пока мы с мужем Аники вели этот немудреный разговор, она,
затаившись, внимательно слушала нас и зорко наблюдала за нами. Увидав, что
мы собираемся отобедать у нее, метнулась с графинчиком к погребу.
Наполнившись холодным вином, графинчик этот сейчас же запотел, окинулся
слезой, заигравшей на солнце. Ловко прихватив его за ледяное горлышко своею
единственной проворной рукой, бадя Василе стал разливать белое, с золотистым
оттенком вино по стаканам. Разливая, рассказывал, как он его делал, где, на
каком склоне горы находится его небольшой виноградник, каким был прошлый
год – благоприятным для винограда или нет, как созревал урожай. Заметив, что
первый стакан уже опорожнен, а бадя Василе не спеша продолжает свое
повествование, Аника выхватила из рук мужа графин.
– Монаха и то нельзя долго удерживать в гостях. А то заскучает и
полезет к хозяйке на печку! – заметила она.
В переводе на простой человеческий язык это означало: нечего болтать й
держать стаканы пустыми.
Теперь Аника наполняла их сама. Вино солнечно сверкало, шипело и
пузырилось, как шампанское, тонкого стекла высокие стаканы тоже покрывались
бисеринками влаги. Следя за тем, чтобы посудины наши не пустовали, хозяйка
жаловалась на мужа:
– И талоны у него на бесплатный проезд есть, да разве моего муженька
сдвинешь с места! До сих пор не собрался проведать сыновей в Донбассе!..
– Служба, Аника, у меня такая, не отпускает, – слабо защищался Василе.
– Плюнул бы ты на эту службу аль привязал ее к забору! Другие ездят.
Одних спекулянтов развелась пропасть. Носятся черт знает куда... Только ты
сидишь, как наседка на яйцах!
– Объясняю тебе толком. Почта есть почта, ее не оставишь и не
привяжешь к забору. День, ночь, стужа, слякоть, а почта должна работать.
– Сама бы поехала к сынкам, да вот связалась с этим проклятым ковром.
Мужа почта, а меня он, ковер, не пускает...
Аника нередко сетовала на то, что многие в ее родном селе живут по
старинке, чураются всего нового, а сама не могла изменить прежним привычкам.
Держала овец, стригла их, пряла шерстяные нитки, устанавливала в избе
ткацкий станок, ткала на нем ковры. Из шести сыновей, которых она рожала
очередями (сперва – трех подряд, затем, после небольшой передышки, еще
трех), в родительском доме остался один лишь мальчик школьного возраста.
Остальные поженились, отделились, разлетелись по белу свету. Дочерей у Аники
не было. Но Аника продолжает ткать ковры. Каждый год ткет.
Бадя Василе не забывает похваливать женино рукоделье. Он вообще все
хвалит у себя. Хвалит дом, телевизор в доме. Хвалит трех гусынь с выводками
пушистых гусят, которые с жадностью набрасываются на свежий осот или
молочай, вытряхнутый из мешка. Хвалит свой острый топор, может сорваться с
места, выскочить куда-то и вернуться с плотничьим топориком. Хваля,
перескакивает с одного предмета на другой. Потом вдруг задумается. И я вижу,
что он силится что-то припомнить; не замечая того, мучает в руке кусочек
мамалыги.
– К бензину меня теперь и калачом не заманишь! – встрепенувшись,
решительно объявляет он. – Правда, с ликвидацией района ездить за почтой
стало далековато. Но к бензину не вернусь ни за какие деньги!
А ведь когда-то он вовсю расхваливал свою работу и на бензозаправке.
Там он сидел на одном и том же месте круглый год, зимою и летом. Туда
подъезжали грузовики и тракторы. Бадя Василе отпускал им бензин и солярку.
Зарплата у него была постоянной во все времена года. Чем не житье! Работенка
что надо!.. Однако с каких-то пор у заправщика стала кружиться голова.
Доктора сказали баде Василе, чтобы поскорее убрался подальше от бензина и
солярки. Получив на фронте контузию, бадя Василе долго мучился головной
болью. В конце концов боль эта прекратилась, но бензиновые пары вновь
возбудили ее.
– И я опять вернулся на почту, – рассказывал сосед. – На кой черт мне
бензин и солярка! Не приведи господи иметь с ними дело! Возле той
заправочной и трава не растет. Не поверишь – у меня даже борода начала
редеть, волосы на голове стали выпадать. Еще немного – и облысел бы совсем,
как та площадка у бензохранилища. Ходил бы с голым, как у Вырлана, черепом.
Ей-богу!
Подобно ребенку, бадя Василе, похоже, верит в то, о чем говорит, забыв,
что и голова, и подбородок у него обросли дикой густой волосней. Особенно
борода выделялась, была точь-в-точь как черный войлок. Именно непомерная
густота волос на голове и на подбородке бади Василе дала моему дедушке повод
прозвать соседа Арапом. Такому человеку вряд ли стоит опасаться того, что
облысеет; эта беда будет обходить его стороной до самого смертного часа.
Что бы ни хвалил бадя Василе, он хвалил совершенно искренне, с
наивностью ребенка, несокрушимо убежденного в том, что является обладателем
самой лучшей игрушки на свете, что ни у кого таких игрушек нет и быть не
может. Исключительное жизнелюбие руководило этим чернобородым мужиком. И
каким счастливым должен быть человек, которому почти все нравилось в жизни
на грешной нашей земле! Он был доволен, и доволен сполна тем, что имел, тем,
чего достиг в жизни, тем, что сделал своей единственной рукой.
– С некоторых пор мамалыга стала редкой пищей. Иные уже забыли, что
есть ее надо, пока горячая, – говорила между тем Аника и поторапливала
нас: – Ешьте, ешьте же поскорее. Холодная мамалыга – это уже не еда,
никакого вкуса в ней нету.
Бадя Василе поддержал жену:
– Давай отведаем. Эта мамалыга из нашей кукурузы, из желтой. Лучше нее
не бывает. Белая, совхозная, водяниста, только на корм скоту и годится.
Мамалыгу он мог бы и не хвалить; она сама хвалила себя, была
золотисто-желтой, как апельсин. Когда ее освободили от полотенца и разрезали
ниткой, по всей избе повеяло теплым, душистым степным запахом, вобравшим в
себя ароматы множества разных трав. Мы трапезничали в касамаре, в горнице,
потому что другая комната почти целиком была занята ткацким станком Аники.
Хозяйка распахнула оба окна, и ветер легонько колыхал занавески, принося с
улицы то свежий воздух, то зной жаркого дня. Нельзя было оторвать глаз от
занавесок, украшенных цветными вышивками, и я любовался ими, наслаждаясь и
дуновением ветерка, прилетевшего с полей и дальних лесов.
Домой я не торопился. Любое изменение в моем нынешнем положении могло
явиться лишь из сумки почтальона, то есть от бади Василе. Впрочем, сегодня
на рассвете отца вызвали в Калараш, новый райцентр, так что мог и он
привезти оттуда какие-то известия для меня. Но я не питал на это особых
надежд. Отца вместе с директором, секретарем парткома и главным агрономом
часто вызывали в район, но никаких новостей оттуда вместе с ними ко мне не
приходило. Сидеть же дома в одиночестве было невыносимо тяжко, даже думать
было лень; свинцовая полудремота наваливалась на голову, реальный мир в
коротких сновидениях перемежался с нереальным, призрачным. Чего я тут жду?
Может быть, Никэ был прав, когда однажды сказал мне, чтобы я не
сгонялся без толку по селу, по совхозным полям, лесам и виноградникам, как
бездомный брддяга? Но брат ведь знает, что я нахожусь у партии в резерве,
что жду назначения, что когда-то же должна решиться моя судьба, что те, от
кого зависит это решение, не забыли про меня?! Нечего, говорю мысленно сам
себе, размагничиваться, распускать нюни. В конце концов обо мне вспомнят.
Тем, кто ждет назначений, околачиваясь в столице, в Кишиневе, еще тяжелее:
они живут в гостиницах месяцами. Хорошо, если не женаты, а каково семейным?
На "временную" зарплату не снимешь квартиру, кишка тонка! А в городе не то
что еду, но и водичку надо покупать...
Но нельзя не согласиться с Никэ. Я и без его напоминаний хорошо знал,
что подгоряне не любят тех, кто слоняется без дела, да и кто их любит?!
Сам-то Никэ был при деле, при почетной должности и, верно, переживал за
своего старшего брата. Кровь людская – не водица, это знают все. Бабьи
сплетни и наговоры на мой счет слышал, конечно, и Никэ, и ему было и обидно
и больно. Может быть, и он в какую-то минуту был готов поверить, что меня
выгнали из школы за хулиганство и теперь не доверяют никакой должности?
Может быть, брат наслушался еще чего-нибудь, что похлестче бегания голышом
по Москве. Худая молва быстронога. Она бежит и оповещает всех своим звоном,
как колокольчик или тронка на шее овцы... Черт бы их всех побрал,
кадровиков, пора бы им уж вспомнить обо мне, чтобы люди не тыкали в меня
пальцем, чтоб не сидел трутнем на шее родителей. Но мне и самому не
следовало бы лезть людям на глаза – сидел бы дома, как узник, в гордом
одиночестве, в добровольном заточении...
Однако отец рассуждал по-иному. Такие вопросы он решал просто: если ты
никого не убил, никого не обокрал, никому не причинил зла – тебе нечего
прятаться от людей! Он убежден был в том, что мое уединение вызвало б еще
больше кривотолков, невероятных догадок и диких бабьих сочинений. А так, что
ж, пускай посудачат деревенские сплетницы, надоест языками молоть – займутся
своими делами. Только и всего!
Мама, великий мудрец и хранитель нашего очага, одним разом положила
конец этой семейной дискуссии;
– Мотыгу из рук у него никто не отымет. Никому она теперь не нужна,
потому что сейчас каждый норовит схватить карандаш. Так что перестаньте
переливать из пустого в порожнее!
Мама была довольна, что постоянно видит меня возле себя, в своем доме.
Ведь Никэ ее покинул, а для кого же она старалась? Для кого покрыла избу
новым шифером, прибрала горницу изнутри, помыла окна, понавешала нарядных
занавесок? Для кого?! Не возьмет же все это с собой в могилу! Сколько
молодых парней поубежало в города – пора бы кому-то из них вернуться на
родную землю!
Не могу сказать, чтобы мои частые прогулки избавляли меня от чувства
неприкаянности, отгоняли невеселые мысли о собственной судьбе. Вся совхозная
земля теперь представляла собою сплошные виноградники, шпалерно
раскинувшиеся во все стороны, насколько хватало глаз. Проволочные струны,
натянутые меж белых бетонных столбов, убегали, казалось, в какую-то
бесконечную даль. Кто и когда натянул их на эти несокрушимые колки, понять
трудно, потому что на виноградниках я не видел ни единой живой души. В
прежние времена тут от зари до зари суетился бы сельский люд, всем хватило
бы работы. Сколько я ни ждал, чтобы хоть кого-нибудь увидеть тут, так и не
дождался. Исчез народ. Не мелькают белыми пятнами холстяные штаны и рубахи.
Никто не подвязывает лозу. Не видно было овечки или теленка на приколе на
межах. Не было и телег с лошадьми в конце виноградника. Не слышно было ни
девичьих песен, ни визга, ни хохота, вообще – никаких голосов. Я попытался
чудодейственною силой памяти вызвать из недалекого прошлого живые его
картины, чтобы увидеть, скажем, старика с кувшином воды для сборщиков
винограда, гулкие винные чаны – для меня не было лучшей музыки, чем звон
этих чанов на перекладных повозках!.. Мне хотелось увидеть и то, как
чей-либо отец отчитывает маленького сынишку, чтобы не вертелся около чана с
коркою испеченного мамой хлеба: попади хоть крошка от ржаного хлеба в чан,
вино за одну ночь вспучится так, что вышибет пробку и выскочит на землю все
до единой капли, выплеснется, как молоко из чугуна, забытого хозяйкой на
раскаленной плите. Замешанный на дрожжах, хлеб и сам действует на вино как
дрожжи. Этого-то как раз и боится мужик, отгоняя прочь от кадки мальца с
коркою хлеба... Как сладко сбилось бы мое сердце, если б я увидел хотя бы
одного земляка, склонившегося над суслом, чтобы дуть пену и попробовать,
отведать молодого вина нового урожая!..
Все это теперь видела лишь моя память, но не чаза. Пришедшая в эти края
техника смыла прежнюю картину. Вместо людей нет-нет да и появится трактор,
пробежит по междурядью и исчезнет. И снова рябит в глазах от проволоки и
белых бетонных столбов, аккуратно, по-солдатски выстроившихся в бесконечные
ряды. Промелькнул трактор с культиватором, после него иногда появлялся
другой – с механическим опрыскивателем; этот тянул за собой длинный
сине-зеленый шлейф превращенной в туман ядовитой жидкости. Случалось
все-таки иногда, что я заставал на плантациях и стайку девчонок. Они срезали
с кустов верхние зеленые побеги, а свою работу так и называли: "зеленая
подрезка". Одеты девчата были. по-городскому. Я не знал ни одну из них, так








