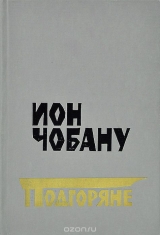
Текст книги "Подгоряне"
Автор книги: Ион Чобану
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
кухонных плитах нашей избы, у соседей и у родни – повсюду что-то кипело в
горшках, чугунах, шипело на сковородах, там и сям, перешептываясь, вертелись
старухи и молодые женщины. Понатаскали полную кладовку полотенец – это чтобы
было чем повязывать родных и друзей жениха и невесты.
На подворье нашем это была первая свадьба; мое отсутствие на ней,
говорил отец, очень огорчило всех, в особенности же маму. Куда было бы
лучше, если б первым женился старший сын., Но коль скоро получилось не так,
то присутствовать-то на свадьбе младшего брата он, во всяком случае, должен!
Ведь такое в жизни человека бывает один раз, да и приготовились родители к
свадьбе как следует, по обычаям Кукаары. Пусть, думали мать и отец,
повеселятся молодые, поухаживают за девушками, попьют-поедят вволю, окажут
хозяевам честь за все их заботы и расходы, пускай поглядят невестины родичи,
как умеют встречать гостей отец и мать Никэ! И что же? Никэ возвращается в
Кишинев и привозит оттуда на двух автобусах целую ораву студентов,
решительно ломает все родительские планы. В один час заполняют пришельцы
шумными цыганскими, шатрами весь двор, натягивают внутри них цепочку с
электролампами, посреди устанавливают столы и стулья, а перед шатром
вкапывают телеграфный столб, протягивают от него кабель прямо к дедушкиному
колодцу, выкопанному в какие-то незапамятные времена, ввинчивают над ним
электролампу величиной– со стокилограммовую бомбу. После этого Никэ заходит
в избу и объявляет родителям, что свадьба его будет праздноваться ночью, и
не раньше, чем за полночь, в двадцать четыре ноль-ноль, – так, мол, теперь
играются все свадьбы.
– Что ты с ними поделаешь? – сокрушенно вздыхал отец. – Теперь вся
власть, как раньше помещикам, принадлежит молодым: что скажут, то и делай.
Недаром же мы сами говорим им в день свадьбы: господин жених и госпожа
невеста. Но твоя мать, сынок, чуть было в обморок не упала от такой новости.
Ведь раньше как справляли свадьбу: один день гуляют в доме жениха, другой -
невесты, один день для молодых, другой – для старших. А теперь Никэ загнал
под свой цыганский шатер всех разом, гуртом, молодых и старых!.. Летят к
червовой бабушке все старинные обычаи, мэй Тоадер, – снова тяжко вздыхает
отец, вспоминая дни своей молодости. – Тогда парня женили лишь после того,
как покупали ему верхового коня, непременно после службы в армии. После того
как сшили ему у лучшего портного шубу с овечьим воротником, сапоги с
высокими голенищами да галоши к ним с красной подкладкой. Жених должен
танцевать не иначе как в таких сапогах, засунутых в такие галоши. Невестам
же покупали шали. Пусть ветер, прохлада, тепло, но они должны были выходить
на праздничные танцы, на прощальный хоровод с шалью на плечах. А сейчас...
где ты возьмешь верховую лошадь? На все село остался лишь один конь, да и
того окаянный Иосуб прозвал Телевизором...
Грустит отец. Рассказывает с большой душевной болью и тоской. Нет, он
не жалуется, не сердится. Только просто грустит. Посаженые и шаферы,
шумливые эти студенты, отставили в сторону вино (напрасно были распахнуты
настежь двери погреба!), не было на него у них спроса, разве что
какой-нибудь местный старожил просил стаканчик, и на этом все кончалось. Не
передавались, как в прежние времена, бутылки и графины с вином от одного
гостя к другому, от семьи к семье. Да, не гордиться больше кодрянам своими
винами: потеснила их мода на коньяки и водку. Стол не стол, свадьба не
свадьба, праздник не праздник без коньяка и водки...
– Пойми меня правильно, сынок! Не жалко мне было коньяка! – возмущался
несчастный отец. – Но представьте себе такое... Было около полуночи, двор
наполнился студентами,– нашей сельской молодежью, родичами, знакомыми. Лампы
светили так, что иголку можно найти на полу... А жених и невеста где-то еще
в дороге. Мать увидала, как они идут... жених и невеста... в окружении
волосатых бородачей, одетыx в какие-то драные, старые отрепья, так чуть было
опять не рехнулась... Волосатые эти черти С электрогитарами и
электробарабанами... Их Никэ тоже привез из Кишинева, прямо из ресторана
"Интурист"." Увидала твоя мать эту орду, так чуть было не лишилась чувств
прямо во дворе, у горящей плиты -
И отцу не пришелся по душе свадебный ритуал Никэ. Не понравилась ему и
странная выходка невестиной родни, остановившейся зачем-то на добрый час на
окраине села. Музыка играла так громко, что ее слушала вся Кукоара. До утра
не могли кукоаровцы сомкнуть веки: электромузыка рокотала пуще грома, от нее
дребезжали стекла в окнах, дрожали перепонки в ушах ошалевших слушателей.
Родичи жениха, посаженый с посаженой, шаферы и дружки вышли на окраину села
с полными графинами, с хлебом-солью, но родители и родственники невесты
продолжали стоять на прежнем месте, не трогались навстречу своим сватам:
они, видите ли, придерживались своих обычаев, по которым отец и мать жениха
приходят приглашать их в свой дом. Все это еще больше оттягивало начало
свадебного торжества. Сельские старики начали тихонько позевывать от скуки и
сонливости. Не одолевала дрема лишь ребятишек. Воспользовавшись свадебной
кутерьмой, они совершали свои набеги на чужие сады, так что взрослым
приходилось силком стаскивать паршивцев с деревьев и потрошить их пазухи,
набитые яблоками, – спелые осенние яблоки эти были необыкновенно вкусны.
Так и не дождавшись главного пиршества, деды и бабки удалились,
разбрелись по своим домам. До утра гуляли лишь студенты, приятели Никэ, и
молодые кукоаровцы. Разные яства, завалившие свадебные столы, остались
наполовину не съеденными: пропали материны хлопоты, а также ее стряпня,
почесть без всякого толку. Все как псу под хвост. Если вспомнить, что кучу
денег пришлось отвалить бородатым и волосатым кишиневским гитаристам и
барабанщикам, то станет ясно, что эта свадьба была сущим разором для
родителей Никэ. Подумать только: по двести рубликов на каждую бороду!
Немалую сумму пришлось заплатить и за транспорт, который Никэ нанял, чтобы
привезти и отвести этих музыкальных громовержцев.
– Да, вконец избаловалась молодежь! – сокрушался отец. – И Никэ наш
тоже. Ты только подумай: работает в богатом совхозе, так что и заработок у
него немалый, а продолжает жить у нас, в Кукоаре. Теперь это тоже модно:
иметь квартиру и в городе, и в деревне. Одну – городскую – для шика,
другую – сельскую – для того, чтобы свежим воздухом подышать
Я не знал, как вести себя с отцом. Я как бы заново знакомился с родным
своим селом, с изменившимися обычаями, с неведомыми доселе привычками. Нет,
не только загоны для скота исчезли со дворов. Исчезло еще что-то,
трудноуловимое, но во всем чувствовавшееся. Чувствовалось оно, это
трудноуловимое, и в поведении отца, в его постоянной задумчивости, вроде бы
какая-то мысль тяготила его, бередила душу. Это новое, необычное
чувствовалось и в том, что у отца и у других его односельчан появилось много
свободного времени даже в рабочую пору. На окраине села можно было видеть
автобусы, из которых высаживаются толпы людей. Много разных машин проходит
мимо нашего двора. И сам двор был уже не тот. Появились железные ворота с
коваными чугунными цветками, выкрашенными в кричащий цвет. Железная калитка
замыкалась тяжелым засовом. Я же за всю свою жизнь в селе видел только
заборы из жердей да плетни, на которые взбирался, чтобы легче было сесть
верхом на лошадь. Нету теперь тех плетней, тех жердевых загородок – все
решительным образом изменилось. У людей, очевидно, появились другие заботы,
как появились они и у меня.
Мать и отец, похоже, догадывались, что творилось в моей душе. А на душе
было неладное. Все это я мог скрыть от кого угодно, только не от родителей.
И отец пытался ввести меня в новый ритм жизни села.
– А ты не хотел бы глянуть на дом Никэ? – вдруг спросил он.
Вопрос этот для меня был полнейшей неожиданностью. Как? У Никэ есть
свой отдельный дом? Зачем это? Ведь Никэ оставался в селе и мог бы по праву
младшего сына унаследовать дом отца.
Мать по глазам моим прочла все мои недоуменные вопросы. Ироническая
улыбка шевельнулась в уголках ее рта:
– Плохо ты знаешь своего братца.-
Сказав это, она повернулась лицом к отцу, дав понять ему, чтобы он
занялся более важными делами и не транжирил времени попусту: нечего, мол,
пялить глаза на подворье Никэ, что там увидишь особенного – дом как дом.
Трудно было догадаться, что у нее на уме. Может быть, она гневалась на
то, что Никэ сразу же оказался под каблуком жены? Или не могла простить
младшему сыну того, что он заставил родителей по-, тратиться дважды: сперва
на свою -скоропалительную свадьбу, сыгранную черт знает как, без соблюдения
деревенских обычаев, потом – на этот дом? Может, она бы и не сердилась так,
ежели б Никэ остался на постоянное жительство в родном селе, тогда мать
могла бы гордиться: глядите, добрые Люди, ведь это мой сын – старший агроном
в совхозе-заводе "Кукоара"! Вот и пойми ее: не она ли хвасталась перед теми
же односельчанками, когда ее племянница, дочка тетки Анисьи, укатила в
столицу республики. "Она в самом аж Кишиневе работает, продает билеты на
автобус! Окажетесь там – племянница продаст вам билет без очереди. Так-то
вот!" Сыну же своему не могла простить даже того, что он перебрался в
соседний совхоз. "Думал, верно, что в том совхозе и собаки бегают с калачами
на хвостах!" – ворчала мама. Не исключено, что она мечтала о внуке или
внучке, которых сынок и его жена что-то не торопились произвести на свет.
Зато всю избу устелили и увешали коврами и дорожками. А кто будет бегать
по тем коврам и дорожкам? Разве что приблудный гуляка-ветер да пылесос?
Мать поспешила дать новое направление нашему разговору, чтобы, похоже,
я не смог отгадать истинную подоплеку ее обиды на Никэ. Сообщила мне, как бы
мимоходом, что пока, мол, младший со своей барыней не придет в отцовский
дом, нам нечего искать у него. Есть же освященный веками неписаный закон: не
старший, а младший должен прийти первым. В конце концов и временем надо
дорожить, нельзя тратить его попусту, настаивала на своем мать. Попутно
сообщила, что дом для Никэ они купили у Георге Нагарэ, тот построил его, как
известно, для сына Митри, но Митря не вернулся с войны, два же дома Георге
ни к чему.
– Вы, кажется, собирались на кладбище, привести в порядок могилу
бабушки, – сказала мама.
3
Мне кажется, что из четырех времен года только весна и лето рождают в
нас ощущение непрерывности и вечности жизни, ибо все повторяется из года в
год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Лишь человек, начисто
лишенный чувства своей сопричастности со всем сущим на земле, может
равнодушно пройти мимо цветка или плодового дерева. Тучи лепестков
разносятся далеко вокруг; углубляясь, меняет свой облик далекий горизонт;
сама земля обретает прозрачный, чуть колеблющийся свет бесконечности -
взором не охватить всех ее далей. Затем в садах зреют фрукты, грохочет гром,
сверкают молнии. Матери поспешно вынимают ключи из замочных скважин или
снимают с пальца дешевое кольцо и стучат ими по головам своих ребятишек,
чтоб они росли здоровыми и крепкими, как железо, поскольку существует
пословица: человек упруг, как сталь, и хрупок, как птичье яичко. Когда ливни
рушатся на крыши домов, а на сады и нивы льет дождь с градом – а каждая
градинка величиною с грецкий орех, – эти же женщины бегут и втыкают топоры в
землю у порога своего дома; кончится проливной дождь – все вдруг
преобразится: цветы, трава, деревья, как бы возрождаются все изначальные
запахи, возникшие в миг сотворения мира; все радуется и ликует под
обновленным солнечном теплом. А когда подкрадываются сумерки, коричневым
облаком наплывают майские( жуки; просыпаются вечерние насекомые; ласточки,
едва не касаясь быстрым своим крылом земли, носятся по улицам села; на заре,
раньше людей, пробуждаются пчелы и певчие птицы. И все вокруг окатывает
благодатный прохладный ветерок, наступает таинственно-колдовская тишь,
возбуждающая в человеке неистребимую жажду жизни и творения; покоем и миром
полнится его сердце, душа – ощущением вечности. Что-то неизъяснимое
переливается вокруг, в груди человека делается просторно, и он вдыхает
сладостный воздух и улыбается как ребенок, сам не зная чему. И все вокруг
рождается из этого непостижимого "ничего", дающего слабенькому ростку травы
такую силу, что он пронзает каменную скалу, а корням деревьев такую мощь,
что они вздымают асфальт на дорогах. Та же таинственная сила
"предусмотрела", дала всего лишь одну ночь для жизни эфемериде: целый год
потребуется ее личинке для того, чтобы созреть и полетать одну-единственную
ночь. Что это? Может, вечность измеряется не жизнью столетних дубов или
других деревьев, живущих тысячу и более того лет? Ночь эфемериды... Не равна
ли она тысячелетиям или даже вечности. И долог ли срок пребывания на земле
человека? Вспомним изречение народных мудрецов: жизнь человека подобна росе
или пене в кружке молока...
Все повторяется и все изменяется, и, может, вся прелесть нашего земного
существования и заключается в этой неповторимой повторимости...
Повторялись, всякий раз видоизменяясь, и поступки моего дедушки. Он
спал, как и прежде, с открытыми окнами. Раньше говорил: "Я никого не боюсь".
А теперь! "Кому я нужен? Никто меня не украдет. Даже бандит Терентий,
который, живет в дунайских камышах... Ему подавай девок и баб!.." – так
выкрикивал он кому-то из своей крохотной хижины. Бояться ему и вправду было
нечего еще и по другой причине: на каждом его окне были тройные железные
решетки, и с такими маленькими ячейками, что внутрь избы мог проникнуть
разве лишь вылупившийся из яйца цыпленок либо какая-нибудь пичужка. К тому
же дедушка просыпался не менее десяти раз за одну ночь и начинал шуметь и
браниться. Он проклинал, предавал анафеме свои сны, жаловался на свои старые
кости, которые у него всегда ныли и вместе с нехорошими снами не давали ему
покоя. При всем при этом громко разговаривал сам с собою, разговаривал не во
сне, а, что называется, наяву, шаркая негнущимися ногами по комнате. Нередко
звал кого-нибудь на помощь и совет. Спор свой он вел не только с живыми, но
и с мертвыми. Иногда ему снилась дочь, то есть моя мама, или умершая
бабушка. Другим разом он видел во сне друга далекой молодости мош Андрея. И
он сердито выговаривал всем им, живым и мертвым, за то, что они мешают ему
спать, непрошено навещают его во сне. Нередко выходил во двор и там
продолжал препирательство с теми, кто являлся ему в сновидениях. Среди ночи
мог и разбудить кого-нибудь из соседей. И когда тот спрашивает спросонья: "С
кем вы воюете, мош Тоадер?" – дедушка умолкает, растерянно мигает, потом
силится рассказать про то, что ему пригрезилось. Но сосед отмахивается: ему
неохота выслушивать подробности об этих грезах.
Люди посмеиваются над причудами старика и продолжают делать свои дела.
Одни торопятся на автобусную остановку, другие – на совхозные виноградники.
А дедушка тем же временем из своих снов возвращается к действительности.
Останавливает первого же встретившегося ему на дороге мужика и спрашивает,
есть ли у того дети школьного возраста. Ничего не подозревающий мужик
отвечает, что да, есть у него такие дети. Старик, словно обрадовавшись,
хватает встречного за рукав и тащит к своей конуре. Подведя, быстро
удаляется в жилище, а возвратясь, высыпает на завалинку перед глазами ничего
не понимающего односельчанина гору ручек, карандашей, резинок и прочего
ученического добра: оказывается, все это богатство мош Тоадер выловил в
своем колодце.
– Вот покупаете вы своим бесенятам эти городские безделушки,
тратитесь, а они бросают их в колодец. Чернильные карандаши растворяются
там, портят мне воду, а я должен пить такую!.. Коровьи образины! – кричит
старик. В особенности его злили новые ручки-самописки с синими или
фиолетовыми сердечниками. Немало попадало и таких, у которых начинка
оказывалась красной. Всю зиму ручки пролежат на дне колодца, а когда при его
очистке сыновья мош Кинезу извлекают их оттуда вместе с илом и другим
мусором, удаляют с них все постороннее, то ручки начинают писать всеми
цветами радуги, сохранившись так, будто их только что купили в магазина.
Старик перепробует нх все, хорошенько разглядит цвета, затем помещает
карандаши и ручки в торбу и отправляется к директору школы. Тот собирает
учеников. Однако ни один из них не признается, что это его ручка или
карандаш либо резинка...
В прежние времена в дедушкином колодце по большей части находили
утопленные ведра, багры, металлические кошки, а теперь вот, после того как
построили неподалеку трехэтажную школу, каждое лето, в день святого Петра,
из колодца извлекают эти самые карандаши, резинки и нержавеющие ручки. Их
владельцев обнаружить, как видим, было трудно, почти невозможно, поскольку и
родители отказывались признать принесенное дедушкой за свою собственность.
Одни поступают так потому, что не помнят, какие школьные принадлежности были
у их детей зимой, ну, а другие – потому, что не имели ни малейшего желания
объясняться с настырным стариком.
Захотелось и мне поглядеть на школу, которая приносила столько
нежеланных хлопот дедушке. Школьное здание можно было увидеть и с нашего
двора, поскольку оно возвышалось напротив, за дорогой, но мне лучше было
зайти вовнутрь: ведь я когда-то был и учителем, и директором нашей сельской
школы. Кроме того, я знал, что некоторые строения только снаружи выглядят
красивыми, праздничными, достойными радостного удивления. А когда войдешь в
них, сокрушенно вздохнешь в крайнем разочаровании: коридоры узкие и темные,
с выщербленными цементными полами, с затхлым воздухом. Новая школа, о
которой идет речь, не кичилась своим внешним видом. Что касается внутреннего
ее убранства, то я не мог его разглядеть как следует, потому что все там
было завалено разной разностью. Оказывается, там работали мастера. Подумал
сперва, что это они, как обычно, ремонтируют, подправляют, подкрашивают
школу к новому учебному году. На рабочие объяснили мне, что меняют всю
водопроводную систему – вынуждены это делать.
– Мы подведем сюда воду от турецкого колодца. Наши артезианские
иссякли за одну зиму... Вообще с некоторого времени куда-то уходят подземные
ключи."
Человек, сообщавший мне все это, был, наверное, районным специалистом
или инженером из передвижной строительной колонны, ибо он не знал меня, да и
я никогда не видел его в здешних местах. Я не знал также, за кого он меня
принимает. Может быть, за какого-то начальника, который интересуется их
работой и которому надо поведать свои нужды, свои беды. Его бригада
пробурила два артезианских колодца, но в них оказалось так мало воды, что за
одну зиму источники истощились и по трубам пошла грязная черная смесь: ни
вода, ни деготь, который сгодился бы для смазки колес. Теперь, видите ли,
бригада меняет всю систему, вознамерившись подвести воду по трубам от
турецкого колодца. Но как ее подведешь: школа-то стоит на вершине холма, а
турецкий родник находится в нескольких километрах от нее, внизу, в долине?
Воды, конечно, в том роднике предостаточно. Я хорошо знаю его. О турецком
колодце люди говорили с какой-то особой интонацией, как о чем-то сказочном и
таинственном. Вокруг него сотворено немало легенд, по большей части
пугающих, вызывающих у людей суеверный страх. Местные мужики не раз
пробовали умертвить родник, засыпать его, потому что он потоплял прилегающие
к нему луга, превращал их в болото, на котором в изобилии рвались вверх
вредные, не съедобные для скота травы.
Пробовали загатить, остановить... Заваливали источник камнями, глиной,
приволокли от ветряной мельницы самый большой жернов и накрыли им горловину
родника. Будь оно, то горло, единственным, глядишь, и умер бы колодец,
захлебнулся бы собственной влагой, но рядом их было множество, и из каждого
бил фонтан, похожий на гейзер, – заткни их попробуй! Пытались даже проложить
тут каменный желобок и по нему отвести воду в самую низину, но и из этого
ничего не получилось. Вода била из глубин и могуче отбрасывала, разрушала
каменную кладку, как карточный домик. То был странный родник, в его водах не
видно было ни одной лягушки. И не объяснишь это тем, что воды эти были
чересчур холодны: холода земноводная тварь не боится, это уж известно. После
всего сказанного нетрудно догадаться, почему вокруг турецкого колодца
родилось столько легенд и поверий. Среди них была и такая: колодец в некие
времена был выкопан турками для того, чтобы затопить долину, чтобы молдаване
не смогли приблизиться к янычарским погребам с золотом. Однако несколько
столетий назад отыскались все-таки смелые, предприимчивые люди. Они
остановили фонтан, бьющий из колодца, тем, что завалили его кипами овечьей
шерсти. Переправившись на другую сторону долины, они прогнали турок. Правда,
к золоту приблизиться не могли: погреба с презренным этим металлом были
заговорены и скрыты от людских взоров, а чтобы увидеть золотые отблески над
сокровищами, нужно часами простаивать в засаде у загадочного турецкого
колодца...
Ночами, когда косили траву или пасли лошадей, я не раз таращил глаза,
чтобы увидеть золотые зарницы и обнаружить таинственные погреба. Старики
уверяли меня, что золото полыхает ярким солнечным светом. Медь, говорили
они, блестит иначе – две" у нее красный, у серебра – белый, как у солнечного
диска, задернутого прозрачным облаком. Тут надо сказать, что самым
неукротимым и искусным рассказчиком о легендарном золоте был Василе
Суфлецелу. Он-то и забил мою голову своими фантастическими небылицами.
Но легенды есть легенды. В каких селениях они не водятся! Однако как
поднять воду, чтобы она из турецкого колодца пришла в школу, на вершину
холма?
Меня не злила и не удивляла дерзость незнакомого инженера и его
бригады, потому что прошлое крепко-накрепко схватило меня в свои объятья и
унесло в свое далеко. Я стоял перед школой, которая поднялась над холмом,
над селом, над куполами сельской кладбищенской церкви, но все еще был обут в
мамины свадебные сапожки на высоких каблуках; я все еще находился среди моих
товарищей, на ногах которых были постолы, – они смеялись над моей бабьей
обувкой, тыкали в меня пальцами, гикали, улюлюкали, прогоняли со своего
катка, чтобы, чего доброго, я не попортил его острыми каблуками. Видел я и
маму, которая, прислонившись к припечке, прядет шерсть. До этого она
насыпала в мою ладонь десять кукурузных зерен и заставила учить урок. А мне
до смерти хотелось поиграть. Чтобы сэкономить время, откладывал сразу же не
по одному, а по два зернышка, воспользовавшись тем, что мама отвлеклась,
выглянув в окно, чтобы узнать погоду. Но маму было невозможно обмануть. Она
подходила ко мне, молча брала отложенные мною зернышки и возвращала на
прежнее место: "Пересчитывай!" При этом не забывала вознаградить меня вполне
заслуженным подзатыльником.
– Все бы тебе играть! – шумела она, вернувшись к припечке. – А кто
будет4уроки делать? Откладывай не по два сразу, а по одному зернышку, лентяй
ты этакий! Считай теперь сызнова. В наказание тебе я положила не десять, а
двенадцать зерен...
Справившись кое-как с тяжким заданием, я пулей вылетал на улицу, потому
что мать точно рассчитала, оставив для меня лишь столько времени, сколько
нужно, чтобы я успел дойти до школы. Путь мой, к сожалению, пролегал мимо
дома мош Иона Нани. Завидя меня, тот переставал убирать снег со своего двора
и клал корявые руки на дощатый забор: мое появление было для него подходящим
предлогом, чтобы малость передохнуть. Прислонившись к забору, он, как всегда
в таких случаях, напоминал Христово распятье. Не преминул спросить:
– В школу, племяш? – Все дети села были для мош Нани племянниками.
Поприветствовав его, я бежал дальше. Ион глядел мне вслед молча,
глубоко задумавшись. Я не знал, что он просто наблюдает, куда направляю я
свой след, чтобы, проследив, сообщить моему отцу, поскольку путь я держал не
в школу, а на мельницу.
Иногда отец, настигнув, хватал меня за воротник полушубка:
– Ну погоди, чертенок! Схитришь у меня еще! У всех дети как дети. А
мой решил, видно, учиться не в школе, а на ветряной мельнице. Постой,
негодяй, отучу я тебя от этой дороги!
– А если я боюсь поповского барбоса? – всхлипнув, выкручивался я.
– Другие же не боятся! А ты кусочек дороги не можешь проскочить!..
В ту пору школа находилась через три двора от нашего. Помещалась она в
поповском доме, построенном на деньги прихожан. Дом этот, как видим, не был
собственностью священника, тем не менее он со своею попадьей умудрился сдать
его в аренду под школу. Не весь, разумеется, а лишь две комнаты, которые и
приносили им дополнительный прибыток. Батюшка и его молодая супруга все
рассчитали: попадья, окончившая учительский институт, будет преподавать, не
отрываясь, что называется, от дома. Отлично придумано! Переступила порог
своей комнаты – и уже в классе. Правда, тут учились лишь "кукурузные
зернышки" с первого до четвертого класса, среди которых был и я. Перед самой
школой и преграждал мне путь поповский кобель, почему-то не желавший
признавать меня за доброго соседа. Заметив меня, он подбегал, клал свои лапы
на мои плечи и, оскалившись, показывая страшенные клыки, удерживал на месте,
не давая и шагу шагнуть дальше. Удерживал, вонючий пес, до тех пор, пока я
не вытащу из сумки приготовленный для себя кусок хлеба. Останавливал он
таким образом и других учеников и, рыча, собирал с них дань. Не гнушался при
этом ничем. У кого возьмет и слопает ломтик мамалыги, смазанный повидлом, у
кого – кусок черного хлеба, у кого – пирожок с ореховой начинкой. Пес
харчился, а мы на переменках лишь прислушивались, как ропщут наши пустые
голодные желудки.
Из-за этого несносного барбоса я и давал круга-ля, чтобы пробраться в
школу с заднего хода, через поповский огород. Пробирался я крадучись до
порога, используя благоприятный момент: пес был занят очисткой сумок моих
соучеников. Иногда именно таким вот способом мне и удавалось спасти свой
кусок хлеба или малая [М а л а й – тоже хлеб, но выпеченный из пшеничной
муки пополам с кукурузной].
Обо всем этом я и рассказывал отцу. Тот, однако, не верил мне и
конвоировал до самой школы. Один раз он все-таки увидел, как кобель сует
свою длинную звериную морду в мою торбочку, и страшно разозлился. Сейчас же
отправился для нелегкого объяснения с попом и попадьей. Собаку привязали на
цепь, но мне от этого не стало легче. Мстя за барбоса, которого теперь
приходилось кормить самим, попадья придиралась ко мне по самым пустякам. То
нападала за то, что я вхожу в класс в грязной обувке. Другой раз вывалит
прямо передо мной гору куриных и гусиных перьев и приказывает, чтобы я весь
урок выбирал из них пух. Нередко, чтобы сделать меня посмешищем всего
класса, вносила люльку и заставляла качать ее ребенка, сама же как ни в чем
не бывало продолжала заниматься с другими учениками. Однажды ей показалось,
что я смотрю не туда, куда нужно, и она вцепилась в мои волосья. Ко всему
она была еще и бесстыдница, приходила на урок в шелковом халате без единой
пуговицы.: когда усаживалась на табурет, расставив ноги, халат распахивался,
и мы, растерявшись, таращились на нее. Никто из нас ни разу в жизни не видел
таких тонких и длинных шелковых чулок, которые были на три-четыре вершка
выше колен и держались на красивых цветных подвязках...
С грехом пополам я все-таки одолел четыре класса, что меня и избавило
от необходимости ходить в поповскую школу. Родители, впрочем, долго еще
потешались надо мной, вспоминая все мои злоключения: и то, как я попадал в
школу, обогнув сперва мельнику, и то, как спасал еду от барбоса, и многое
другое. Пятый класс уже находился в доме директора школы. Он тоже сдавал его
в аренду и получал соответствующую плату от односельчан. Тут тоже заставляли
меня и теребить шерсть, и выбирать пух из перьев, и очищать кукурузу, и
качать мальчика и девочку. Но все-таки в директорском доме мы чувствовали
себя вольготнее. Скорее всего потому, что директор этот был к педагогом и
крестьянином одновременно. У него были собственные овцы, лошади, корова и
прочая живность. На переменках мы играли во дворе с его жеребятами, ловили
ягнят и целовали их в теплые мордочки. Директор брал нас с собой в поле
сеять ему кукурузу. Мы же очищали его пшеничный загон от сорняков, а еще
раньше сажали для него лук. Бить нас он не бил, и, кажется, не потому, что
был уж очень добрый, просто боялся своей руки – слишком тяжела. Как-то
ненароком отвесил одному озорному ученику оплеуху, так у того долго текла
какая-то сукровица из уха. Отец пострадавшего подавал даже в суд на
директора. С того времени он не давал уж более своим рукам воли, пользовался
в основном хлыстом, коим и угощал время от времени провинившихся учеников.
Случалось, что ставил нас на колени, насыпав под них кукурузных зерен.
Наказывал, однако, лишь тогда, когда у него были, помимо школьных, еще
какие-нибудь неприятности. Вынесет, скажем, в овчарню вместо чучела (в
сумерках не разглядит) свою новую меховую шубу для отпугивания воров, чтобы,
значит, не крали ягнят, а те проберутся в закуток овечий и заодно с ягненком
уволокут и шубу. Весь месяц после такого происшествия нужно было вести себя
в классе в высшей степени дисциплинированно, чтобы не навлечь на себя
директорского гнева: он ведь только того и ждал, чтобы сорвать зло на
ком-нибудь из нас! В такие дни он мог забыть и про свою тяжеленную руку: не
ровен час опустит на твою несчастную голову! Будешь целую неделю ходить со
звоном в ушах, как от церковного колокола. Одного из нас директор даже
исключил из школы, хотя мальчишка намеревался было сделать благое дело для
него, директора. Увидев во дворе, что жеребенок угодил в яму с глиной,
ученик заорал во всю мочь: "Господин веректор!.. Господин веректор!.." На
свою беду, мальчонка шепелявил, и у него вместо "директор" получалось
"веректор", то есть вырывалось слово, которое уже давно было прозвищем
нашего директора. Веректором у нас называют дырявое полотняное рядно, и
поскольку школьный начальник содержал и свое поле, и свой огород чрезвычайно
неряшливо, то и заполучил обидную кличку. Услышав ее из уст ученика, он,
понятно, пришел в крайнюю ярость, бежал за несчастным мальчонкой и кричал на
всю Кукоару: "Я тебе покажу веректора, негодяй!.. Ежели родители научают
тебя дразнить директора школы, приклеивать ему разные скверные прозвища, то
пускай отправляют своего сынка пасти свиней. Как раз там твое место!"
У меня сложились добрые отношения с директором. Этим только и можно








