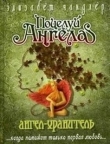Текст книги "Плач по красной суке"
Автор книги: Инга Петкевич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Партийная клуша
Этой осенью Ирма внезапно вступила в конфликт с нашим коллективом. Это же надо, сидеть столько лет тише воды, ниже травы и в одночасье перессориться сразу со всеми!
У Ирмы при всех ее добродетелях были крупные недостатки: она была горда и упряма. Положим, гордость, за отсутствием религии и особенно ориентируясь по нашей шкале духовных ценностей, уже к порокам относить не приходится. Но вот упряма Ирма была чудовищно, а это качество даже у нас к добродетелям никак не отнесешь, потому что никому от него не может быть никакой пользы. Скажете, что из гордости ничего хорошего не проистекает? Но нет, гордость порождает чувство собственного достоинства, честность и независимость суждений, смелость и решительность, да и много еще хороших качеств происходят из гордости. Правда, качества эти в нашем мире не особенно приветствуются, и все-таки гордый человек может уважать себя, и окружающие его невольно уважают. А вот упрямство всегда вредно и самому человеку, и его окружению. И хоть принадлежат они к одному виду пороков, все-таки упрямство – как бы дикий, сорняковый вид той же, впоследствии культивированной, гордости. Упрямство порождает в человеке спесь, непримиримость, тупость и жестокость. Упрямство – тупая разновидность гордости.
К сожалению, Ирма была подчас упряма как осел.
И как обычно бывает, обе стороны были не правы. Просто маленькое, частное упрямство Ирмы вступило в поединок с крупнокалиберным упрямством начальницы, которое у нас принято обозначать партийной принципиальностью. Короче говоря, нашла коса на камень.
Наша начальница Евгения Федоровна в целом была неплохой бабой. Сильная, здоровая, разумная и в общем-то справедливая, она редко с кем вступала в конфликты. От природы – хозяйка и мать, спокойная, домовитая тетка-клуша. Стоило поглядеть, какие завтраки она с собой приносила, завернутые в холщовые салфеточки; с каким аппетитом поглощала пирожки и пончики собственного изготовления, кулебяки, блинчики, ватрушки, запивая чайком из термоса! Однажды мне довелось попробовать эту кулебяку с чайком, и у меня от зависти заныло сердце. Конечно, я могла при желании сварганить нечто подобное, но это было бы только подобие по сравнению с ее подлинниками.
И вот черт попутал такую отличную кухарку выбиться в начальницы. Нелегко ей было управлять нашим вздорным коллективом: и дисциплину поддерживать, и продукцию гнать, и к тому же соблюдать субординацию. Порой можно было заметить, что ее так и подмывает влезть в какую-нибудь бабскую склоку или просто поболтать на извечные бабские темы, но приходилось сдерживаться, напускать на себя важность, делать замечания. В результате она начала сдавать, нервничать, придираться по мелочам, стала мнительной и подозрительной.
Родом она была из Кобоны, что на Ладоге. Во время блокады через село проходила Дорога жизни. Население села Кобона, основанного еще Петром I, в основном промышляло рыбной ловлей. Там жил сильный, смелый и решительный народ. До войны село было крупное, богатое, с большой каменной церковью и хорошей школой. Церковь разрушили, хотя во время блокады она уцелела, там скрывали раненых и беженцев. Школу закрыли ввиду отсутствия детей. Население разбежалось и спилось. Село захирело.
У нашей Евгении в Кобоне сохранился небольшой домик, и однажды она возила нас туда за грибами. Мне очень понравилось это село, пересеченное во всех направлениях многочисленными петровскими каналами, но еще больше мне понравилась там сама Евгения. Кобона была ее родиной, отчим домом. Вырвавшись из города, из своего канцелярско-партийного плена, наша начальница расцвела и преобразилась. Господи, с каким удовольствием она хозяйничала в своей избушке, с каким аппетитом варила обед и угощала всех нас. Как она знала и чуяла лес, каждую его кочку! Она не искала грибы, ей не надо было искать – она точно знала, где они должны расти, и они там действительно росли! Какой ухой она нас угощала! Но главное, как сама радовалась всему этому. Она была такая счастливая, что невольно делалось понятно, как же ей неуютно и скучно в городе.
Но сама Евгения не разделяла этого моего сожаления, она была убеждена, что сделала блестящую карьеру, многого в жизни добилась и преуспела. Она искренне гордилась своей жизнью и ни о чем не жалела. И может быть, именно за это неосознанное предательство своей родины жизнь ее потом сурово наказала.
Не исключено, что Евгения порой сожалела о покинутой деревне, только не хотела в этом признаваться, особенно своим подчиненным. Тем более что сделала она это не по доброй воле, а так уж сложилась ее судьба. Ведь человек судьбу не выбирает, особенно при социализме, особенно во время войны.
Девчушкой шестнадцати лет наша Женечка стояла на льду Ладожского озера: в руке у нее был флажок, которым она направляла машины с дистрофиками из блокадного Ленинграда и обратно – с продуктами для голодающих. Одинокая фигурка в ледяной пустыне, она служила живой вехой на опасной дороге и отличной мишенью для вражеских снайперов и самолетов.
Спасая детей и старух из полузатонувшей трехтонки, Женя сама провалилась под лед и чуть не замерзла. Знакомый шофер подобрал ее, взял к себе в кабину. Но машина шла в Ленинград, и таким образом Женя оказалась в военном госпитале, где ее с трудом отходили.
После выздоровления Женя была так слаба, что не могла добраться до Кобоны и временно поселилась у своей дальней родственницы. Старуха скоро умерла, и Женя осталась одна в большой нетопленой квартире. Она совсем пала духом и опять же чуть не умерла с голоду. Потом, до конца войны, девушка работала в типографии и жила в общежитии. Там она стала секретарем комсомольской организации, с чего и началась ее партийная карьера.
Эта суровая школа войны, голода и опасностей научила нашу Евгению любить и ценить жизнь. И впоследствии она часто удивляла молодых своей энергией и жизнелюбием. Я долго считала, что Евгению закалила война. На самом деле война просто произвела естественный отбор: сильнейшие выжили, а слабые погибли. Евгения от природы была сильным, цельным и мужественным человеком. Война, лишения и смерть научили сильных любить и ценить любые формы жизни, а далеко не все ее формы достойны любви.
После войны, когда парней ее возраста осталось маловато, Евгения удачно вышла замуж за еврея. Нет, сначала она родила неизвестно от кого мальчика, а потом вышла замуж за еврея и, в благодарность за то, что он взял ее с ребенком, была предана ему всю жизнь.
Этот муж тоже был хорошим человеком. Он работал на крупном заводе начальником цеха. Рабочие его уважали и даже любили. Он с самого начала усыновил ребенка Евгении, что потом дорого обошлось этому мальчику, потому что когда тот надумал поступать в университет, евреев туда уже не брали. Но вернемся к нашему конфликту.
Итак, начальница Евгения Федоровна многие годы отлично руководила нашим склочным коллективом. Но у нее был один крупный комплекс: она не имела высшего образования, то есть диплома, и поэтому весьма подозрительно относилась к проявлениям чужой воли, независимости и даже порой могла углядеть своеволие там, где его вовсе не было. Она легко прощала подчиненным более крупные недостатки и порой покрывала наших баб с их прогулами, опозданиями, пьянками только потому, что они были ей понятны.
Другое дело – Ирма. Машинистка сразу насторожила нашу Евгешу какой-то своей отрешенностью, независимостью и неуязвимостью. Ирма молча, с непроницаемым видом выслушивала все руководящие указания начальства, но делала всегда по-своему. Делала, конечно, неплохо, с этим трудно было не согласиться, но сам почерк ее безупречной работы почему-то настораживал Евгению. За свою долгую службу ей не приходилось встречать таких безотказных работниц, и где-то подспудно она понимала, что их просто не может быть в нашей системе производства. Машинистка не давала Евгении покоя. Кто она такая, откуда взялась и что собой представляет? Ознакомившись с анкетными данными, она узнала кое-какие факты биографии Ирмы, которые еще больше ее насторожили. Что-то тут было не так, начальница чувствовала это всем своим классовым чутьем. Она привыкла доверять этому чутью, которое ее обычно не подводило. Недаром она была выдвинута и посажена в начальственное кресло, недаром столько лет прочно сидела на своем месте. Собственно говоря, для того и была выдвинута, чтобы бдительно следить за идеологическим обликом подчиненных и своевременно выявлять всякие чуждые элементы и настроения.
У нашей партийной тетки не было диплома и не было профессии, у нее ничего не было, кроме партбилета. Не лишенная здравого смысла, она, наверное, и сама подозревала, что не вправе командовать людьми более образованными. Впрочем, люди, наделенные властью, редко сомневаются в ее законности; наше партийное руководство так свято почитало свою власть, будто она им дана не иначе как от Бога.
В понятие власти я вкладываю не только неограниченные права и привилегии, но и столь же великую ответственность за подчиненных. Я имею в виду разумную власть, где права оправданы превосходством и обязанностями; власть высокосознательную, обремененную неустанными заботами о благе и пользе подчиненных, власть гуманную, принципиальную и справедливую. Власть, о которой один мудрец сказал: «Тот, кто знает, как тяжел царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашел его валяющимся на земле» (Плутарх).
Человек, не по праву захвативший власть, всегда ослеплен ею, и вместо того, чтобы использовать ее в разумных целях и заботиться о подчиненных, он занят только тем, что без конца выверяет ее возможности и размеры. Человек ограниченный, мелкий и злой не в состоянии позаботиться о нуждах подчиненных не только в силу своих пороков, но и потому, что он не ведает этих нужд. Он получил власть даром, не дорос и недостоин ее. Подчиненным, которые находятся на более высокой ступени развития, такая власть поистине оскорбительна. Она изматывает, растлевает, опустошает их души, убивает самосознание и, доведя до отчаяния, в конце концов направляет все их полезные душевные силы к одной узкоограниченной цели – избавиться, освободиться и свергнуть тирана. И льется кровь, которой этот тиран поистине недостоин.
Короче говоря, наша Евгения прекрасно отдавала себе отчет, что тихая машинистка стоит пяти бойких бездельниц. К тому же она чуяла, что этот твердый орешек ей не по зубам, чуяла, но не могла не придираться по мелочам.
Долгое время Ирма безропотно сносила все эти придирки и замечания, но однажды вдруг приняла вызов и оказала сопротивление. Так началась эта напряженная баталия, которую мы наблюдали в течение нескольких месяцев.
В тот день Евгения была не в духе (кажется, ее сын провалил какие-то экзамены) и сделала Ирме замечание в довольно резкой форме. Конечно, она с таким же успехом могла сделать замечание кому угодно. Но остальных наших баб лучше не трогать, они такие склочные и горластые, что к ним придираться – себе дороже выйдет. Вот и подвернулась Ирма, этакая достойная жертва, – такие всегда попадаются под горячую руку. Повторяю, начальница ценила производственные навыки Ирмы и разрешала ей халтурить в обеденный перерыв и даже в свободное рабочее время. Она благоразумно закрывала на это глаза. Но в тот день, будучи не в духе, сделала Ирме резкое замечание.
После обеденного перерыва прошло пятнадцать минут, но Ирма, видимо, не успела за обед допечатать левую работу. Начальница усекла, что Ирма гонит халтуру. В принципе это было грубое нарушение рабочей дисциплины, но Ирма могла себе такое позволить. Евгения же взъелась и учинила Ирме сцену перед всем коллективом.
Каково же было ее удивление, когда Ирма и на другой день прихватила пятнадцать минут рабочего времени для своей халтуры. Начальница накричала на Ирму и на летучке устроила ей серьезную проработку.
И тогда Ирма перестала пользоваться рабочим временем для личных нужд, зато начала вязать. То есть каждый раз, когда наши курильщицы выходили в коридор, Ирма доставала спицы и вязала. Начальнице она спокойно объяснила, что курить, к сожалению, не может, но при ее напряженной работе ей тоже необходима передышка, поэтому она имеет полное право, пока остальные курят, немного повязать. Все это она объяснила начальнице ровным, смиренным тоном, не поднимая глаз от вязанья, а начальницу от такой наглости чуть не хватил удар. Она побурела и лишилась дара речи.
Конечно, и самой Ирме было стыдно и досадно, что ее застукали на месте преступления. По ее словам, она только что вступила на этот скользкий путь халтуры и еще не заматерела во грехе. Совесть ее еще была уязвима. Именно поэтому она, наверное, так взъерепенилась.
Все мы следили за стычкой затаив дыхание. Бедная Евгения совсем растерялась. Она даже не имела права жаловаться и возмущаться открыто, потому что такое дерзкое неповиновение начисто зачеркивало ее власть над подчиненными. Признать столь вопиющий факт было все равно что расписаться в собственной беспомощности и несостоятельности.
Шли дни, Ирма преспокойно вязала в рабочее время, а бедная Евгения с горя взяла бюллетень и недели на две исчезла из виду. Поговаривали, что у нее предынфарктное состояние и она собирается подать заявление об уходе. Многие сослуживцы жалели ее: все-таки она была им ближе и понятнее, чем Ирма с ее тихим упрямством.
В конце концов дело дошло до большого начальства, и обеих вызвали на ковер. Что там произошло, мы так и не узнали. Ирма по-прежнему молчала, начальница же вернулась с заплаканными глазами и с тех пор перестала обращать на Ирму внимание.
Как я узнала позднее, благодаря этому инциденту Ирме пришлось подать документы на допуск, то есть на право работать в секретном отделе, что было ей крайне нежелательно, потому что она собиралась поехать по приглашению в Германию, а засекреченных людей за рубеж не выпускают. Но на Ирму нажали, и она подала заявление, надеясь втайне, что не пройдет засекречивание, потому что была в оккупации и в плену.
Но скандал на этом не заглох. Наша общественность в лице Клавки и ей подобных была возмущена тихим нахальством машинистки. Ее железное сопротивление властям сбивало с толку и обескураживало. Да кто она такая и как смеет?! Рушились все их представления о служебной субординации, порядках и устоях, уже мерещились анархия, произвол и контра. Нет, во что бы то ни стало машинистку надо было поставить на место. И тут они с возмущением вспомнили, что Ирма никогда не посещала политучебу, политинформации, летучки, митинги в защиту и прочие общественно-политические мероприятия, которыми принято морочить нам голову после рабочего дня. Она не отпрашивалась, не оправдывалась, она откровенно игнорировала все мероприятия подобного рода и просто смывалась. Конечно, такое поведение бесило и начальство, и подчиненных. Ирме не раз приходилось писать объяснительные записки. Она всегда мотивировала свой побег фактом, что она мать-одиночка и спешит к сыну. Подобная мотивировка была не вполне убедительна не только для начальства, но и для наших баб, которых дома ждали те же самые дети и заботы, а вот они вынуждены маяться на этих дурацких собраниях. Естественно, бабы злились.
Кроме того, Ирма никогда не брала на себя никаких общественных нагрузок, что тоже раздражало нашу общественность.
– Мы тут, как дураки, уродуемся, – возмущались сотрудники, – а она знай себе похиляла!
И вот однажды перед очередной политинформацией наша воинственная Клавка встала в дверях и загородила их своей железобетонной конструкцией. Дело пахло скандалом, и зрители следили затаив дыхание. Ирма, ничего не подозревая, направилась к дверям. По дороге заглянула в зеркало возле раздевалки, поправила шапочку, надела перчатки и, сделав несколько шагов, натолкнулась на препятствие. И тут случилось непредвиденное. Ирма подошла вплотную, подняла свою тонкую руку и отстранила Клавку с дороги, точно та была нежной веточкой, которая могла задеть ее по лицу.
Ирма ушла, а Клавка осталась стоять возле дверей, точно пугало огородное – такое у нее было выражение лица.
Мы изумленно разглядывали эту нелепую фигуру. Кто-то фыркнул. Клавка зачем-то достала пудреницу и стала разглядывать собственное отражение, тут уже многие расхохотались. Брошкина не выдержала, подлетела к ней и выхватила пудреницу.
– Ну, что такое? – спросила она Клавку. – Что случилось, почему ты ее пропустила?
– Глаза, – хмуро отозвалась Клавка. – Она так на меня поглядела… Она могла меня раздавить.
– Ну это ты брось, чтобы такая мышь раздавила такое сооружение, – не поверила Брошкина.
– Сооружение! – обиделась Клавка. – Сама ты сооружение. Глаза у нее змеиные. Может быть, она гипнотизер… Я и подумать ничего не успела… Нет, с такими лучше не связываться. Может, она припадочная или того хуже…
Клавка села на стул и долго занималась марафетом: красила ресницы, мазала губы, хмурилась и пыхтела, точно борясь с собственным отражением. Почему-то на этот раз оно ее особенно не устраивало.
Мне уже довелось заглянуть в эти суровые, неподвижные и глубокие, как омут, глаза, и я поняла смятение Клавки. Ирма недаром старалась их не поднимать, а если поднимала, то глядела вскользь, украдкой, из-под ресниц. Многие полагали, что она косоглазая, другие утверждали, что у нее разный цвет глаз. Ничего подобного, глаза были одинаковые и довольно красивые, но какие-то опасные. Они напоминали глаза затравленного зверя, который в припадке отчаяния может вцепиться вам в глотку. На таком невзрачном лице они выглядели просто зловеще.
Разъяренные бабы приняли решение бойкотировать Ирму, не разговаривать с ней (будто она с ними когда-либо разговаривала) и не приглашать на наши праздники. Может быть, Ирма не заметила бойкота или ей доставляло определенное удовольствие дразнить наших дур, но на очередном сабантуе она как ни в чем не бывало сидела на своем месте на дальнем кончике стола, сидела и спокойно вязала под разъяренными взглядами своих противниц. И те ничего не могли с ней поделать. Похоже, они начинали ее побаиваться.
Меня лично забавляло наблюдать эту тихую войну. Ирма была неуязвима для них и недосягаема. Она тихо ускользала из их неуклюжих лап и продолжала жить и поступать по-своему. Ослепленному гневом сознанию это тихое сопротивление казалось почти зловещим.
– С ней лучше не связываться, у нее дурной глаз, – говорили те, кому довелось заглянуть в Ирмины глаза.
И разом вспыхнула и распустилась пышным цветом эпидемия черной магии, которая время от времени посещает наш бредовый коллектив.
– Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, но знамение не дается ему, – говорила Ирма.
Да почти все наши дамы верили в черные силы, в дурной глаз, в порчу, в колдунов и знахарей. Более образованные называли эти явления парапсихологией. Все дружно обвинили Ирму в связи с потусторонними силами, а Брошкина, которую однажды Ирма случайно удостоила взглядом по причине лилового парика, тут же заявила, что ее сглазили, и, борясь с порчей, надыбала где-то старичка-знахаря, который запретил ей носить драгоценности, прописал сыроедение и холодный душ. Драгоценностей у Брошкиной, к счастью, никогда не было, как не было и душа в их злачном доме, пришлось ограничиться сыроедением. Целыми днями она смачно жевала сырые овощи, гречу, овес и уверяла всех, что чувствует себя прекрасно. Но потом внезапно запила, и все лечение пошло насмарку.
Потом еще несколько дурех стали жевать сырой овес и гречу, из чего можно было сделать вывод, что они тоже обращались к старику. Потом все сразу вдруг увлеклись сосанием постного масла, которое якобы помогает от всех болезней. Этим постным маслом увлекалась тогда вся страна и сосала его до тех пор, пока по радио не запретили это делать. Почему запретили столь категорически, тоже не вполне понятно.
Потом все стали глотать холодную воду из-под крана маленькими глотками, потом еще были аутотренинг, йога, иглоукалывание, телепатия, парапсихология, общение с душами умерших, которое неожиданно завершилось поголовным увлечением мочой.
Господи, чем только не увлекались эти безбожники, на какие только темные силы не уповали в своем отчаянии! Но никогда, даже случайно, не поминалось имя Божие. Будто бы они поклялись общаться только с черными силами. А может быть, здесь и вправду давно воцарился антихрист? Вполне может быть…
Разумеется, все мы тут больны и поэтому помешаны на здоровье. Мы обречены и поэтому стараемся выжить любой ценой. Мы безумны и поэтому особенно яростно требуем нормальности друг от друга. Манера держаться, тон, повадки и мнения каждого назидательны и поучительны. Больные, затравленные люди учат всех вокруг нормам и правилам жизни, полагая за эталон собственную персону. Они учат ближнего есть, спать, ходить, мыться, сморкаться. Каждый убежден, что делает это лучше всех, и навязывает окружающим свои рецепты выживания. Эти постоянные придирки и нравоучения порождают массу недоразумений, конфликтов и вражды. Поэтому взаимоотношения в наших коллективах крайне напряженные и запутанные.
Но вернемся на землю и поедем дальше. (Развалится когда-нибудь моя шаткая колымага, развалится от перегрузок. Не вывезти ей всю эту бредовую информацию на свет и суд Божий. Ох, не вывезти!)
Добралась-таки жизнь и до нашей твердолобой партийной тетки, еще как добралась.
Я уже говорила, что Евгения верно служила своему тихому мужу, но по-настоящему она любила только своего драгоценного отпрыска.
Она его не просто любила, она его обожала, боготворила, холила и лелеяла как одержимая. Всеми правдами и неправдами, всем своим каторжным, героическим трудом, жертвами и лишениями она создавала своему наследнику безмятежное детство, обеспечивая его не только всем необходимым, но и предметами роскоши, которые не могли себе позволить даже более благополучные семьи.
Евгения освоила у нас профессию копировщицы. Эта кропотливая, плохо оплачиваемая работа требовала большого терпения. Но, помню, с какой жадностью Евгения порой выхватывала у других эту неблагодарную халтуру и корпела над ней до поздней ночи, чтобы только купить своему сынуле горнолыжное снаряжение. Когда сослуживцы узнали, сколько стоят одни ботинки, они решили, что Евгеша безумна.
– Да что он у вас, принц, что ли? Не мог выбрать себе спорт подешевле? – возмущались они.
– Мой ребенок должен иметь детство не хуже, чем у любого принца, – невозмутимо отвечала Евгения.
– А если он машину потребует? – вопрошали настырные дамы.
– Я куплю ему машину, – отвечала она. – Только он ее не потребует, он – хороший… – Начальница улыбалась про себя нежной, застенчивой улыбкой, которой ни разу не был удостоен никто из сослуживцев, потому что она предназначалась только сыну.
Вся жизнь Евгении была посвящена ему одному. Она снимала для него самую дорогую дачу только потому, что рядом проживали знаменитости, с детьми которых ему пристало водить компанию. Она нанимала самых дорогих учителей, чтобы он знал языки, музыку, рисование. Она могла всю ночь простоять в очереди за билетом на какой-нибудь модный спектакль. Не было такой жертвы и такого подвига, которого бы она не совершила ради своего возлюбленного дитяти.
Много у нас таких героических матерей, которые ежедневно совершают подвиги во имя своих детей. Наша Евгеша в этом смысле ничем не отличалась от остальных. Она выделялась только силой своих материнских чувств, той неистовой, деспотичной любовью, которая подчас близка к патологии и безумию. Я хочу сказать, что наша Евгения не просто любила своего сына, она была одержима безнадежной, всепоглощающей страстью к нему. Эта слепая страсть сжигала ее всю жизнь, не давала спокойно спать, есть и работать. Никогда не остывала раскаленная нить высоковольтной передачи, которая постоянно соединяла бедную труженицу с ее сыном. Каждую секунду жизни она должна была получать от него невидимые сигналы и ловить их своим ненасытным сердцем. Она всегда знала, где он находится, а если не знала, то тут же начинала сходить с ума. Не дай бог, если в течение дня сын не позвонил ей, не дал о себе знать. Тут Евгении сразу начинали мерещиться всякие кошмары. Воображение ее в этом плане не знало границ.
Евгения и сама прекрасно понимала дикую абсурдность своих домыслов и кошмаров, но страсть ее была сильнее логики и здравого смысла. Она ничего не могла с ней поделать. Эта дикая страсть давно сорвала все предохранители в сознании бедной женщины, захлестнула его и отравила своей необузданной стихийной силой.
За спиной начальницы мы не раз сплетничали на эту тему и единодушно приходили к выводу, что ее сын никогда не найдет себе достойной пары, а если рискнет найти, то Евгеша все равно сживет невестку со света.
Я знаю много случаев такой деспотической, всепожирающей материнской страсти. Кончаются они обычно весьма плачевно. Живут такие одержимые мамаши почему-то очень долго и подчас переживают своих детей, будто сосут их жизненные силы и питают ими свой безумный организм. Сыновья этих одержимых обычно никогда не обзаводятся семьями. Многие из них спиваются и гибнут.
Я думаю, подобная злая участь ожидала и отпрыска нашей Евгении, если бы он не предпочел вовремя смыться из этого мира. Другого способа вырваться из судорожных объятий матери, я полагаю, у него не было. Когда объятия эти стали его душить, он решил уйти самовольно. Не обвиняйте меня в жестокости и злобе, я знаю, что говорю. Еще при жизни этого обреченного мальчика можно было предвидеть его судьбу. Помню, одно происшествие открыло мне глаза на его горькую участь.
Дело было летом, на даче. Одна из соседок насплетничала Евгении, что ее сын вместе с другими ребятами развлекается тем, что прыгает на ходу из поезда. Евгения, разумеется, помертвела и наотрез отказалась поверить соседке. Но сплетня не давала ей покоя, она стала следить за сыном, напала на след и застукала их однажды на месте преступления с поличным. Они действительно прыгали из электрички на песчаный откос и катились потом по нему, гогоча от счастья. Поезд в том месте делал резкий поворот и поэтому несколько замедлял скорость. Откос был из сыпучего рыхлого песка, но Евгению эта картина сразила наповал. От ужаса она малость помешалась и решила лучше убить сына собственными руками, чем позволить ему так вот запросто сломать себе шею.
Это было настоящее умопомрачение. Она лупила сына чем попало, пока сама не потеряла сознание. По ее словам, она на самом деле хотела его убить. Кто знает, может быть, именно тогда она выбила из него или сломила в нем какой-то основной жизненный стержень, некую душевную цельность, потому что, когда нам удалось с ним познакомиться, он уже скорей напоминал девочку, чем мальчика.
Это и впрямь был прелестный ребенок стройный, высокий, с прекрасными голубыми глазами, с русыми кудрями до плеч, угловато-грациозный, с обворожительной кокетливой улыбкой, – им нельзя было не любоваться. Пожалуй, он превзошел все наши ожидания, и приходилось только удивляться, как наша курица вывела вдруг столь породистого птенца. Настораживала разве только какая-то его изнеженность, беспомощность, слишком откровенный инфантилизм.
Но он был еще слишком молод, ему не исполнилось и семнадцати лет. Он только что с отличием окончил школу и собирался поступать в университет на биофак.
На его беду, как раз в это время наша биология очнулась от многолетней спячки и даже успела войти в моду, затмив своей престижностью и геологию с ее культовской романтикой, и даже физику. Конкурс на биофак был чудовищный, и в первое свое поступление мальчик не добрал баллов.
Но мать с сыном не пали духом, они мобилизовали все свои энергетические ресурсы, кое-что продали, кое-что заложили, мать с новым рвением набросилась на работу. И сын получил возможность заниматься весь год у опытных университетских педагогов. Фамилию поменяли на русскую. Мать вспомнила кое-какие свои партийные связи. И во втором заходе сын оправдал надежды, прорвался наконец в священные стены храма.
Правда, с самого начала их счастье было омрачено довольно-таки зловещим событием. Всех счастливчиков, зачисленных на биофак, тут же погнали в колхоз на картошку, и там пьяный шофер, который вез на грузовике новоиспеченных студентов, попал в аварию, и добрая половина детей погибла. Оставшиеся в живых, разумеется, были сильно травмированы как физически, так и морально.
Наш мальчик отделался легкими ушибами, но долго переживал эту трагедию. Может быть, благодаря всем этим треволнениям мать и сын в то время особенно сблизились. Почти каждый день сын встречал Евгению с работы, чтобы помочь донести до дома сумки с провизией, которую она добывала во время обеденного перерыва.
Тогда мы имели возможность разглядеть его поближе. В этом очаровательном ребенке появился элемент грусти, даже какой-то скорби, он стал будто малость чудаковатым и рассеянным, отвечал невпопад. Его будто угнетала тайная мысль, которую он не в силах был для себя сформулировать.
Иногда, ожидая конца рабочего дня, он сидел в кресле для посетителей, и я не раз ловила на себе его пристальный, тревожный взгляд, который он тут же переводил на другую сотрудницу и разглядывал ее так же пытливо, будто перед ним был вовсе не человек, а некая загадка природы, которая его удручает. Что он видел перед собой и о чем думал при этом?
Но по-прежнему это был очаровательный мальчик, и все мы от души полюбили его и даже к Евгении стали относиться более внимательно и серьезно. Ведь это именно она произвела на свет и вырастила столь прекрасного принца. Даже стерва Варька не устояла.
– Да, лакомый кусочек, – плотоядно облизнулась она.
– Лакомый-то лакомый, – ехидно заметила Клавка. – Только тебе не по зубам. Такой далеко пойдет, ему везде зеленая улица.
Варька обозлилась и сказала, что много видела таких маменькиных сынков. Они обычно плохо кончают, потому что не знают, где живут.
Варьке никто не поверил, потому что трудно было предположить, что эта вертихвостка владеет каким-то новым опытом, нам уже по возрасту недоступным.
Тут, разумеется, не обошлось без Брошкиной, которая, по своему обыкновению, влюбилась с первого взгляда и тут же сломя голову бросилась на штурм этой твердыни. Но крепость была для Брошкиной недосягаема, и, быстро убедившись, что приступом ее не взять, она сменила тактику и перешла к длительной осаде. Всеми правдами и неправдами она пыталась втереться в доверие к Евгеше и проникнуть к ней в дом.
Евгеша милостиво принимала знаки внимания, услуги и даже подношения, но не подпускала к себе Брошкину на пушечный выстрел. А когда та стала особо назойливой, Евгения приняла меры, то есть сообщила своему отпрыску всю подноготную Брошкиной. Прекрасный принц, который поначалу взирал на фурию с определенной дозой изумленного любопытства, как на редкостного зверька, после наставления матери уже не мог видеть ее без смеха. Он фыркал от каждого жеста своей поклонницы и шарахался от нее, как от клоуна. Брошкина же толковала все эти знаки внимания в свою пользу, а эти фырканья и шараханья приписывала застенчивости, неопытности и беспомощности своего юного избранника и обольщалась пуще прежнего. Она уже не знала, как одарить и чем ублажить его…