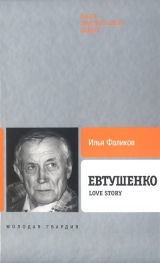
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 49 страниц)
«Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную…» А ведь на Сенной били кнутом – гулящих. Некрасовская Муза – проститутка? Выходит так. Ни в средней, ни в высшей школе нам об этом не рассказывали.
Некрасовская тоска по Лермонтову неутолима. В молодости – «Колыбельная», в зрелости – «Элегия», то и другое – «Подражание Лермонтову». Да, не Пушкин даже, а Лермонтов был тем идеалом высокого поэта, которого он не достиг, и всю жизнь мучился по этому поводу: Лермонтов – в очень разных пропорциях – сочетал «тенденцию» и «чистую поэзию», те две струи, на которые в ту пору расслоился общий поток стихотворства. Однако и «чистый» Тютчев чуть не наполовину состоит из «тенденции» на свой лад: целый блок, условно говоря, геополитики. Обыкновенно эти тексты в рассмотрении тютчевской лирики не принимаются в расчет. Надо ли так? Стоит напомнить, что самое последнее стихотворение Тютчева – обращение к государю.
Может быть, Некрасов открыл третий путь – чистая поэзия на службе тенденции.
О нем можно сказать то, что Солженицын сказал о Ельцине: «Слишком русский». Переизбыток исповедальности, слезы в три ручья, много-много слов. Лобовой поэт, слишком прямой, слишком пафосный. Но другого Некрасова у нас нет.
Некрасов требует суровости, за душевным отдохновением и высшей правдой уходит в народ, куда Надсон попросту не дошел по причине раннего угасания, оставив море слез со стороны своих поклонников.
Евтушенко стремится туда же. Его народ – его Сибирь. Его станция Зима. Он пишет эту дорогу так:
Даль проштопорена дымом торопливым.
Пыл у поезда от пыли не упал.
Как пришпоренный, он шпарит по наплывам
паровозами ошпаренных шпал.
Это эхо футуристов. «Шп» торчит, поэт увлекся. Среди здравствовавших корифеев футуризма – Асеев, Кирсанов, Каменский, Крученых. Да и Пастернак каким-то боком примыкал к ЛЕФу. Ему посвящается чуть позже стихотворение «Последний мамонт» – со значением. Все они увлекались подобным письмом. Но это было давно. Так давно, что хорошо забытое старое выглядит как новинка. Немного погодя, в конце 1950-х, явится Вознесенский и напрочь ошарашит публику звоном аллитераций и блеском метафор.
Но Евтушенко навестил родину не затем. Вот зачем:
Наши мысли вслед за поездом стремятся.
Вслед гляжу и наглядеться не могу.
Сорок пятый год.
Нам по тринадцать.
Мы идем за синей ягодой в тайгу.
Что нам дома, где и тесно, и неловко,
где изучено до мелочи жилье?
Где прихвачено во двориках к веревкам
деревянными прищепками белье?
Где на улицах полно соломы колкой,
где все лето, под прохожими бугрясь,
только сверху засыхая черствой коркой,
прогибается, покачиваясь, грязь?
В свежем сене под навесом только душно.
Что с того, что в дряхлой крыше синь видна,
где июльский месяц тонок, словно дужка
у опущенного в озеро ведра!
Художник – налицо и то, что хорошо видит, пишет хорошо, хотя строчка «Что с того, что в дряхлой крыше синь видна» – не из удач, конечно. К слову, это написано 19–20 июля 1953-го, ему только что стукнуло двадцать по паспорту, двадцать один фактически, и нет никакого сомнения в том, что «мы» тут – это зиминские пацаны, сверстники, им по тринадцать.
Правда, под конец стихотворения, довольно длинного, проявилась она – поэтика намека, социально-политического подтекста в духе тех лет:
Собирались мы по ягоды другие,
а на волчьи невзначайно нарвались.
Это тоже нравилось его публике и ему самому. Подтекст – синоним намека. Это было своеобразным открытием: сверхобильный многословный текст по существу, в сухом остатке, был подтекстом, во имя которого стихотворение затевалось. Текст прослаивался подтекстом. Иногда намек возникал случайно, по ходу говорения. Многие стихи писались как аллегория, некая притча («Третий снег», «Глубина», «Крылья»).
Но на дворе – 1953-й, год смерти вождя. Стихотворение «Похороны Сталина». Вот заключительный катрен (их три), без намека, напрямую, со следами именно того времени:
Напраслиной вождя не обессудим,
но суд произошел в день похорон,
когда шли люди к Сталину по людям,
а их учил идти по людям он.
Первая строка – несомненно, из той эпохи, остальное, возможно, дописано в восемьдесят восьмом, и надо сказать, по стиху, по слову – как-то вязковато, неуклюже, хлесткого афоризма не получилось. В любом случае перед нами – набросок будущих чрезвычайных стихов и кинофильма с тем же названием.
У него набросков – море. Подобных набросков. То есть не достигших собственной планки вещей. Он полагает, что сильных стихов без плохих – не бывает, что плохие стихи необходимы как трамплин для взлета.
Не все так думают. Мусор лучше сметать в корзину.
Фантастическая судьба талантливого паренька из Марьиной Рощи сложилась так, будто кто-то незримый с самого начала вышиб ногой дверь перед ним (или это был он сам?), и он влетел в жизнь победителем, пробивая насквозь все преграды, всюду подстерегающие его. Ему неимоверно везло. Стихи били фонтаном. Печаталось почти все, что считалось по своему счету готовым. Книги выходили одна за другой. Москву он обчитывал стихами, она узнавала его в лицо. Рослый и голосистый, он был рожден для сцены, он взаимно любил ее. Выступление становилось концертом. Старшие поэты приняли, обласкали, благословили. Жизнь удалась, едва начавшись.
Ходили слухи: за этим удачником стоит сам Сталин, решивший вырастить собственного Маяковского.
Первое упоминание его имени в печати – 9 октября 1949 года, «Московский комсомолец», в обзоре стихов, присланных в редакцию. «Евгений Евтушенко тепло рассказывает о комсомольце-агитаторе (цитату опустим. – И. Ф.)».
Тринадцатого августа 1950 года «Комсомолка» в статье об альманахе «Молодая гвардия», который до войны был журналом и скоро станет им опять, идет похвала того же ряда: «Студент Евгений Евтушенко пишет о пафосе труда, о том, что города “строятся из камня и мечты” <…> Он говорит о трудностях: людей сечет осколками града, земля упорна и неподатлива, скрежещет железо, хмурится тайга. Но человек превозмогает все».
Кстати, откуда – «студент»? В пятидесятом он еще никто, ни то ни се, внештатный сотрудник спортивной газеты.
Комсомольская печать наперебой хвалит книжку «Разведчики грядущего». 14 января 1953 года – «Комсомолка» (Б. Соловьев), 19 мая – «Московский комсомолец» (Вл. Любовцев). А. Досталь – в «Октябре», № 12: «Первая книга вышла – счастливого пути!» Недостатки отмечаются, но они простительны и преодолимы.
Правда, Межиров в «Литературной газете» весной 1953-го отругал стихотворение «Признание», но зато в почтенном ряду неприкасаемых – Сергея Острового, Николая Грибачева (большой литсановник), Сергея Смирнова.
В следующем, 1954 году, 5 и 6 января, на расширенном заседании Президиума Союза писателей СССР подводят итоги прошедшего года. В основном превозносят Твардовского – за новые главы поэмы «За далью – даль». Но вот – Илья Сельвинский, матерый мастер, бывший оппонент Маяковского, в свое время унизительно – и не раз – высказавшегося о нем, безоглядно идет в бой. Для начала ставит на место молодых. Самый упоминаемый из молодых – Евтушенко, но Сельвинский его не называет. Мысль его такова: печатаются в журналах не маститые авторы, а в основном молодые, но «хор из одних теноров – не хор». Сельвинский производит некий ретроанализ недавнего прошлого советской поэзии: одно время было ее «одемьянивание» (Демьян Бедный), потом насаждали «принудительный авторитет» Маяковского (вот уже и антисталинский намек), а теперь «забрезжил новый идол – Твардовский», тогда как других мастеров не печатают, таким образом устанавливая диктат одного лишь стихового направления в ущерб всему остальному, не менее состоятельному. Имеется в виду, разумеется, он сам с его объемистым эпосом: к тому времени он закончил эпопею «Россия», которую писал много лет. Кроме того, была уже готова его «Студия стиха», руководство по стихописанию другого толка, нежели стих Твардовского – Исаковского.
В пандан экс-конструктивисту выступает экс-футурист Семен Кирсанов. Он – за новую форму, отвечающую новым временам. Закругляет фронду Павел Антокольский, заговорив о поддержке молодых, не в последнюю очередь – Евтушенко, которого высокого ценит. Дали слово и Евтушенко. Он ограничился критикой поэмы Василия Федорова «Любовь моя».
Евтушенко быстро становится медийной фигурой, попадает в газетные отчеты и репортажи, поскольку участвует практически во всех литературных мероприятиях. На полосе «Литературной газеты» появляется парный снимок самого старого члена Союза писателей Н. Телешова и самого молодого – Е. Евтушенко.
У него белокурая копна волос, зачесанная назад, он самый рослый на групповых фотографиях, в строгом костюме, а однажды даже – в эффектной длинной шубе, среди молодых поэтов из братских республик, на фоне высотного здания МГУ, чуть не равный этому зданию-гиганту, оный новый Маяковский. Через несколько лет и это обстоятельство ему поставит в минус народный поэт Чувашии П. Хузангай: «…на заре своей юности Евгений Евтушенко подарил мне свою книжку “Третий снег”. Был короткий, но веселый и непринужденный разговор. Поэт меня уверял, что он ростом только на один сантиметр ниже Маяковского. Оказывается, об этом ему сказал портной Маяковского, которому (портному) и он заказал костюм…»
В четверг 1 апреля 1954 года на Новодевичьем кладбище, рядом с сыном, похоронили мать Маяковского – Александру Алексеевну. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Вел ее почему-то Анатолий Софронов, совершенно чуждый Маяковскому и всему, что с ним связано. Евтушенко прочел стихотворение, написанное год назад, – «Мать Маяковского», оказавшееся стихами ее памяти. Выступил и директор музея Маяковского на родине поэта, в Багдади, Н. Патаридзе, и похоже, что этот факт – существование музея поэта на его малой родине – отложился в сознании Евтушенко на будущее, став некоторым образцом.
Летом комсомол командирует его на целину – на Алтай, и он шлет оттуда бойкие материалы в рифму.
Под конец 1954 года «Новый мир» (№ 12) в разделе «Трибуна читателя» дал подборку писем читателей под общей шапкой «Слово к писателю». Сделанные какой-то одной невидимой рукой, это были рецензии-требования-благодарности-наказы по поводу тех или иных произведений, недавно опубликованных. Под письмом в адрес Евтушенко стояла подпись: Н. Черных, преподаватель литературы, ст. Курганная. Образованный станичник подверг острой критике стихотворение «Любимой», напечатанное в позапрошлом году в журнале «Октябрь» (№ 6), – вероятно, были трудности с доставкой почты. Многолетняя полемика двух журналов не мешала Евтушенко печататься в обоих изданиях.
В 1955 году на пути Евтушенко обозначился критик солидный, основательный, обитающий в Ленинграде, – Вадим Назаренко. В двенадцатом номере журнала «Звезда» он придирчиво прошелся по стихотворению «У Днепра», довольно безобидному, однако с элементом адюльтера или чего-то вроде того – поэт умолчал о том, что произошло в ночном саду у его автогероя с хозяйкой дома, где он гостил, а муж «помалкивал». Это стало началом длительно-отрицательного романа критика с поэтом, впрочем, одностороннего, – поэт не отвечал.
В журнале «Нева» (1957. № 12) Назаренко назвал свою статью «Просто так», исходя из строки молодой Натальи Астафьевой: «А эти стихи я пишу просто так». Достаточно для самовозгорания критического пафоса. Но кое-что критик все-таки предвидел. В 2011 году Астафьева напишет стихотворение «Поэтический вечер», дав портрет поэта, похожего на себя молодого:
Опять в невиданной рубашке,
все те же детские замашки —
мальчишка, выскочка, актер.
Поэт – в любой естествен позе.
Стоит, улыбчив, но серьезен,
быстр и находчив, и остер.
У Евтушенко всегда были сторонники. И тогда, в пятидесятых. Приветствуется его вторая книга – «Третий снег» (1955). Благожелательным критикам В. Тельпугову и Ю. Суровцеву были по душе строки, подобные этим: «Значит, это и есть призвание, / если Партия призвала!» Влиятельный А. Тарасенков, признавая за молодым поэтом определенные способности, тем не менее отмечал: «В Евтушенко мало сердечной теплоты».
Между тем даже неполные – серединка на половинку – доброжелатели порой нечаянно попадали в точку, как это сделал вроде бы критикующий Евтушенко Лев Ошанин: «Не знаю, замечал ли сам Евтушенко это, но, перечитав его стихи о любви, я с удивлением увидел, что он очень часто как бы становится в позицию женщины…» Именно так. Позже Евтушенко скажет: «Нюшка – это я».
Еще в 1952-м он написал «Море». Там сказано:
И вот – рывок,
и поезд – на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло все вокруг —
и только море,
затихло все,
и только шум его…
Он умел слышать тишину, ультразвук времени ложился на его голос, переходя в категорию общедоступной правды. «На просторе – море», «ничего – его». Практически это не рифма.
Это – о себе: затихло все, и только шум его.
Но затихло не все. Рядом шумели другие, их было много, он был громче всех. Перед ним был пример Маяковского и Есенина, разных во всем, кроме общего опыта полногласной исповеди на людях. Он и в партию не вступал, исходя из их биографий.
Он делалстихи, как учил его Маяковский («Как делать стихи?»), сам учившийся этому делу у таких теоретиков и практиков стиходелания, как Брюсов и Гумилёв. Ангела не ждал, в перст Божий не верил. Всю свою советскую эпоху Евтушенко в лучшем случае сторонился Бога, когда не отвергал. О церкви говорил дурно или использовал ее в целях подтекста («Монолог бывшего попа», 1967):
О, лишь от страха монолитны
они, прогнившие давно.
Меняются митрополиты,
но вечно среднее звено.
И понял я – ложь исходила
не от ошибок испокон,
а от хоругвей, из кадила,
из глубины самих икон.
Всяческая онтология, основы бытия, природа человека, гипотеза Бога – всего этого для советского юноши пятидесятых годов всерьез не существовало, если не считать подрифмовочных строк типа «В раздумиях о вечности и смерти» или наивного, физического по природе философствования.
Витьке я сказал:
«Не нуди!
Да полюбишь еще ты,
Витька…»
А из Млечного,
из Пути
в степь не все еще млеко вытекло.
И глядели мы в облака
среди звездного этого млека,
два несчастнейших человека,
два счастливейших дурака.
(«В Кулундинской степи»)
Несколько позже критика, вспоминая вторую половину пятидесятых, заговорит об эпохе par excellence [1]1
По преимуществу (фр.).
[Закрыть]вечного юноши, юношеского стиля, а-ля автогерой К. Батюшкова или, того больше, Н. Языкова.
Лев Аннинский (Молодая гвардия. 1964. № 2) в этой связи вспомнит старого советского критика И. Лежнева, толковавшего в этом плане о поэте Иосифе Уткине, которого еще раньше назовет В. Друзин. Но, честно говоря, почти ничего общего, кроме касательства к еврейской теме (уткинская «Повесть о рыжем Мотэле»), у поэта Евтушенко с поэтом Уткиным нет. Более того. Кудрявый обаяшка Уткин – антипод неприкаянного, мечущегося Евтушенко.
Впрочем, в мелодическом ключе можно отыскать общий исток, и у Уткина есть стихотворение, легко исполненное, в какой-то мере классическое, помещенное в «Строфах века», несмотря на устарелую идеологическую начинку, – «Комсомольская песня»:
Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы
У него.
Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он все время улыбался:
Мол, ничего «не понимэ».
К нему водили мать из дому.
Водили раз.
Водили пять.
А он: «Мы вовсе незнакомы!..»
И улыбается опять.
Ему японская «микада»
Грозит, кричит: «Признайся сам!..»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.
…………………………
И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!
Такая вот песня – смесь уголовного надрыва с идейной героикой, подспудно близкая Евтушенко. Мать-старушка, измывательства врага и т. п.
Кроме того, они с Евтушенко – земляки: Уткин родился неподалеку (по сибирским масштабам) от Зимы, на станции Хинган, детство и юность провел в Иркутске. Зима входит в Иркутскую область.
И еще. Уткинская репутация «любимца публики» далеко не исчерпывает облик этого человека. Он воевал с сорок первого года, ему оторвало четыре пальца правой руки, он добился новой отправки на фронт и погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из партизанского отряда. Когда тело его нашли, в руках у него оказался томик Лермонтова, вечного юноши.
Фигура вечного юноши – архетип старого, как мир, романтизма. Блок назвал Тютчева «неисправимым романтиком». Независимо от возраста.
Так что, была ли эпоха юношеского стиля – бабушка надвое сказала, а вот юность у поэта Евтушенко – была, и он говорил в соответствии с ней. Возможно, она подзатянулась.
Евтушенко пробует медитировать в небольших стихотворениях-фрагментах о том о сем, в основном на темы социальной морали: «Не надо говорить неправду детям…», «При каждом деле есть случайный мальчик…», «С усмешкой о тебе иные судят…» – в таких стихах нет крика, их тоже слушают и запоминают. Начинается нравоучительная линия, протянувшаяся поднесь.
Целая полоса тоже коротких и столь же искренних стихотворений о любви: «Пришло без спросу…», «Среди любовью слывшего…», «Не разглядывать в лупу…» и самое знаменитое: «Ты большая в любви…», с концовкой, ставшей пословицей:
Ты большая в любви.
Ты смелая.
Я – робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю,
а хорошее вряд ли смогу.
Все мне кажется,
будто бы по лесу
без тропинки ведешь меня ты.
Мы в дремучих цветах до пояса.
Не пойму я —
что за цветы.
Не годятся все прежние навыки.
Я не знаю,
что делать и как.
Ты устала.
Ты просишься на руки.
Ты уже у меня на руках.
«Видишь,
небо какое синее?
Слышишь,
птицы какие в лесу?
Ну так что же ты?
Ну?
Неси меня!»
А куда я тебя понесу?
Ему внимали в основном сверстники. Чуть позже он напишет (посвящено Вл. Барласу):
Не важно —
есть ли у тебя преследователи,
а важно —
есть ли у тебя последователи.
Таковые находились. Вот «Родина» («Была ты – сказка о Садко…»), где говорится о многом, а разговор о женщинах на рынке заканчивается так:
…где перед гомоном людским
у старого точила
морская свинка
судьбы им
в пакетиках тащила.
И я —
на взмыленном горбу
картошку пер,
ликуя,
что предсказали мне судьбу, —
я не скажу —
какую.
Это написано в 1954-м, а через много лет – где-то в шестидесятых, скорее всего (не датировано), – Евгений Рейн вторит ему, может быть, и не помня первоначального импульса:
Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и ее совет.
Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.
Кто помог мне в бедный, пылкий, трудный
В три десятилетья долгий час?
Может быть, от свинки безрассудной
Вся моя удача началась?
Впрочем, предшественник был и пораньше – Валерий Брюсов:
Зеленый шарик, зеленый шарик,
Земля, гордиться тебе не будет ли?
Морей бродяги, те, что в Плюшаре,
Покрой простора давно обузили.
Каламбур Колумба: «II mondo росо» [2]2
Мир мал (ит.).
[Закрыть]—
Из скобок вскрыли, ах, Скотт ли, Пири ли!
Кто в звезды око вонзал глубоко,
Те лишь ладони рук окрапивили.
Все в той же клетке морская свинка,
Все новый опыт с курами, с гадами…
Но, пред Эдипом загадка Сфинкса,
Простые числа все не разгаданы.
(«Загадка Сфинкса»)
Кстати, в те годы, которыми датировано это стихотворение: 1921–1922, Брюсов в поисках нового стихового языка и рифмует, можно сказать, вполне по-евтушенковски: «шаре – Плюшаре», «будет ли – обузили», «Пири ли – окрапивили», «свинка – Сфинкса».
Мог ли знать молодой Евтушенко, что когда-нибудь его немолодое одиночество чем-то напомнит участь послереволюционного Брюсова, бывшего властителя дум, отвергаемого новым поколением стихотворцев? Поэт всю жизнь пишет одно и то же стихотворение – «Одиночество».
Жадный глотатель русских стихов, Евтушенко еще не знал иностранных языков, переводная поэзия его интересовала косвенно: надо было охватить отечественную, прежде всего – ближайшую по времени, ему не до Державина или, скажем, Катенина, а Пушкин и Лермонтов усвоены по школьной программе, но уже рвутся оттуда. Красивый Блок стоял особняком. Хлебников и Пастернак волновали и заряжали, но его практике нужны были постольку-поскольку: как носители формы. Моральное ядро Пастернака ему открылось потом.
Вот «На велосипеде», чудная вещь: молодая, скоростная, с перспективой на будущее, но и с оглядкой, может быть неосознанной, на животворные образцы – евтушенковское «Я бужу на заре / своего двухколесного друга» по размеру (пятистопный анапест) и юношескому жесту похоже на смеляковское «Если я заболею, / к врачам обращаться не стану», в свою очередь идущее от Пастернака: «Мне четырнадцать лет. / ВХУТЕМАС / Еще школа ваянья» («Девятьсот пятый год»). Неплохая почва для судьбоносного велопробега.
Важно и то, что впервые в поэзии Евтушенко возникают эти имена: «До свидания, Галяи Миша…(курсив мой. – И. Ф.)».Обладатели этих имен глубоко и надолго войдут в его жизнь. Но об этом – дальше.
«Свадьбы» Евтушенко посвятит Александру Межирову.
О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют…
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди друзей,
родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит
с невестой – Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой,
не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадет.
В стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и – болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну давай, пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Летят по стенкам лозунги,
что Гитлеру капут,
а у невесты
слезыньки
горючие
текут.
Уже я измочаленный,
уже едва дышу…
«Пляши!..» —
кричат отчаянно,
и я опять пляшу…
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.
Надо запомнить эту дату: 2 октября 1955 года. В России было написано эпохально этапное стихотворение. Веха поколения.
Небезынтересно, что к нему остался равнодушным Пастернак, когда Евтушенко их очное знакомство начал с чтения этой вещи. Возможно, мэтр седьмым чувством уловил в «Свадьбах» возможность эстрадного успеха, чего он не приветствовал.
В залах, где Евтушенко читал стихи, из рядов зрителей громко требовали:
– «На велосипеде»!
– «Свадьбы»!
По-другому отнесся к «Свадьбам» другой опальный литератор. Вспоминал Владимир Лифшиц: «…у нас он (М. М. Зощенко) впервые прочитал стихи молодого Евтушенко. Они его очень заинтересовали, хотя вообще-то над стихами Зощенко любил чуть подтрунивать. Когда-то не пощадил даже Есенина, в одном из рассказов вставив в есенинскую строку, на первый взгляд, невинное “говорит”: “Жизнь моя, говорит, иль ты приснилась мне?..” Прочитав сборник Евтушенко, он то и дело повторял строки из стихотворения “Военные свадьбы”: “Походочкой расслабленной, / с челочкой на лбу, / вхожу – плясун прославленный – / в гудящую избу…”
– Этот мальчик далеко пойдет! Обратили внимание, какую он цезурочку подпустил?..»
Не исключено, что при этом разговоре присутствовал будущий Лев Лосев – сын Вл. Лифшица.








