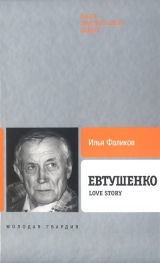
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 49 страниц)
Правда, монументальные тома «Дня поэзии» в последнюю свою пору годами лежали на магазинных полках. Однако, по-видимому, самая их грандиозность послужила прообразом евтушенковской антологии. К слову, Евтушенко добивался еще тогда права издавать свой поэтический журнал. Кажется, под названием «Лестница». У него не получилось («Эй, на барже!..», 1996).
Он <Тряпкин> говорил, что по-настоящему стал писать только к сорока годам. «И где-то возле сорока / Вдруг прорывается строка» (Д. Самойлов). Между прочим, Тряпкин признался, что в свое время приход молодого Евтушенко помог ему в раскрепощенности («Дулейка», 1997).
Кто есть кто, тут гадать не надо, хотя термины хромают. Ясно одно: поэты, очень схожие по природе своего дара и во многом по стиховым принципам (уход от мелодизма и прочей «гармонической точности»), шли в разные стороны, вряд ли думая о какой-то конкуренции между собой, каковая объективно была и отозвалась на практике тогдашнего стихотворства, возникшего бродскоцентризма, а если резко повернуть голову назад, упрешься в Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Окуджаву – тех, чьими интонациями охотно оперировали разные стихотворцы разных времен. У Межирова есть такие стихи:
Что мне сказать о вас…
О вас,
Два разных жизненных успеха?
Скажу, что первый —
лишь аванс
В счет будущего… Так… Утеха.
Второй успех
приходит в счет
Всего, что сделано когда-то.
Зато уж если он придет,
То навсегда – и дело свято.
Так вот, первый успех чуть не любого звездного поэта, на мой взгляд, длится лет семь-десять. Так было со всеми: от Пушкина до… ну, скажем, Евтушенко. Или вот Бродского. Первый успех почти всегда завершается читательским охлаждением. До второго успеха дотягивают единицы.
…Добротна ирония Довлатова, безошибочно отметившего у Бродского лишь одну брешь в броне его гениального эгоцентризма: если Евтушенко против колхозов, я за них. Это точно. Дразнил Бродского лишь Евтушенко. Вопрос о тираже собственной книги занимал Бродского лишь в связи с тиражами Евтушенко.
…Великая заслуга Евтушенко еще и в том, что он породил антиевтушенковскую волну. О колхозах Бродского уже сказано. Но ведь почти весь приевтушенковский андеграунд являет собой упорную, угрюмую дискуссию с тем поэтоповеденческим стилем, какой создал Евтушенко. Вся подземельная поэзия отвергала стадион, декламацию, сцену, пропаганду и агитацию в духе решений XX съезда, а затем публичное разочарование в оных.
…Я писал о том, что А. Сергеев в «Альбоме для марок» почти поневоле подтвердил истинность своего поэтического дара помимо прочего и потому, что, изображая своего давнего оппонента Евтушенко, с которым учился еще в школе, и не жалея при сем присущей ему язвительности, он в не зависящем от него итоге дал исполненный неподдельного тепла портрет любознательной, наивной, симпатичной орясины. Андрей Яковлевич позвонил мне:
– Вы знаете, я просто удивлен этим обстоятельством. Я не догадывался о таком результате.
Сергеев не отверг замеченного мной. Нет, это не венец, но что-то вроде промежуточного итога такого долголетнего спора.
…Грустно оттого, что Евтушенко поныне смотрит на стадион, в миллионы горящих глаз, в открытые рты молодежи, которые, к несчастью, давно уже обеззубели. Он пишет сейчас, наверное, лучше, чем когда-либо. Но меня нет на том стадионе.
Кстати, я никогда и не бывал на лужниковских перформансах наших корифеев («Стеклянный чулан», 1997).
При печальном малокнижье и благословенной малописучести Чухонцев – редкий случай – поэт прочтенный. (Самый непрочтенный – Евтушенко.) («Ивиков петух», 1998).
Сейчас Шкляревский оставляет для себя его, «тихого мальчика». Который очень похож на Соколовского «бедного мальчика в промокшей кепке». А ведь тогда, вначале, Шкляревский реализовывал совершенно другую программу – ту, что обозначил… Евтушенко: «Я знаю, что живет мальчишка где-то, / и очень я завидую ему… / Завидую тому, как он дерется… / Он вечно ходит в ссадинах и шишках… / Он будет честен жесткой прямотою… / Он если не развяжет, так разрубит…»
Вот оно. Вот каков будущий победитель («Охота на волка», 1998).
Горбачев в молодости ходил на вечера Евтушенко. Бурбулис, Козырев и Чубайс замечены на выступлениях «шестидесятников» («Устрицы во льду», 1998).
Между тем поэт прет косяком. Стихи пишутся в немереных количествах на просторах отечества, еще достаточно обширного. Раньше о всенародной графомании лучше всех знали литконсультанты, в каковых и я пребывал. Теперь, сдается, о стихотворцах знают лишь стихотворцы. Происходит тотальное взаимоокормление авторов почти без участия любопытствующих со стороны.
Все это – не общие слова, но основополагающий фактор того процесса, который происходит в текущей поэзии. Стихотворец, имеющий адресатом стихотворца же, думает по-иному, нежели, скажем, гражданский проповедник типа Некрасова, Надсона или Евтушенко. Бал правит суггестия. Ее крайняя форма – разговор глухонемых на пальцах: это когда поэт объявляет поэзией самое молчание.
Но до университетского Запада в плане стихотворства – нам далеко, и мы покуда туда не хотим. Западный университет нам нужен как площадка изучения и пропаганды противоположного университету варианта существования на поэтической сцене – существования вот именно на сцене. Торжествует перформанс. Ему подчиняются и прозаики, убеленные сединами: Битов читает на зрителе черновики Пушкина под джаз. Эстрада бессмертна. Пригова породил Евтушенко, но они оба этого не знают.
… Сергеев не раз говорил о том, что он вырос на русском модернизме начала века, на авангардистской почве: футуристы, включая Пастернака (избранное которого на первое ознакомление ему дал, между прочим, Евтушенко) («Плюсквам-перфектум», 1999).
Наш разговор выходит за рамки «нынешней ситуации», это правильно, потому что она – лишь фрагмент общего полотна. Иначе ее просто не понять.
Дело в том, что советское время не единообразно, оно похоже на эон,то есть объединяло несколько эр,которые были разными, и, скажем, после войны пришли очень неслабые поэты, тогда еще молодые: Межиров, Винокуров, Слуцкий, Самойлов, Тряпкин, Гудзенко. 60-е годы – целый фонтан свежих талантов. Не надо делать вид, что евтушенковская плеяда – пустое место. Нет смысла поддакивать их старым врагам и нынешним труженикам помойки со специфическими ушатами. Те звезды светили как могли, и если кого-то из них теперь фактически нет, то свет все равно остался. Свет – двоякий(кажется, эпитет Межирова, взятый у Пастернака). Вот дальше началась некоторая пробуксовка. И то – на взгляд извне. Внутри поэзии движение происходило и дало результаты («Поэзия в России не изгой. Диалог с А. Алехиным», 1999).
Тем не менее именно фронтовики задавали тон, и новые поколения наследовали им даже и тематически. Прозвучали стихи об отце Юрия Кузнецова (в живописи, попутно говоря, – «Шинель отца» В. Попкова). Я уж не говорю о значительно более ранних «Свадьбах» Евтушенко или, еще раньше, воспоминательной лирике Соколова («Красноречие по-слуцки», 2000).
Где-то в конце 70-х, что ли, в Цветном кафе ЦДЛ, летом. Евтушенко подсел к шумной компании полумладых поэтов за столик на выходе из кафе, у арки. Они там гудят, я смотрю сбоку, и тут проходит из ресторана на выход – Наровчатов. Евтух, держа бокал шампанского:
– Сергей Сергеич, подсаживайтесь, проявите демократизм. Наровчатов, продолжая идти, куда шел:
– Предпочитаю просвещенный абсолютизм.
…В 96-м летом у меня дома раздался звонок.
– Говорит Евтушенко.
Я был отчего-то в сердцах и, вообразив очередной розыгрыш, гаркнул:
– Какой еще Евтушенко?!
Он сказал, что это Евтушенко подлинный, и я узнал его голос. Он поблагодарил за эссейку о нем в «Утре Россіи». Заговорил о талантливости написанного и сильной проницательности, особливо насчет того, что я угадал, кому (Вознесенскому) посвящен «Плач по брату» (он забыл, что когда-то сам рассказал мне об этом, когда мы провели вечер за одним столом), и вдруг сказал:
– Но ведь тебя же нет у меня в антологии…
– Ну и что?
Он выдержал паузу. Затем – с особым теплом:
– Это говорит о твоей человеческой стоимости.
И стал говорить, что я просто-напросто каким-то образом выпал из поля его зрения, когда он делал свою антологию, затопленный морем чужих стихов.
Честно говоря, когда я писал о нем, я попросту забыл об этом обстоятельстве. В голове не было. Я люблю его безотносительно к тому, что уже где-то с начала 70-х воспринимаю его стихи как документы и материалы к жизни и деятельности Е. А. Евтушенко.
Я люблю его за свою молодость. Но было еще и такое. В конце 70-х он, проходя по Цветному кафе ЦДЛ, сказал мне:
– Я сегодня на редсовете «Современника» рекомендовал издать тебя, действуй.
Ей-богу, я его не просил об этом, он сам так поступил. Я отнес рукопись в «Современник». Позвонил ему, оповестил о том, что сделал, и неуверенно предложил ему написать предисловие. Он спросил:
– А для чего это тебе? Для рекламы?
Я замялся. Он пригласил принести копию рукописи ему на дачу. Вечером я приехал в Переделкино. Меня встретил его секретарь, сказал, что Евгения Александровича сейчас нет на даче, взял папку со стихами. Через какое-то время мы на бегу встретились в ЦДЛ.
– С предисловием не получается, извини. Возьми свою рукопись у дежурного администратора ЦДЛ. Не сердись.
– Совершенно не сержусь.
Он глянул на меня с двухметровой высоты искоса:
– Редкий ты парень…
Мы расцеловались, я тут же взял рукопись у администратора. Она была вся пропитана красным вином, и к ней была приложена – именно так – повестка на имя гражданина Е. А. Евтушенко в суд на предмет бракоразводного процесса. Не красноречиво ли?
Так что ничего нового (в связи с антологией) не произошло.
А та книжка в «Современнике» – вышла.
…Все это – постскриптум к моему очерку о Слуцком. Само вспомнилось. Кроме того, закончив своего Слуцкого, я ознакомился с чужими текстами на его счет и обнаружил куняевский мемуар о Борисе Абрамыче. Справедливости ради надо сказать, что написано это хорошо, разумно и по-честному. Если не считать, конечно, национального мотива, звучащего, впрочем, под сурдинку. Поглянулись мне и евтушенковские материалы о Слуцком: статья, стихи. Собственно, эти стихи я читал когда-то, да подзабыл. Как всегда у него: рифмует рассказы. О Слуцком – очень искренне («После книги, или Осень в Толстопальцеве», 2000).
Евтушенковская плеяда – и она тоже – появилась в 50-х. Ее гражданская проповедь имела силу и дышала свежестью в конце 50-х. В следующем десятилетии она, криком крича, лишь договаривала, отчаянно недоумевая по поводу разбитых идеалов. Середина века —точней Луговского никто не определил ту эпоху.
…У Слуцкого есть словцо: послевойна. Вот это все и было послевойной. «Свежести! Свежести! Хочется свежести!» – кричал Евтушенко в 59-м. Очень скоро он получил по зубам с самого верха, кричать не перестал, но звук стал другим. Другой стала и акустика.
…По центру Анапы белобрысый мальчик водит рыжего шелудивоватого ослика, чтоб другие катались, за деньги, конечно. Интересуюсь:
– Как зовут твоего зверя?
– Степка.
– А тебя?
– Женя.
Как-то идем мимо, в пески, видим наших знакомцев, кричу:
– Стенька!
Откликается Женька:
– Здрасьте!
«Стенька, Стенька, ты как ветка, потерявшая листву. Как в Москву хотел ты въехать! Вот и въехал ты в Москву».
Народная песня, не меньше.
…Кажется, кроме Юрия Кузнецова в 70-х не явилось ни одного громкого имени. Стихотворная продукция шла широким потоком, конвейер работал без перебоев, монбланы «Дня поэзии» возвышались на прилавках, но читательское море практически высохло, превратясь в невзрачный ручей. Тот же Кузнецов к середине 80-х лежал на прилавке в московском Доме книги на Калининском проспекте нераскупленным.
Возник феномен Александра Иванова, пародиста. Суррогат. Это походило на конец поэзии. Помню рекламный щит под Залом Чайковского: вечер поэзии в честь женского дня, участвуют поэт-пародист А. Иванов и поэты-мужчины Е. Евтушенко и др. Поэт-пародист отдельной строкой, поэты-мужчины стадом.
Зал Чайковского смотрит на бронзового Маяковского, наверняка не позабыв, что творилось под монументом в былые времена. Ежевечерние поэтические тусовки заглушали шум улицы Горького. Тысячи начинающих гениев пробовали свои голосовые связки, и я однажды решился, эффекта с испугу не запомнил. Зато ясно вижу, как несметная толпа тащит на руках Евтушенко, и он растерянно улыбается, поблескивая золотой фиксой. Все миновалось, молодость прошла («Высокий берег», 2001).
Многие нынче склонны наглухо умалчивать о том, что наши разъездные поэтические звезды евтушенковской плеяды вполне достойно поработали на престиж поэтической России. Их слушал весь мир, как это ни дико звучит теперь, может быть. Когда Вознесенский сказал: «Нас мало. Нас, может быть, четверо», он не только намекнул на Пастернака («Нас мало. Нас, может быть, трое». – И. Ф.,2013), но и независимо от замысла констатировал наличие в русской поэзии собственных, так сказать, битлов, неливерпульской четверки, имевшей успех весьма шумный. Дело не в том, осталось ли от них свое «Yesterday», дело в том, что это – было. Хотя и yesterday. Более того. В Париж мог явиться и человек не из четверки, Соснора, скажем, и принимали его прекрасно.
Еще более того: куда-нибудь в Рим приезжала бригада матерых мастеров в невообразимом по разношерстности составе (Твардовский, Мартынов, Заболоцкий, Слуцкий, С. Смирнов) – и что? Полный успех. Наконец и Ахматова получила свои лавры там же, в Европах. Наконец-то Запад не ошибся в идентификации России – как страны словоцентричной.
Все это начиналось в том самом 58-м или где-то около того, и посему Адамович оказался не только не прав насчет невозможности поэзии, но и поразительно не прав, вдвойне не прав: во-первых, поэзия пришла тогда в мир из России, не из Франции, а во-вторых, обрела значение, может быть, не свойственное ей, но поистине чрезвычайное. Я думаю, вершиной именно той волны был мировой взлет Бродского. После него все пошло на спад, перестроечные триумфы наших поэтов карликовы по сравнению с упомянутым yesterday, как ни бились над его повтором целеустремленные слависты («После бури?..», 2001).
Относительно формы стиха общий вектор молодой поэзии той поры исходил из недавнего вчера, казалось бы, подзабытого, – из того, что было начато футуристами, Пастернаком, продолжено Цветаевой, имажинистами, конструктивистами и прочей левой поэзией. Рифма Кирсанова или Сельвинского, при еще живых родителях, стала называться евтушенковской. Впрочем, на такую рифму, как «фраза – Франко» (Евтушенко), старики уже не отваживались.
За взглядом на рифму стоял взгляд на действительность. Она нуждалась в обновлении, потому что не устраивала. С одной стороны, она была богата (богатая рифма), с другой – бедна (бедная рифма). Здесь можно продолжить сколько угодно много, вплоть до диссонанса. Острота проблемы постепенно гасла – поэт, как и все остальные, привыкал к текущей действительности как некой данности. Рифменный революционаризм стал привычкой, делом техники. Такого поэта, как Соколов, рифма интересовала постольку-поскольку: время вызова кончилось («Проблема рифмы», 2002).
Вчера – звонок от Евтушенко. – Здравствуй, Илюша. – Здравствуй, Женя. – Что-то давно не вижу твоих статей. – Притомился. – Кого читаешь? – Никого в этом году. – Что думаешь о Кабыш? – Хорошо думаю. – О Першине? – Ничего не думаю. – Раз не статьи, что делаешь? – Накатал за эти годы несколько романов. – Да? Не видел. Где печатал? – В журналах. – А книгой? – Нет денег. – Делаю трехтомную антологию русской поэзии. Решил перевести «Слово о полку», в рифму.
Я видел его на недавнем форуме в честь Достоевского, где он произносил речь, а потом ходил по ресторану в отеле «Россия» с сумкой через плечо. Там мы не перекивнулись.
Поздравил с Новым годом. «Обнимаю».
Я знаю, что у него больна мама.
Странный звонок. Последний раз мы пересекались год назад на вечере Рейна, где сухо поздоровались. Там он тоже ходил вокруг фуршетного стола как бы в поисках кого-то родного, я к таковым явно не относился (Из дневника. 2001–12–22).
Наверно, кроме Ахматовой самые большие места в его (Рейна) жизненном пространстве заняли Бродский, Довлатов и Евтушенко. Причем последний – чуть ли не первее прочих, по крайней мере в первой половине книги («Заметки марафонца». – И. Ф.,2013). В отличие от Бродского, нетерпимого к Евтушенко, Рейн не без восхищения включен в фантастикофеерическую орбиту евтушенковской жизнедеятельности, не без восхищения и некоторого недоумения: именно здесь возникло самоопределение «скромный литератор». Умение быть вторым? Не знаю. Он ведь третий («Рейнланд», 2004).
Кажется, Евтушенко первый назвал Слуцкого великим. Вот евтушенковский ряд великих: Пастернак, Ахматова, Твардовский, Заболоцкий, Смеляков. К ним он присоединяет Симонова – за «Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша…». Слуцкий – в этом ряду («Пусть будет», 2006).
Но вот что интересно. Он (Антокольский) не состоял ни в одной поэтической группе (не слишком кровно смыкался с конструктивистами), всю жизнь шел параллельно общему движению (здесь дело не только в том, что его забирал, или отвлекал, театр), а в итоге получилось, что в какой-то мере сам основал некое направление. У Гумилёва когда-то были гумилята, учеников Антокольского можно бы назвать антоколятами. Слово не из самых благозвучных, но мне кажется – оно точно. У этого направления не было программы и рамок: разница между тем же Межировым и Евтушенко в поэтике – бездонна («Об Антокольском: конспект», 2007).
Авторская песня – задушевно-полемический вариант евтушенковского Стадиона. В плане экстенсива. Страна была охвачена то общим воодушевлением, то всеобщим разочарованием, во все это были вовлечены миллионы поющих голосов. Стоящих слов было, может быть, и много – осталось немного. Стихи Сухарева – из тех, что остались.
…Поэзия Сухарева напрямую наследует прежде всего поэтам-фронтовикам, став, может быть, единственным и законченным явлением этого рода. Никто из рожденных в 30-х так определенно не сосредоточился на этой линии. Ни Кушнер, ни Мориц, ни Чухонцев, ни Рейн, ни Шкляревский, ни, скажем, даже Леонович, во многом разделяющий Сухаревские предпочтения. В этом – поколенческом – народе он действительно стоит. И горой стоит за него. Стихи про Евтушенко (неназванного) «Когда его бранят» прежде всего благородны по жесту – и в 86-м, когда они написаны, требовалось мужество, чтобы бросить в лицо литературной кодле: «И мы учились – / рабски! / – у него! / Мы все на нем вскормились, лицемеры!» («Обаяние vers. Обаяние», 2010).
Оправдываться у меня нет причин. Но о туркменской истории трех поэтов сказать вынужден. (Речь о переводе на русский язык стихов Туркменбаши. – И. Ф.,2013.) Три поэта зря пошли на эту затею. Общественность напрасно их бичевала. Так бурно и так массово. Три поэта – не монолит, роль каждого из них в этой истории своя: кто-то это задумал, кто-то вляпался. Их публичная самооборона не выглядела красиво.
Но добивать – нельзя. Лежачего не бьют.
Я сказал Рейну в те дни:
– Сто первым я не буду никогда.
Это концовка старого евтушенковского стихотворения о том, как толпа бьет ногами базарного воришку. Рейн усмехнулся.
…Между прочим, в уже далекий день публикации моей заметки о ней («Кулиса», приложение к «Независимой газете») вечером у меня дома раздался звонок: говорит Вера Павлова. Я сперва не понял, что за Вера. Она поблагодарила за точность и благожелательность. Редкий жест. Старая школа. Я могу по пальцам пересчитать поэтов, поступивших так же: Евтушенко, Рейн, Ряшенцев, Чухонцев, Соколов, Кушнер, Британишский. Возраст? Культурность.
…В декабре 2004-го – Международный конгресс, посвященный русской литературе в мировом контексте, под эгидой волгинского Фонда Достоевского. В фойе гостиницы «Космос» многолюдно, мельтешение, всяческие пересечения. Пару раз я пересекся с Е. А. Евтушенко. Оба раза он говорил о моем потрясающем экстерьере, в смысле одежды.
– Ты что, на бегах выиграл?
Под занавес конгресса – вечер поэзии. Я читаю стихи, моя очередь. Е. А., неподалеку от сцены, в полный голос разговаривает с соседом по ряду. Вдали – Д. Быков весело с кем-то беседует спиной к сцене. О том и другом я в свое время писал со знаком плюс. Видимо, с Е. А. надо было как-то поубедительней поговорить о моем гардеробе. Кстати, когда читал Е. А., перед его носом тоже оживленно беседовали – Евтушенко накричал на В. Рабиновича:
– Прекратите, как вам не стыдно, вы тоже пишете стихи!
Потом В. Рабинович мне говорил, что разговаривал не он, а С. Бирюков.
Значит, дело не в прикиде.
…По идее, каждая генерация выдвигает своих теоретиков и герольдов. Вмешиваться со стороны – возраста, опыта и проч. – вряд ли следует. В свое время Илья Сельвинский, высказываясь о тогдашних молодых (евтушенковская плеяда), заметил, что эти ребята замкнуты в рамках малых форм, а нужен эпос: поэмы, трагедии и т. п., то есть то, чем он занимался сам. На поэтическом дворе стояло совершенно иное время. Однако поэмы – чуть позже – возникли. Слишком много поэм. До трагедий дело не дошло. В театр – на Таганку прежде всего – пришли стихотворения и поэмы («Фокус Блока», 2005).
Молод был Борис (Борис Рыжий. – И. Ф.,2013) и мне сказал с серьезными глазами: я не прочел ни одной строки Евтушенко. Который, между прочим, и есть последний советский поэт. О чем он и сам говорит с гордостию.
…Охват широк (в книге Игоря Шайтанова «Дело вкуса». – И. Ф.,2013), картина опубликованной поэзии в общем верна, и вряд ли есть особый смысл спрашивать, почему, скажем, Тарковский или Мориц лишь упоминаются? Ясно: дело вкуса. Который не помешал ему отдельно работать с Самойловым – представителем того же крыла нашего стихотворства. К слову, нынче он сожалеет о том, что «не получилось написать – в полной мере, скажем, о высоко мной ценимых Межирове, Слуцком, Владимире Соколове…».
Получилось иное. Старики-модернисты (точней, экс-модернисты) в разной степени благорасположенности передают лиру непосредственно евтушенковской плеяде, в сторонке поодиночке стоят сурово-печальные почвенники (внеэстрадники), потихоньку подходит разномастная молодежь («Спору нет», 2008).
Тут начинается тема Тютчева, тогда еще Ф. Т. Кстати, в статье (Некрасова – «Русские второстепенные поэты». – И. Ф.,2013), без особых восторгов, но благожелательно цитируется и Фет, и я попутно замечу, что где Ф. Т.,там и Фет– это почти обязательно, поскольку у них на слух и на глаз практически одно имя. Некрасов, похоже, первый скомпоновал эту неразлучную пару, и с тех пор разбить ее невозможно, как Пушкина с Лермонтовым, Ахматову с Цветаевой или Евтушенко с Вознесенским.
…Никто и не требует от поэта постоянного парения или, тем более, пастьбы народов. А кстати: второстепенный поэт как властитель дум – есть такое явление? Надсон. В сущности, лермонтовская ода-инвектива «На смерть поэта» – факт «тенденции», многословное произведение молодого поэта, берущее злободневностью, безоглядностью вызова, а не потенциалом гения. Но его не могло не быть в русской поэзии. И кроме Лермонтова его никто не мог написать – таких просто не было.
Времена указанного властительства прошли и никогда не вернутся. Не чуждый сему благородному влечению Бродский не был властителем дум, он в этом смысле не идет ни в какое сравнение с Евтушенко.
…На моей памяти – начиная с 60-х – экстенсивным воздействием на общее стихотворство обладали, не говоря о Маяковском, Есенине, Пастернаке, Мандельштаме, Багрицком, Ахматовой и Цветаевой, уже ушедших к той поре, некоторые поэты второй половины XX века: что бы кто ни думал о них, это – Евтушенко, Слуцкий, Вознесенский, Окуджава, Ахмадулина, Межиров, Соколов, Самойлов, Тарковский, Рубцов, Кузнецов, Чухонцев… Фигуры несомасштабные, разные по силе, значению и длительности звучания. В совокупностиони – с решительным прибавлением Бродского – и были тем явлением, которое Некрасов видел в Пушкине относительно своего времени, имея в виду конец пушкинской эпохи («Стыд стиха», 2009).
А<ндрей> Белый ушел тихо. Незадолго до этого Г<ригорий > Санников помог ему передохнуть – перевести дух – в Коктебеле. Там было холодно. Дул ветер, палило солнце. Идет бурная переписка. Постоянные жалобы на расширение сердца. «Осталось жить недолго». Это и есть то, от чего Пастернак предостерегал молодого Евтушенко: не говорить в стихах о своей смерти (об этом упоминает Радзишевский в книге «Последние дни Маяковского») («Перепек», 2010).
Праздники, впрочем, подбрасывает жизнь. В частности, всяческие юбилеи. Появляются стихи. В частности, «Гоголь-фест» <Бориса> Херсонского в «Крещатике», № 3, 2010. Написано здорово. Есть все – широкое дыхание, ритмическая свобода, богатая лексика. Сбои и спотыкания не оттого, что настолько сопротивляется материал и автору трудно. Ему легко. Он и оскальзывается не то чтобы понарошку, но сознательно. Чтобы избежать гладкописи. Вообще говоря, Херсонский, соглашусь, – случай,но больше все-таки вопрос.Это – легкость или ловкость? Гоголь у него по существу ни при чем. Гоголевская аура – возможно да. Полет фантазии – да, почти оттуда. Но это лишь точка отталкивания, и хорошо, что фантазия летит-таки. Получается что-то причудливо-притчевое, сказово-сказочное. Разумеется, это не хождение в народ, не фольклорная экспедиция, это, пардон, литературщина, то есть то, что рождено в недрах самой литературы и – очень умело – переведено в плоскость злободневности. «Столик красного дерева одиноко стоит в степи, / общее благо повсюду, куда ни ступи. / Вставай-поднимайся, народ. Любимая – спи». Вот вам и центон (двойной), а про любимую – еще и из Евтушенко. К которому Херсонский небезразличен, боюсь – не меньше, чем к Бродскому. С каким знаком – плюсом ли, минусом ли – не важно. Вещание на массы, по возможности просвещенные, имеет место и нередко преобладает над веществом стиха («Знать грамоте», 2010).
Настаивать на термине – арт-поэзия– мы не будем. Но явление существует. Более того, оно шире, чем артист, пишущий стихи, и стихи, написанные артистом. Поэтические произведения, ставшие спектаклями; концерты чтецов; даже выступления поэтов, прибегающих к арсеналу сценического искусства: Евтушенко в частности. Любимовские «Антимиры» с участием Вознесенского.
В этой связи надо особо сказать о 60-х, о той поре, когда началось и пошло далее во времени второе – после Серебряного века – пришествие поэзии на театр. Классика – Шекспир или Пушкин – само собой, Брехт – тоже, но речь о современной поэзии, когда тот же Любимов и его последователи по всей стране показывают зрителю постановки на основе современной поэзии, включая творчество поэтов-фронтовиков. Или, независимо от «Таганки», превосходную вещь Семена Кирсанова «Сказание про царя Макса-Емельяна» (нынче переписанную-перепоставленную Марком Розовским). Тогда-то и возникает чуть не в массовом порядке этот творческий тип: артист, пишущий стихи. Арт-поэт, если хотите («Не шей ты мне, матушка…», 2010).
Длинная строка, богатая ритмика, голосовое гудение – куда от этого денешься? Это вошло в стиховой состав всех, кто начинал в отрезке времени от 30-х до 60-х. Тот же Евтушенко, наиболее верный ученик (Луговского. – И. Ф.,2013) по всем параметрам – от актерства до трибунности. А лукавство? Посвятить стихотворение «Ограда» якобы памяти Луговского (испросив разрешения у вдовы), на самом деле имея в виду Пастернака. Публичность прежде всего. Ничего для архива. Но «Середина века» писалась в стол. В архив. Так ли? Он подготовил публикацию этих поэм, немилосердно их изувечив («Улица Луговского», 2011).
99 процентов нынешних – особенно молодых – стихотворцев не читали «Братскую ГЭС». Может быть, и 99,9 процента. Но последняя цифра может коснуться и «Василия Теркина» Твардовского, и «Сказа о царе Максе Емельяне» Кирсанова – практически всей недавней классики. Это не есть хорошо. Хотя бы из соображений «врага надо знать» («Кладбище паровозов», 2012).
Народ спросит: а где Евтушенко? Факт неувенчанности сего патриарха на данном ристалище красноречив: «Поэт» – премия текущего исторического момента, избирательная оптика минуты, притормозившего мгновенья сегодняшней истории («Поэт. Национальный. Русский», 2013).
Р. S.
Последнее высказывание появилось в апрельском номере «Нового мира» (2013) за несколько дней до решения жюри премии «Поэт» о победе Евгения Евтушенко.








