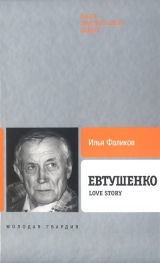
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц)
Там же, на Кубе, Евтушенко сошелся с кубинскими поэтами Р. Ф. Ретамаром, Н. Гильеном, Э. Падильей, X. Бараганьо, их лирику переводя на русский язык.
Молодой русский поэт пришелся ко двору, влюбился в остров, и это было взаимно. В 1962-м он вместе с другими авторами будущего фильма колесит по всей Кубе, и это продолжается три месяца. Они встречались с тысячами людей, записали разговоры на магнитофонную пленку и стали снимать. Пару раз их принимал Фидель.
Там же, на Кубе, Евтушенко впервые пересекается с Юрием Гагариным, навестившим Кубу, и знакомится с Че Геварой, уже почти легендой. «Разговор происходил в 1963 году, когда окаймленное бородкой трагическое лицо команданте еще не штамповали на майках, с империалистической гибкостью учитывая антиимпериалистические вкусы левой молодежи. Команданте был рядом. Пил кофе, говорил, постукивая пальцами по книге о партизанской войне в Китае, наверно, не случайно находившейся на его столе. Но еще до Боливии он был живой легендой, а на живой легенде всегда есть отблеск смерти. Он сам ее искал. Согласно одной из легенд, команданте неожиданно для всех вылетел вместе с горсткой соратников во Вьетнам и предложил Хо Ши Мину сражаться на его стороне, но Хо Ши Мин вежливо отказался. Команданте продолжал искать смерть, продираясь, облепленный москитами, сквозь боливийскую сельву, и его предали те самые голодные, во имя которых он сражался, потому что по его пятам вместо обещанной им свободы шли каратели, убивая каждого, кто давал ему кров».
Фильм родился (1964) в яростных спорах единомышленников. Работали так: собирались вчетвером, обговаривали каждый эпизод, сценаристы расходились по разным комнатам, готовили свои варианты и затем находили общее решение. Двухсерийный фильм «Я – Куба» состоял из четырех новелл о недавней истории острова, о неизбежности революции. Свой вариант сценария Евтушенко перевел в жанр поэмы в прозе и назвал его «Я – Куба».
Это было экспериментальное кино (с подачи Фрэнсиса Форда Копполы и Мартина Скорсезе его используют как учебное пособие во многих киношколах мира), в котором снимался лишь один актер-профессионал, все остальные исполнители – обычные люди. Даром, что ли, кубинцы – народ-артист, свою революцию исполнивший как карнавал. Страдания, кровь, мужество, любовь, музыка, танцы, стихи Николаса Гильена. Для начала кино показали самой Кубе, в Сантьяго-де-Куба, и многотысячному зрителю на главной площади Гаваны, после пылкой речи Фиделя.
В августе 1961-го Евтушенко заглянул в Киев. Литинститутский приятель, уроженец Киева, мальчишкой проведший 1941–1943 годы в оккупации, Анатолий Кузнецов показал ему Бабий Яр. В этом овраге фашисты расстреливали гуртом евреев, партизан, военнопленных, заложников.
В 1950 году по распоряжению киевских городских властей Бабий Яр, огороженный валом, был залит жидкими отходами соседних кирпичных заводов, чудовищная масса которых через десять лет при весеннем снеготаянии прорвала заграждение, хлынув в сторону окрестных селений и уничтожив множество жилья и кладбище. Жертв было до полутора тысяч человек. Это назвали Куреневской трагедией, по имени пострадавшего городка. Евтушенко стоял над знойным расплавом окаменевших старых нечистот.
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне – следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.
Мещанство —
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!» —
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! —
Я знаю —
ты
по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
я —
это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся – это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет —
это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому —
я настоящий русский!
Когда Евтушенко прочел «Бабий Яр» Межирову, тот – после глубокой паузы – сказал:
– С-с-спрячь это и н-н-никому не показывай.
Дело пахло грандиозным резонансом. Так оно и случилось.
Евтушенко впервые прочел на публике новонаписанный «Бабий Яр» – в Киеве. Номер «Литературки» от 19 сентября 1961 года с «Бабьим Яром» изъяли из библиотек. Кстати, это стихотворение было предварено в подборке двумя стишками на тему кубинской революции, их никто не заметил.
Главный редактор «Литературной газеты» Валерий Алексеевич Косолапов получил трепку в ЦК, выговор и в итоге был уволен. Напечатать «Бабий Яр» он решился лишь после разговора с женой, бывшей фронтовой медсестрой. Они оба знали, на что он шел.
«Он не раз мне помогал в жизни и не в связи с “Бабьим Яром”. Именно он посоветовал мне сходить со стихотворением “Наследники Сталина” к помощнику Хрущева Владимиру Семеновичу Лебедеву. Когда я к тому заявился, он принял меня с распростертыми объятиями, восторгаясь моим дедушкой Рудольфом Вильгельмовичем Гангнусом. Оказывается, Лебедев был в той самой школе НКВД, куда на уроки возили моего деда из мест заключения. “Мы все так любили его, так любили!..” – повторял Владимир Семенович».
Скандал рос.
Особенно разъярилась литературная шатия.
Критик Д. Стариков – на страницах «Литературки» – кроет Евтушенко таким макаром: «Мне гораздо ближе сегодня стихи Ильи Эренбурга 1944 года. Они тоже называются “Бабий Яр”…» Осмысленных, полномасштабных аргументов у Старикова, как, впрочем, и у других евтушенковских ругателей, нет. Ход его доводов таков:
Зачем сейчас, в 1961 году Евгений Евтушенко вернулся к этой теме? Может быть, он вспомнил о Бабьем Яре, чтобы предостеречь мир от фашизма? Может быть, он не мог молчать, услышав истеричные вопли западногерманских реваншистских ублюдков? А может быть, он хочет напомнить некоторым своим сверстникам и сверстницам о доблестях, о подвиге, о славе и о великих жертвах отцов?.. Ничего подобного. Стоя над крутым обрывом Бабьего Яра, молодой советский литератор нашел здесь лишь тему для стихов об антисемитизме! И думая сегодня о погибших людях – «расстрелянный старик», «расстрелянный ребенок» – он думал лишь о том, что они – евреи. Это для него оказалось самым важным, самым главным, самым животрепещущим!..<…> Сейчас дружба наших народов крепка и монолитна как никогда. Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писательской газеты позволяет Евтушенко оскорблять торжество ленинской национальной политики такими сопоставлениями и «напоминаниями», которые иначе как провокационные расценить невозможно? Во имя чего надрывается сейчас Евтушенко, силясь перекричать победный гул нашей трудовой жизни?.. «Бабий Яр» – очевидное отступление от коммунистической идеологии на позиции идеологии буржуазного толка.
Эренбург отзывается коротким письмом в газету: «Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим».
Вот «Бабий Яр» Эренбурга 1944 года, целиком, а не в обрывке.
К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим – туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы – овраги.
Особь статья – сам Илья Эренбург, его фигура на фоне того времени. Его мемуары «Люди, годы, жизнь» печатались в «Новом мире» пять лет начиная с 1960 года, и эта книга стала интеллигентской библией шестидесятых. Партия насторожилась и ощетинилась, хрущевские спичрайтеры подыскивали насколько можно интеллигентные слова обвинений (долгая оторванность от Родины, бесклассовый подход к творчеству и проч.) в сторону старого писателя, легендарного публициста Великой Отечественной войны и известного борца за мир во всем мире, – это была фигура мирового масштаба, приходилось действовать с оглядкой.
Но объективно, если исходить из партийной критики, выходило, что именно Эренбург, написав повесть «Оттепель» (1954), стал не только автором имени происходящей эпохи – оттепель,но и духовным отцом «звездных мальчиков», поэтов и прозаиков. Это он ностальгировал по той русской литературе, что не ведала о соцреализме, по тем именам и лицам, что были его молодостью, и это были Цветаева и Мандельштам, Модильяни и Пикассо, весь цвет мировой культуры, тоска по которой не заглохла в эфемерных манифестах акмеизма, была мотором нового исторического оптимизма и находила бесчисленных врагов и в исполнителях власти, и в рядах самой интеллигенции.
Эренбург напечатал в «Литературной газете» статью о Борисе Слуцком, ставя в заслугу поэту-фронтовику наследование некрасовской линии, и в книге «Люди, годы, жизнь» сказал о Слуцком: «Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со сверстником; оказалось, что это возможно». При этом Слуцкий не стоял перед Эренбургом по стойке смирно, порой спорил с ним, и однажды на внезапный эренбурговский вопрос о том, кто первый ввел в обиход выражение «справедливые войны», Слуцкий предположил: Сталин, наверно.
– Фридрих Второй, – победно усмехнулся Эренбург.
Заметим эту сталиноцентричность Слуцкого. А почему не Ленин или Маркс, например? В мозгу сидел Сталин.
В 1956-м Эренбург прогнозировал «новый подъем поэзии» (прогноз оправдался), особо отметил «едкую и своеобразную прозу» Слуцкого, был поражен стихотворением «Кельнская яма», вставленным Слуцким в свою военную прозу как образец «анонимного солдатского творчества».
Д. Самойлов, друг и соперник Слуцкого, ревновал:
Эренбург – старый метрдотель в правительственном ресторане – был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капель. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта.
Слуцкий знал, разумеется, о неоднозначности Эренбурга, но оправдывал его так: «Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света…»
Эта позиция многое объясняет в мировоззрении, творчестве и поведении Евтушенко.
Мы ухитрялись брать заказы,
а делать все наоборот.
(«В церкви Кошуэты»)
В октябре собралось Всероссийское совещание молодых поэтов. Критика «Бабьего Яра», аналогичная стариковской, прозвучала в выступлении первого секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова. Павлов протестовал против публикаций «жалкой группки морально уродливых авторов» на страницах молодежного журнала «Юность».
По ходу дела случился прецедент, косвенно имеющий отношение к нашей теме. Речь о Ленинской премии. Ее не выдают в паре, но эту награду за шестьдесят первый год получают два Александра – Твардовский (поэма «За далью – даль») и Прокофьев (книга «Приглашение к путешествию»). В их лице торжествует сам народ, а не горстка отщепенцев. Исключение подтверждает правило. Однако ясно – под ковром схватка за лавры шла неистовая.
Летом 1962-го Евтушенко выпустил в издательстве «Молодая гвардия» книгу «Взмах руки» – первое издание поэта за всю историю мировой поэзии, вышедшее стотысячнымтиражом.
В октябре Москву посещает генеральный секретарь Французской компартии Жак Дюкло. В интервью «Литературной газете» от 18-го числа он тепло говорит о пребывании Евтушенко в Париже, добавляя: кстати, в Англии, говорят, у него был большой успех. Еще в апреле 1962-го на обложке журнала «Time» был напечатан портрет Евтушенко работы Бориса Шаляпина, сына великого певца.
В ноябре Евтушенко – в составе все той же звездной плеяды – снимается в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Тонкие шеи, горящие глаза, высокие голоса, вольная жестикуляция. Большая аудитория, ухо Политехнического.
В ноябрьском номере «Юности» помещена официальная информация: «Секретариат Правления Союза писателей СССР удовлетворил просьбу И. Л. Андроникова и Н. Н. Носова об освобождении их от обязанностей членов редакционной коллегии журнала “Юность”. В состав редакционной коллегии журнала “Юность” введены В. П. Аксенов и Е. А. Евтушенко».
В том же ноябре – пленум ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь С. Павлов говорит о задачах комсомола, одной из которых является решительное неприятие таких поэтов, как Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и подобные им.
Пятого декабря в ленинградской газете «Смена» – статья «О цене “шумного успеха”». Автор ее Н. Лисочкин поражается давке у дверей Дворца искусств им. К. С. Станиславского, девичьим стонам «Ой, мамочка!», нехватке пропусков на вечер «довольно молодого темноволосого человека с блестящими глазами».
Булат Окуджава.
Откуда сие?!
Окуджава, недавний калужский учитель, познакомился с кругом звездных молодых ребят в 1957 году. Еще до того, как он познакомился и сошелся с ними, произошла мизансцена, связанная с Сергеем Наровчатовым, к которому калужский учитель явился как фронтовик к фронтовику, будучи с ним немного знаком. Тот повел его в Дом литераторов:
– Со мной, – сказал Наровчатов дежурной у входа, и меня пропустили! Впервые!
В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. У меня кружилась голова, и даже не столько от выпитого, сколько от сознания причастности. Я хорошо различал лица, слова, я наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. Теперь на этом месте – бар, теперь это проходной коридор, это всего лишь предбанник бывшего ресторана. А тогда это было главное помещение. Пять-шесть столиков… За дальним из них я увидел Михаила Светлова! За соседним столиком справа – Семена Кирсанова. Слева, Господи Боже мой, сидел совсем еще юный Евтушенко в компании неизвестных счастливчиков. Рядом с ним – совсем уж юная скуластенькая красотка с челочкой на лбу. Сидели те, чьи стихи залетали в калужские дали, о ком доносились отрывочные известия, слухи, сплетни. Сидели живые. Рядом. Можно было прикоснуться!..
– Послушай, – сказал Евтушенко кому-то из своих, – у меня четырнадцать тысяч… Давай сейчас махнем в Тбилиси, а?
«Че-тыр-над-цать ты-сяч! – поразился я. – Четырнадцать тысяч!»
Эта сумма казалась мне недосягаемой. «Четырнадцать тысяч!» – подумал я, трезвея.
Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать мне свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.
– Чего же ты, брат, не пьеф? – спросил он с усилием.
– Я пью, – пролепетал я, пытаясь осознать свалившееся на меня внезапно: как, должно быть, замечательно, имея четырнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть уже у моря, а после – в Тбилиси, а после – во Львов, к примеру, и снова в Москву, и ввалиться сюда, в дом на Воровского…
…Я шел по поздней Москве и повторял с ужасом и восхищением: «Четырнадцать тысяч!.. Четырнадцать тысяч!..»
Этот богач, этот волшебник Евтушенко, когда они познакомились (1957), чуть не сразу стал хлопотать о книжке Окуджавы, и она вышла, книжка «Острова».
«В 1962 году Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации – бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то “наверху вычеркнули” из списка. Мы единодушно, и Куняев в том числе, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно – он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось – это мы за границей первый раз, а он там – частый, слегка скучающий гость».
Под занавес 1961 года – 25 декабря партия идет в наступление: секретарь по идеологии ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев на всесоюзном совещании по идеологии произносит соответствующую речь. Академик АН СССР по Отделению экономических, философских и правовых наук (философия), партийный мыслитель выстраивает ряд основных приоритетов в государственной идеологии, как то: формирование научного, марксистско-ленинского мировоззрения, преодоление последствий культа личности в идеологии, воспитание трудящихся в духе коммунистической морали и борьба с пережитками в сознании людей, решительная борьба против влияния буржуазной идеологии. Советский народ с энтузиазмом выполняет предначертания партии, однако художественная интеллигенция, особенно ее молодой отряд, подвержена заразе капиталистической пропаганды.
Но пути нашей творческой молодежи не перекрыты намертво: вскоре тем же стотысячным тиражом в издательстве «Советский писатель» выходит «Нежность», девятая (!) книга Евтушенко, о которой много и хорошо пишут в 1962-м: Ст. Лесневский в «Известиях» от 3 октября, С. Чудаков в «Огоньке», № 44.
Эпистолярий Евтушенко разбросан и, кажется, не слишком велик. Прочтем одно из писем молодого поэта. К солидному редактору: В. А. Косолапову.
«HOTEL CURACAO
Intercontinental
plaza piar, Willemstad,
Curacao, Netherlands
Antilles
Tel. 12 500 cable address
inhotelcor Curacao
Дорогой Валерий Алексеевич!
Посылаю Вам новые стихи. Прошу к ним отнестись с нежностью – то есть напечатать.
Ежели они будут быстро напечатаны, и Вы сообщите мне об этом телеграммой, то я буду периодически Вам высылать новые стихи о Кубе, т. к. ясно представляю, что “Правда” будет еще долгое время перегружена послесъездовскими материалами.
Я не случайно посылаю эти стихи именно Вам, т. к. думаю, что опубликовать их было бы хорошо после всей глупой шумихи. Но – как говорил Сергей Александрович Есенин, “ Все пройдет, как с белых яблонь дым”. И как многократно подтверждает история, он был удивительно прав.
Теперь одна просьба. Если эти стихи Вы опубликуете и другие присылаемые мной стихи будете тоже публиковать, очень прошу каким-либо образом без задержки выплачивать гонорар моей жене Галине Семеновне Евтушенко. Ее телефоны И-19318 или В-74593.
А то, как я подозреваю, она без копейки денег. Я знаю, что Вы добрый, хороший человек и только поэтому обременяю Вас этой прозаической просьбой.
Итак, я жду Вашей телеграммы относительно этих стихов и будущих.
Крепко жму руку Вам и всем друзьям.
Привет также друзьям из газеты “Литература и жизнь” – кажется, так она называется.
Ваш, иногда без умысла подводящий Вас Евг. Евтушенко.
Мой адрес: CUBA HABANA
HOTEL HABANA LIBRE 1726».
Писано 31 января 1962 года.
В конце марта 1962 года Дмитрий Шостакович звонит Евтушенко. Жена Галя не верит телефонному голосу, представляющемуся композитором, и бросает трубку.
– Звонил какой-то странный кадр и представился Шостаковичем…
Шостакович перезванивает, поэт подходит к телефону. Шостакович просит разрешения написать музыку на «Бабий Яр», и тут оказывается, что «одна штука» уже готова. Евтушенко с женой приезжают к Шостаковичу домой. Он играет на рояле и поет «одну штуку» – вокально-симфоническую поэму «Бабий Яр».
«…пел он тоже гениально – голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу. Судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: “Ну как?”»
Затем начинается и идет работа над Тринадцатой симфонией: последовали другие части разрастающегося сочинения – «Юмор», «В магазине», «Страхи» и «Карьера», стихи того же автора. Вещь стала пятичастной.
Восьмого июня Шостакович пишет Евтушенко: «Все стихи прекрасны… Когда завершу 13 симфонию, буду кланяться Вам в ноги за то, что Вы помогли мне “отобразить” в музыке проблему совести…»
Восемнадцатого декабря 1962 года состоялась премьера в Московской консерватории, играл филармонический оркестр под управлением Кирилла Кондрашина, певец Виталий Громадский. Когда музыка замолкла, зал загремел овацией и встал.
«И вдруг он (Шостакович. – И. Ф.) ступил на самый край сцены и кому-то зааплодировал сам, а вот кому – я не мог сначала понять. Люди в первых рядах обернулись, тоже аплодируя. Обернулся и я, ища глазами того, кому эти аплодисменты были адресованы. Но меня кто-то тронул за плечо – это был директор Консерватории Марк Борисович Векслер, сияющий и одновременно сердитый: “Ну что же вы не идете на сцену?! Это же вас вызывают…” Хотите – верьте, хотите – нет, но, слушая симфонию, я почти забыл, что слова были мои – настолько меня захватила мощь оркестра и хора, да и действительно, главное в этой симфонии – конечно, музыка.
А когда я оказался на сцене рядом с гением и Шостакович взял мою руку в свою – сухую, горячую, – я все еще не мог осознать, что это реальность…»
Сохранились фотографии: то самое рукопожатие, а также снимок, где всю руку Шостаковича от локтевого сгиба вниз обняла рука Евтушенко.
Идеологический отдел ЦК КПСС внес предложение в Секретариат ЦК КПСС: «Ограничить исполнение 13-й симфонии Шостаковича». Ограничили.
В июле – августе 1962 года прошел Всемирный фестиваль молодежи в Хельсинки.
«Это были очаровательные и сумасшедшие дни, упоительно зараженные разрушительными микробами наивной веры в революционное всемирное братство, когда молодой, еще малоизвестный Жак Брель, ставший потом моим другом, пел на советском пароходе; когда попавший, кажется, впервые за границу Муслим Магомаев, обсыпанный юношескими прыщиками, в чьем-то одолженном концертном пиджаке с явно короткими рукавами, исполнял мою только что запевшуюся песню “Хотят ли русские войны?” в финской школе, превращенной в общежитие французской делегации; когда по улицам в обнимку ходили израильтяне и арабы; когда кубинцы и американцы хором вместе кричали “Куба – си, янки – си!”, а у меня была любовь с одной юной, очень левой калифорниечкой, как и я только что возвратившейся с Кубы в полном восторге.
Мы с ней были влюблены не только друг в друга, но за компанию и в Фиделя Кастро и могли общаться лишь на третьем языке – испанском. Это, впрочем, не помешало нам однажды ночью любить друг друга на траве какого-то незнакомого нам хельсинкского парка, а проснувшись утром, мы весело расхохотались, зажимая рты, потому что, оказывается, провели ночь прямехонько напротив очень важного дворца, где, как истуканы, застыли двое солдат. Меня поразило то, что у моей левой калифорниечки на черном чулке была обыкновенная дырка, в которую выглядывал розовый веселый глаз ее пятки, словно у какой-нибудь московской девчонки из Марьиной Рощи. <…>
Московской девушке-балерине, танцевавшей на открытой эстраде в парке, разбили колено бутылкой из-под кока-колы, а в ночь перед открытием фестиваля хулиганы подожгли русский клуб. От пристани, где мы жили на теплоходе “Грузия”, в пахнущую пожаром ночь то и дело уносились советские автомобили, набитые спортсменами и агентами КГБ.
Покидать борт теплохода было строжайше запрещено, однако мне удалось улизнуть. На берегу меня ждала моя калифорниечка, на сей раз заштопавшая дырку на своем чулке. И это меня тоже поразило, ибо я был тогда уверен в том, что американки чулки не штопают, а просто их выбрасывают.
…я впервые лицом к лицу столкнулся с политическим расизмом в действии, когда фашиствующие молодчики пытались разгромить советский клуб».
В результате разнообразных страстей появилось стихотворение «Сопливый фашизм», тотчас напечатанное в «Правде» и зарубежных изданиях и таким образом облетевшее весь глобус.
Кубинская болезнь Евтушенко переходит в звездную.
В родной «Юности» веселая Галка Галкина (Виктор Славкин) тиснула эпиграмму:
То бьют его статьею строгой,
То хвалят двести раз в году,
А он идет своей дорогой
И… бронзовеет на ходу.
К нему испытывают интерес в обеих Германиях. Весной в Кельне он познакомился с Генрихом Бёллем, и на память осталось фото, где будущий нобелевский лауреат (1972) держит зажженную спичку перед сигаретой прикуривающего Евтушенко. Бёлль симпатизирует России, прошел войну, много видел и не имеет шор при взгляде на СССР, ему близок Солженицын, и через 12 лет он будет первым европейцем, встретившим изгнанника в Европе, и поселит его у себя в имении в деревне Лангенбройх, расположенной на изумрудном холме неподалеку от Кельна.
Летом 1962 года в ГДР вышла первая зарубежная книжка Евтушенко: «Со мною вот что происходит», издательство «Фольк унд вельт» (Mit mir ist folgendes geschehen. Russisch/ Deutsch. Ubers.: Franz Leschnitzer. Berlin: Verlag Volk und Welt, 1962, 166 S).
В предисловии Франца Лешницера говорилось: «Одни считают его новым Маяковским, другие – фрондером, крикуном. В Москве дерутся за входные билеты на выступления Евтушенко… Когда Евгений Евтушенко читает свои стихи, самый большой зал бывает переполнен друзьями и противниками молодого лирика. Тогда идет такая борьба за сидячие места, что приходится нередко вмешиваться милиции. Давно уже его имя стало понятием и за пределами Советского Союза, его стихи переведены на многие языки. Настоящее издание включает избранное <…> этого неистового поэта советской молодежи».
Но он и там заварил кашу, хотя и не своими руками.
В газете «Нойес Дойчланд» появилась статья Гюнтера Кертишера «Святая простота, или Философия Евтушенко. Об идеологическом сосуществовании». На родине Маркса автор статьи следует установке, спущенной с самого верха, то есть из Москвы, где утверждали, что при просто мирном сосуществовании двух систем не может быть сосуществования идеологического. «По Евтушенко получается: на одной стороне находятся добрые люди всех государственных систем. Это не имеет ничего общего с марксизмом. Это, вероятно, можно назвать анархизмом».
Можно.
Можно сказать – можно всё. За рубежом на него смотрят как на облеченного некими государственными полномочиями посланца Кремля. Он и сам ощущает нарастание в себе сей державной воли.
«В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив ей все принадлежавшие ему картины, – лишь бы ему дали скромный домик в родном Витебске. Шагал передал мне свою монографию с таким автографом для Хрущева: “Дорогому Никите Сергеевичу с любовью к нему и нашей Родине”. (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку – вместо “к нему” стояло “к небу”.) Помощник Хрущева В. С. Лебедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел передать эту книгу Хрущеву. “Евреи, да еще летают…” – раздраженно прокомментировал он репродукцию, где двое влюбленных целовались, паря под потолком».
Двадцать девятого августа 1962 года в СССР приехал Роберт Фрост – по приглашению Хрущева: уровень приглашения соответствовал статусу восьмидесятивосьмилетнего поэта, увенчанного всеми литературными и государственными лаврами США, принимаемого в Белом доме. Мировые и советские СМИ обошел фотоснимок: американского патриарха подпирают с боков Твардовский и Евтушенко. Встреча на вокзале. Символизм по-советски: единение поколений. Кстати, три года назад (в 1959-м) доклад памяти Лермонтова в Колонном зале делал двадцатисемилетнийЕвтушенко.
Это интересно в свете фростовского самоистолкования: «Я не могу согласиться с теми, кто считает меня символистом, особенно таким, который занимается символизмом предумышленно…<…> Символизм вполне способен закупорить стих и уничтожить его. Символизм может быть так же опасен, как эмболия. Если нужно как-то окрестить мою поэзию, я предпочел бы называть ее эмблематизмом. Живая эмблема явлений – вот предмет моих поисков».
Фрост попросил о встрече с Ахматовой, ему пошли навстречу: классики пообщались 4 сентября. Ахматова вспоминала:
Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню заменила дача академика Алексеева. Не знаю уж, где достали такую скатерть, хрусталь. Меня причесали парадно, нарядили, все мои старались. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой американский славист. Привез меня заблаговременно. Там уже все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво прибудет – национальный поэт. И вот приходит старичок. Американский дедушка, но уже такой, знаете, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша. А я все думаю: «Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных “в стол”, во всех газетах и журналах тебя славят, в школах учат, президент как почетного гостя принимает. А на меня каких только собак не вешали! В какую грязь не втаптывали! Все было – и нищета, и тюремные очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи. И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы, если бы рассказать… Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит один. А может быть, и впрямь разница не так уж велика?»
Ахматова прочла ему «Последнюю розу» с эпиграфом из неизвестного поэта И. Б.: «Вы напишете о нас наискосок».








