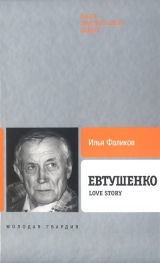
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 49 страниц)
ПУСТИТЕ К ЭСКИМОСАМ!
Председатель КГБ В. Семичастный становится летописцем-биографом Евтушенко. 15 января 1966 года он пишет «Записку» в ЦК КПСС под грифом «Секретно».
Комитет госбезопасности докладывает, что 12 января сего года были получены сигналы о готовившейся демонстрации политического характера на площади Маяковского в Москве в защиту поэта Евтушенко, который, по мнению автора, якобы сослан в армию на Кавказ за стихотворение «Письмо Есенину». В этих целях от имени Общества Защиты Передовой Русской Литературы (ОЗПРЛ) были изготовлены и приняты меры к распространению свыше 400 листовок с призывом принять участие в демонстрации с требованием возвращения Е. Евтушенко в Москву. Принятыми мерами установлено, что автором текста упомянутых листовок, призывавших по существу к массовым беспорядкам, является Титков Ю. Н., 1943 года рождения, член ВЛКСМ, студент Ветеринарной Академии в Москве. Листовки изготовлялись на квартире Шорникова А. В., 1947 года рождения, члена ВЛКСМ, рабочего типографии МГУ им. Ломоносова. При обыске на квартире у Шорникова 13 января обнаружены и изъяты: 418 листовок, пишущая машинка, на которой они печатались, и краски, похищенные Шорниковым в типографии МГУ и предназначенные для изготовления листовок аналогичного содержания; 26 плакатов на ватманской бумаге со строчками Евтушенко: «Еще будут баррикады, а пока что эшафот», «Россию Пушкина, Россию Герцена не втопчут в грязь», «В мире есть палачи и жертвы, но и есть еще третьи – борцы!», «Проклятье черной прессе и цензуре!» При обыске также изъят текст речи, подготовленный Титковым для произнесения на собрании нелегального кружка «Защита литературы». В этой речи, в частности, говорится о ссылке «великого поэта» (Евтушенко), упоминается о том, что нельзя «молчать и прощать самодурство румяных вождей, желающих мять души великих людей».
Текст листовки таков:
Товарищи! Все мы помним, каким нападкам всегда подвергалась современная литература: застрелился Фадеев, был подвергнут литературной казни В. Дудинцев, в нищете и безвестности умер Зощенко, в таком же положении оказался Пастернак, литературному гонению подвергался Аксенов.
Такая же участь постигла и Евтушенко. За смелое прекрасное стихотворение он, как Лермонтов, выслан в армию, на Кавказ со Дня Поэзии и других больших событий ближайшего времени.
Товарищи! Правда, с таким трудом нашедшая себе прибежище, вновь изгоняется из нас. Литература в опасности! Молчать больше нельзя! Выразим свое возмущение и потребуем возвращения Евтушенко в Москву. Сбор – 16 января в 12 часов на площади Маяковского, у памятника. Просьба не делать резких и необоснованных выпадов и нарушений и считать таковые провокационными.
ОЗПРЛ. Прочти и передай другому!
Конечно же все это наивно и отдает фарсом, и ребята предлимоновского запала явно не владеют слогом той литературы, во имя которой готовы взойти на эшафот. Тем более что сам Евтушенко давно сидит в Москве, склонясь над рабочим столом.
Написалось стихотворение «Эстрада».
Проклятие мое,
души моей растрата —
эстрада.
Я молод был,
хотел на пьедестал,
хотел аплодисментов и букетов,
когда я вышел
и неловко встал
на тальке,
что остался от балеток.
Мне было еще нечего сказать,
а были только звон внутри и горло,
но что-то сквозь меня такое перло,
что невозможно сценою сковать.
И голосом ломавшимся моим
ломавшееся время закричало,
и время было мной,
и я был им,
и что за важность:
кто был кем сначала.
И на эстрадной огненной черте
вошла в меня невысказанность залов,
как будто бы невысказанность зарев,
которые таятся в темноте.
Эстрадный жанр перерастал в призыв,
и оказалась чем-то третьим слава.
Как в Библии,
вначале было Слово,
ну а потом —
сокрытый в слове взрыв.
Какой я Северянин,
дураки!
Слабы, конечно, были мои кости,
но на лице моем сквозь желваки
прорезывался грозно Маяковский.
И, золотая вся от удальства,
дыша пшеничной ширью полевою,
Есенина шальная голова
всходила над моею головою.
Учителя,
я вас не посрамил,
и вам я тайно все букеты отдал.
Нам вместе аплодировал весь мир:
Париж, и Гамбург,
и Мельбурн, и Лондон.
Но что со мной ты сделала —
ты рада,
эстрада?
Мой стих не распустился,
не размяк,
но стал грубей и темой,
и отделкой.
Эстрада,
ты давала мне размах
и отбирала таинство оттенков.
Я слишком от натуги багровел.
В плакаты влез
при хитрой отговорке,
что из большого зала акварель
не разглядишь —
особенно с галерки.
Я верить стал не в тишину —
в раскат,
но так собою можно пробросаться.
Я научился вмазывать,
врезать,
но разучился тихо прикасаться.
И было кое-что еще страшней:
когда в пальтишки публика влезала,
разбросанный по тысячам людей,
сам от себя я уходил из зала.
А мой двойник,
от пота весь рябой,
стоял в гримерной,
конченый волшебник,
тысячелик от лиц, в него вошедших,
и переставший быть самим собой.
За что такая страшная награда,
эстрада?
«Прощай, эстрада…» —
хрипло прошепчу,
хотя забыл я, что такое шепот.
Уйду от шума в шелесты и шорох,
прижмусь березке к слабому плечу.
Но, помощи потребовав моей,
как требует предгрозье взрыва,
взлома,
невысказанность далей и полей
подступит к горлу,
сплавливаясь в слово.
Униженность и мертвых и живых
на свете,
что еще далек до рая,
потребует,
из связок горловых
мой воспаленный голос выдирая.
Я вас к другим поэтам не ревную.
Не надо ничего —
я все отдам:
и славу,
да и голову шальную,
лишь только б лучше в жизни было вам.
Конечно, будет ясно для потомков,
что я – увы! – совсем не идеал,
а все-таки —
пусть грубо или тонко —
но чувства добрые
я лирой пробуждал.
И прохриплю,
когда иссякших сил,
наверно, и для шепота не будет:
«Простите,
я уж был, какой я был,
а так ли жил —
пусть бог меня рассудит».
И я сойду во мглу с тебя без страха,
эстрада…
Вещь этапная, голос не мальчика, но мужа. Помимо четкого самосознания и всегдашнего чутья здесь даже просматривается космогоническая интуиция Большого взрыва в увязке с собственным пониманием Слова. Впрочем, наречие «вначале» выдает иночтение библейского «в начале». «Бог» осознается и пишется со строчной. Но торжественность тона и надрыв, сочетаясь, дают поразительный эффект. Автору можно поверить. Сойдет со сцены. Но он – обманет. Он все равно прикован к этой тачке. До конца.
В сентябре прошлого, 1965 года вышел «синий» Пастернак – однотомник синего цвета в большой серии Библиотеки поэта, и одновременно с выходом долгожданной книги был арестован автор предисловия к ней Андрей Синявский. Взяли и Юрия Даниэля. Их сочинения, нелегально уходя за кордон, публиковались на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. На советско-юридическом языке это называлось «антисоветская агитация и пропаганда».
К началу процесса над ними Евтушенко только и знал, что эту статью-предисловие да некоторые переводы Даниэля. Суд был открытым, проверенным людям выдавались дефицитные контрамарки, Евтушенко непросто добыл таковую в писательском парткоме, попал на второе заседание, с некоторым опозданием, и как только уселся – в ряду, близком к судье, тот тут же, глядя почему-то в лицо поэта, стал говорить о том, что подсудимый Синявский незаслуженно обидел Евтушенко, поэта уважаемого, выступив против него в своей последней статье, вынутой в дни ареста из верстки «Нового мира». Синявский, глядя в то же лицо, опроверг судью: против поэта он ничего не имеет, за исключением некоторых частностей. Лицо поэта было белым. Даниэль в предсмертном интервью, через много лет, сказал: «Помню отчаянное лицо Евтушенко…»
Евтушенко еще до суда, уже предвосхищаемого в обществе, пошел к секретарю ЦК П. Демичеву, который развел руками: он тоже не хотел бы этого процесса и обращался на сей счет к Брежневу, и Брежнев разговаривал с Фединым, первым секретарем Союза писателей СССР: не возьмете ли, писатели, это дело на себя? Федин отшатнулся, замахал руками: это – предательство государства, уголовщина, пускай разбирается с изменниками Родины само государство. Были всяческие письма в поддержку подсудимых, и одно из писем подписал Евтушенко. Аксенов впоследствии рассказывал, что письмо это он предложил подписать нескольким коллегам, близким по взглядам, и все подписывали без уговоров, один только Евтушенко поначалу заартачился. Дело было в том, что письмо это задумывалось послать во Францию, Луи Арагону, литератору именитому и члену Французской компартии, авторитетному для советских руководителей. Но Евтушенко сказал, что Арагон уже обращался в Кремль и получил от ворот поворот. Резоннее было адресоваться прямиком к нашему руководству без какого-либо посредничества. Кое-что поправив в тексте эпистолы, он поставил свою подпись. Ответа не было никакого, если не считать того, что Синявскому и Даниэлю в феврале 1966-го дали нешуточные срока: Синявскому – семь, Даниэлю – пять лет заключения в лагере строгого режима.
В тринадцатую годовщину смерти Сталина умирает Ахматова.
Однажды в гостях у вдовы Маркиша Евтушенко неловко повел себя с одной из седых женщин в черном. Это было одной из мук совести, о которых он написал в стихотворении, посвященном Шостаковичу.
В «Памяти Ахматовой» взгляд его будет «двуединым»:
Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
не верилось, когда ее не стало.
……………………………………
Ну а в другом гробу, невдалеке,
как будто рядом с Библией частушка,
лежала в белом простеньком платке
ахматовского возраста старушка.
……………………………………
Никто о той старушке не скорбел.
Никто ее в бессмертие не прочил,
и был над нею отстраненно бел
Ахматовой патрицианский профиль.
В том марте Евтушенко улетел на самый загадочный материк в мире, в Австралию, где проходил фестиваль искусств. И с кем он туда прилетел? С Софроновым Анатолием. Эти отношения были, условно говоря, пилотной моделью множества подобных им: ничего окончательно враждебного, возможны варианты. Беспринципно? А хоть бы и так. Зовите это как хотите. Большой источник недовольства жены Гали. Она была кремень.
В прошлом, 1965 году старые оппоненты уже навели мосты меж собой, и Софронов напечатал в «Огоньке» евтушенковские переводы стихов австралийского поэта Джеффри Даттона. В 1966-м Евтушенко дал в Мельбурне, Аделаиде и Сиднее несколько авторских концертов.
В Сиднее он собрал зал на 12 тысяч человек – тот зал, где до того произошел практически провал битлов: на их концерт пришла пара тысяч зрителей.
В газете Australianот 26 марта критик Роберт Бриссенден писал:
Поэты, которых он напоминает мне, – это Водсворт, Байрон и Уитмен, но Уитмен с сатирическим лезвием. Евтушенко разделяет с Уитменом его способность отождествлять себя со всеми другими существами. Это дает ему такую горькую силу, как в «Картинке детства», где так пронзительна память о толпе, забивающей насмерть человека, как в «Балладе о нерпах».
В апреле разразилось катастрофическое землетрясение в Ташкенте, туда в тот же день вылетели Брежнев и Косыгин, древний город был разрушен, Вознесенский отозвался репортажем «Помогите Ташкенту!», не то чтобы закрыв тему, но упредив необходимость в срочной реакции на то же самое.
Но планетарный марафон Евтушенко продолжается, в мае он уже смотрит на Испанию. «Над севильским кафедральным собором, где – по испанской версии – покоились кости адмирала (Колумба. – И. Ф.), реял привязанный к шпилю огромный воздушный шар, на котором было написано: “Вива генералиссимус Франко – Колумб демократии!” Над головами многотысячной толпы, встречавшей генералиссимуса, прибывшего в Севилью на открытие фиесты 1966 года, реяли обескуражившие меня лозунги: “Да здравствует 1 Мая – день международной солидарности трудящихся!”, “ Прочь руки британских империалистов от исконной испанской территории – Гибралтара!”, и на ожидавшуюся мной антиправительственность демонстрации не было и намека. <…> На просьбе министра информации и туризма Испании разрешить мне выступать со стихами в Мадриде Франко осмотрительно написал круглым школьным почерком: “Надо подумать”. Поверх стояла резолюция министра внутренних дел: “Только через мой труп”. Выступление не состоялось, но генералиссимуса как будто не в чем обвинить».Стихов о том посещении Испании, написанных на месте, в Испании, не осталось, что для Евтушенко более чем странно. Но Евтушенко ничего не сказал в стихах и о другом своем впечатлении: «В 1966 году я был в Бейруте… Меня вместе с другими иностранцами возили на туристском автобусе посмотреть на палестинское гетто, состоящее из глинобитных домиков, где воздух кишел микробами и где угрюмый блеск голода светился в глазах женщин и детишек. А напротив гетто, через дорогу, стоял мраморный шикарный туалет для туристов, которым показывали этих несчастных людей, вместо того чтобы им помочь». Зато в Гонолулу и в Сенегале (он и туда заглянул) были рождены пространные стихи, органичные для чтения со сцены.
В любом случае он ощущал себя связующим звеном культур, людей, идей, социально-политических систем. Книга, вышедшая у него в том году, называлась «Катер связи».
В нашей книге можно усмотреть дифирамбический уклон, и в некоторых головах может возникнуть вопрос: а не много ли мы цитируем похвал (равно как и брани) по адресу нашего героя? А что, история славы– пустяк? Ее развитие, ее кривая, резкие взлеты и обрушения, условия ее зарождения и сохранения – тема капитальная и может существовать отдельно. Но в нашем случае слава персонифицирована: Евтушенко есть слава.
Говорят, артист полжизни работает на имя, а потом имя работает на него. Так-то оно так, да не только так или не совсем так. Имя имеет свойство существовать отдельно от имяносца, а порой и работать против него. По крайней мере, имя может повлиять не только на жизнь артиста, но и на характер его творчества. Мало того что публичный человек не может утаить глубоко личных своих дел, он – волею имени – демонстрирует их миру, придавая истинной боли свойства, присущие лишь художеству, лишь сцене, лишь печатной странице.
После «Эстрады» Евтушенко действительно выбрал тон доверительности без расчета на немедленное возвратное эхо: «Муки совести», «Женщина расчесывала косу…», «Старухи», «Мы быть молодыми вовсю норовим…», «Меняю славу на бесславье…» и наконец «Памяти Ахматовой». Однако к середине 1966 года появились вещи – в том же, интимном, тоне, но – с повышением ноты, с некоторым пафосом, и вызвано это было, как это ни парадоксально, глубочайше сокровенными причинами. В отношениях с Галей нарастал кризис. Его сумасшедшая жизнь, а может статься, жизнь его безумного имени не оставляла шанса для ровных связей двух сердец.
Быт его заметно благоустраивался, и Евтушенко был вовсе не против прочных знаков уюта и некоторых эффектов интерьера, тем более что он сам привозил из поездок экзотические сувениры и не был равнодушен ко всяким там штучкам и вещичкам. На его рабочем столе рядом с пишмашинкой стоял плюшевый кенгуренок. Он лишь в 1969-м переберется в элитную высотку на Котельнической набережной, куда ему на новоселье авантажный Бернес принесет голубой унитаз.
В июне 1966-го у него гостил Бродский, приехав в обществе Аксенова. Это было неспроста: Аксенов полюбил стихи Бродского и его самого. Случайным соглядатаем знаменательного события был молодой Виктор Ерофеев:
…неслыханный джин с тоником потек в четыре горла… Евтушенко открыл ящик письменного стола… там валялись невиданные зеленые деньги… курили только Winston… тут Бродский вставил, что ему в деревенскую ссылку слали Kent… ящиками… он обклеил Kent’ом стены… это тоже произвело впечатление… хотелось быть тоже сосланным в ссылку… под утро для меня нашлась работа… с грехом пополам я переводил им лестные американские статьи о них же самих из толстого профферского три-квотерногожурнала… некоторые лестные эпитеты я на ходу придумывал сам, из чистого умиления… меня удивило, как плохо все трое знали английский…
В общем, хорошо посидели, и было это с вечера всю ночь до самого утра. Кто бы знал, что через 15 лет аксеновский роман «Ожог» будет встречен, уже в Америке, убийственной внутрииздательской рецензией Бродского?
Но мы говорили об имени. О том, что оно – влияет. Разлад между Евгением и Галей был виден и со стороны. Надо оговориться: мы прибегаем к имени Галяне из фамильярности: Галя в поэзии Евтушенко – имя, которое больше, чем имя. «До свидания, Галя и Миша», «До свидания, Галя!», «Я ехал по России вместе с Галей», посвящения «Гале». Это – знак. Но она была живой человек, и человек непростой. Его измены были частью его имени, и оно разбухало еще и от этого.
Все вело к стихам, которые не могли быть сугубым фактом взаимоотношений двух сердец. Евтушенко со сцены оповестил не столько Галю, живую или литературную, сколько свою бесчисленную аудиторию, и, кстати говоря, при желании эти стихи можно было истолковывать как разбирательство с читателем:
Я разлюбил тебя… Банальная развязка.
Банальная, как жизнь, банальная, как смерть!
Я оборву струну жестокого романса,
гитару пополам – к чему ломать комедь!
(«Я разлюбил тебя… Банальная развязка…»)
Десять лет прошло с его «Глубокого снега», ровно десять лет, а евтушенковский романс никуда не уходит и только ужесточается.
Нет, это сказано не в разговоре тет-а-тет:
Тебя я крестом
осеню в твои беды
и лягу мостом
через все твои бездны.
(«Любимая, больно…»)
Высокопарность чуть не ахмадулинская. Но для евтушенковской лирики – давняя, традиционная. Он ведь с младых ногтей исповедуется перед миллионами. Имя растет, имидж укрупняется, метафора обретает планетарный масштаб. Однако же заметим, что этот подход к решению сокровенной тематики вменен ему не только лишь гигантизмом Маяковского. Пастернак – да, самый не эстрадный поэт века, столь у него долгого, – в молодости, словно идя по следам обожаемого им Маяковского, восклицает:
Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Евтушенко неоднократно отмечал пастернаковский артистизм, даже некоторое кокетство, причем по большей части – в поведенческой повседневности.
Он остро чувствует новый возраст. Тридцать три, фактически полных, не фунт изюма. К этому числу он, невер, относится сакрально. Было стихотворение «Я старше себя на твои тридцать три…» (1961), кончающееся патетически:
И чтобы убить меня, нужно две пули:
Две жизни во мне – и моя, и твоя.
Критик Сарнов прочел мораль (Вопросы литературы. 1962. № 10):
И сразу хочется оборвать, как обрывал Станиславский актера, почувствовав фальшь и наигрыш: «Не верю!» – Не верю потому, что если ты на самом деле чувствуешь, что в тебе совместились две жизни, ты скажешь: достаточно одной пули, чтоб убить нас обоих.
Критик Сарнов, патетику перепутав с арифметикой, по существу предложил поэту в целях правильного счета поменять мозги да и сами глазные яблоки, то есть зрение: нужна-де одна пуля на двоих. Как будто речь не о внутреннем мире (две жизни во мне), а о ти́ре. Натура Евтушенко выстроена на умножении, а не на вычитании.
Новое прощание – с молодостью: его «А снег повалится, повалится…» вслед за Клавдией Шульженко запоет народ, и это не совсем эстрада, это напевается наедине с собой. Зато читается всенародно – вся интимная лирика напечатана в многотиражном «Огоньке».
У Евтушенко было отчаянное лицо, когда начались новые проблемы. Его ждали в Америке на концерты и встречи, однако с визой соответствующие органы заволокитили, В. Семичастный совершенно логично утверждал, что недопустимо одних судить, а других отправлять на зарубежные гастроли – фигуранты-то одни и те же.
Решение было, однако, положительным, и уже в ноябре Евтушенко зван к сенатору Роберту Кеннеди, принявшему его в своей нью-йоркской штаб-квартире. Младший брат убитого президента, как две капли воды похожий на старшего, в свои 40 лет был старожилом американской политики, и ему можно было верить, когда в многочасовом общении он привел гостя в ванную комнату, включил шумный душ на предмет прослушки и сообщил под большим секретом, что псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты КГБ коллегами из ЦРУ для того, чтобы американская общественность перекинула свое гражданское негодование с американских бомбежек во Вьетнаме на преследование Советами инакомыслящих. Кроме того, это была якобы интрига КГБ против «мягкого» Брежнева, которого США хотели бы сохранить.
Евтушенко поинтересовался, может ли он эту информацию довести до сведения советского правительства. Да, разумеется. Без упоминания имени источника. Евтушенко отнес новость одному из сотрудников советского посольства, прозванному им Б. Д. (Благородный Дипломат). Условились так, что поэт сочинит телеграмму-шифровку (Штирлиц бессмертен), и она пойдет куда надо. Без упоминания имени, конечно же.
Внезапно дохнуло шпионским кино, но – на самом деле, в грубой реальности. Назавтра рано поутру Евтушенко из своего номера был вызван телефонным звонком в вестибюль отеля, сказал взволновавшейся Гале, что если он не вернется и не позвонит до часу дня, то пусть она созывает пресс-конференцию, а в вестибюле был подхвачен с боков двумя молодыми одноликими парнями и на машине доставлен в нашу миссию, в некую пустую комнату, где ему показали класс допроса по-голливудски. Один сидел на столе близко напротив, другой дышал в затылок. Требовали имя источника. По какому-то промаху со стороны этих парней – они куда-то вышли, а поэт сумел удрать – дело не выгорело. Евтушенко опять оказался наедине с Б. Д. и получил спокойный совет срочно связаться со своим американским другом Альбертом Тоддом, университетским профессором, и скрыться с глаз любых соотечественников как можно подальше и подольше.
Они познакомились еще в 1960-м, в Гарварде, где Альберт был аспирантом и устроил первую встречу русского поэта с американской публикой, в университетской аудитории, – Евтушенко читал, естественно, по-русски, перед ним сидели не больше двадцати человек, и раскрепостившийся поэт заявил, что он желал бы более крупной площадки, например Медисон-сквер-гарден. Альберт Тодд, величавый красавец, похожий на великого Гэтсби, уверенно пообещал это дело организовать, и поэт ему сразу поверил. Вскоре Альберт приехал в Москву и привез контракт с 28 колледжами США на 1964 год. Евтушенко познакомил его с Аксеновым, Окуджавой, Вознесенским и Ахмадулиной, первую книгу которой в переводе на английский вскоре блестяще исполнил Тодд. Но произошли «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Автобиография», шум и ярость 1963-го, иностранный паспорт поэту не был выдан, но был дан совет телеграфировать в Штаты о своей болезни. Тодд тогда позвонил:
– Женя, не расстраивайся, все равно ты будешь выступать в Медисон-сквер-гарден.
В 1966-м все те 28 колледжей были охвачены. Правда, в Квинс Колледже во время церемонии вручения «Honoris causa» первую профессорскую мантию поэта неуравновешенные сопляки разорвали в клочки. В Карнеги-холле чтение Евтушенко сопровождалось метанием stinking bombs(химические шашки). Незадолго до того в Нью-Йорке был взорван офис Сола Юрока, устроителя гастролей советских музыкантов и артистов.
Альберт Тодд чувствовал русский стих: на выступлениях Евтушенко он параллельно читал его стихи по-английски, и оказалось, что делает он это лучше, чем потом задействованные на евтушенковских концертах профессионалы с великолепными именами – Роберт Де Ниро, Энтони Хопкинс и даже Ванесса Редгрейв.
Западных красавиц русский певец женской красоты не мог оставить без внимания. Посетил Жаклин Кеннеди, вдову президента, в ее нью-йоркской квартире и былпокорен не столько легендарной внешностью, сколько ее простотой в обхождении и в быту вообще: сунул свой буратинский нос в открытую дверь ванной комнаты и, заметив на отопительной батарее сушившиеся чулки, с варварской непосредственностью заговорил на чулочную тему – мол, неужели сами стираете? А что же, выбрасывать их в мусоропровод, что ли? Недавняя первая леди оказалась еще непосредственнее. А на прощанье, уже сама нарушив этикет и ориентируясь на происхождение и профессию гостя, призналась, что в те роковые минуты далласской трагедии ощутила себя в положении Анны Карениной на гибельном перроне.
По совету Б. Д. улизнув из американского Большого Яблока, друзья махнули действительно далеко – на Аляску и в Гонолулу. Их турне затянулось на месяц.
Удивительно схожи климат, флора и фауна Чукотки и Аляски. В Пойнт-Хопе Евтушенко посещает и́глу (юрта) одинокой старухи-эскимоски. Там горит свеча, вставленная в пустую бутылку с ресторанным штампиком «Петропавловск-Камчатский» на этикетке. В Фербанксе он встречается с местными университетскими поэтами. В те времена жители Фербанкса могли попасть в бухту Провидения, до которой 20 минут лёта, – лишь через Нью-Йорк и Москву, затратив 30 часов на перелет. (Солженицын вернулся в Россию через Аляску.)
На Аляске Евтушенко и Тодд арендовали на пару дней частный самолет у бывшего военного летчика, который во время войны экскортировал транспорты с продовольствием к Мурманску. Однажды над Беринговым проливом пожилой пилот расчувствовался:
– Слушай, Юджин, я так соскучился по вашим русским парням. Мы с ними в Мурманске водку пили цистернами. Давай слетаем в гости к вашим пограничникам, на пару часиков…
Он не шутил.
Корреспондент АПН Генрих Боровик сообщал:
…число желающих попасть на вечер советского поэта было беспрецедентным за всю 30-летнюю историю центра (Поэтический Центр Нью-Йорка). У входа в здание постоянно висел плакат: «Нет билетов на Евтушенко»… Советского гостя представляли крупнейшие американские писатели и поэты Артур Миллер, Роберт Лоуэлл, Джон Апдайк. На первом выступлении присутствовал Джон Стейнбек. Мэри Хемингуэй, вдова замечательного американского писателя, специально ездившая в Принстон, чтобы послушать советского поэта, в беседе с вашим корреспондентом высоко оценила мастерство, искренность и гражданственность поэзии Евгения Евтушенко… Его принимали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций У Тан, а также сенатор Роберт Кеннеди – брат покойного президента США.
А на том приеме у Роберта Кеннеди помимо получения поэтом эксклюзивной информации произошел эпизод, ставший потом чуть не легендой. По крайней мере сам Евтушенко придал тусовочно-светской сцене, в общем-то действительно не рядовой, вполне художественный характер, не раз о нем вспоминая, в частности – в будущей поэме «Под кожей статуи Свободы» (1968):
«У сенатора Роберта Кеннеди были странные глаза.
Они всегда были напряжены.
Голубыми лезвиями они пронизывали собеседника насквозь, как будто за его спиной мог скрываться кто-то опасный.
Они обитали на лице как два не причастных к общему веселью существа.
Внутри глаз шла изнурительная скрытая работа.
– Запомните мои слова – этот человек будет президентом Соединенных Штатов, – сказал, наклоняясь ко мне, Аверелл Гарриман (влиятельный американский дипломат. – И. Ф.). <…>
Когда праздник уже захлебывался сам в себе, мы стояли с Робертом Кеннеди одни в коридоре. У нас в руках были старинные хрустальные бокалы, в которых плясали зеленые искорки шампанского.
– Скажите, а вам действительно хочется стать президентом? – спросил я. – По-моему, это довольно неблагодарная должность.
– Я знаю, – усмехнулся он. Потом посерьезнел. – Но я хотел бы продолжить дело брата.
– Тогда давайте выпьем за это, – сказал я. – Но чтобы это исполнилось, по старому русскому обычаю: бокалы до дна, а потом об пол…
Роберт Кеннеди неожиданно смутился, взглянув на бокалы.
– Хорошо, только я должен спросить разрешения у Этель. Это фамильные, из ее приданого…
Он исчез с хрустальными бокалами, а затем появился, еще более смущенный: “Жены есть жены… Я взял на кухне другие бокалы, какие попались…”
Меня несколько удивило, как можно думать о каких-то бокалах, когда произносится такой тост, но, действительно, жены есть жены.
Мы выпили и одновременно швырнули опустошенные бокалы. Но они не разбились, а мягко стукнувшись, покатились по красному ворсистому ковру.
Работа в глазах сенатора прекратилась. Они застыли, уставившись на неразбившиеся бокалы.
Роберт Кеннеди поднял один из них и постучал пальцем по стеклу. Звук получился глухой, невнятный.
Бокалы были из прозрачного пластика».
А стихи американского цикла верны – эстраде, той самой, с которой он так широковещательно хотел расстаться в начале года. Золотую груду метафор поэт высыпал в подарок Альберту Тодду, посвятив ему «Балладу о самородках». Намечалась некоторая инерция стиля. Аудитория требовала именно этого – яркости и хлесткости прозрачного обличительства («Кладбище китов»):
Эх, эскимос-горбун, —
у белых свой обычай:
сперва всадив гарпун,
поплакать над добычей.
Скорбят смиренней дев,
сосут в слезах пилюли
убийцы, креп надев,
в почетном карауле.
И промысловики,
которым здесь не место,
несут китам венки
от Главгарпунотреста.
Но скручены цветы
стальным гарпунным тросом.
Довольно доброты!
Пустите к эскимосам!
Однако, сказав о признаках инерции, с другой стороны, надо отметить редкостную цельность Евтушенко как художника. Испытывая град обвинений в расхристанности и непоследовательности, Евтушенко твердо держался первоначальных принципов и намерений. Исповедь в разных регистрах.
В 1966-м вся страна по-восточному пышно отмечает 800-летие Шота Руставели. Евтушенко любит Грузию, дружит с ее поэтами, называет ее второй родиной русской поэзии, много переводит, и его переложение «Завещания Автандила царю Ростевану» из «Витязя в тигровой шкуре» было естественным движением души. Это – личное высказывание:








