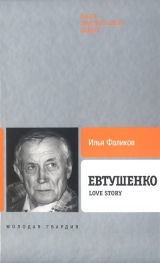
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц)
«У Вознесенского есть такая метафора, в какой-то степени правильная, хоть и не абсолютно точная. Он говорил, что шестидесятники похожи на совершенно разных людей, которые шли разными дорогами, и вот их схватили разбойники и привязали одними и теми же веревками к одному и тому же дереву.
Может быть, в моем случае с Вознесенским это правда. Но у нас с Робертом (Рождественским. – И. Ф.) не так. Я не думаю, что мы шли очень уж разными дорогами. Во-первых, у нас были одни и те же любимые поэты. В Литинституте была такая “проверка на вшивость”: знание чужих стихов. Мы проверяли таким образом друг друга. И с Робертом мы подружились сразу. Абсолютно. На стихах. Я помню точно: это стихи Корнилова “Качка в море берет начало”. Роберт его знал наизусть. И я его знал наизусть. В то время это было как обмен паролями. Как будто в лагере встретились два специалиста по санскриту. Корнилов ведь был тогда запрещен, изъят… Это был пароль наш – любовь к поэзии.
И вообще, мы посвящали огромную часть нашего общения разговору о стихах. Мы делились друг с другом нашей любовью к стихам и часто очень соглашались друг с другом. <…> Я ж был еще очень молодой тогда, 19 лет, вышибленный из школы мальчишка, у меня аттестата зрелости не было. И как раз тогда, в Литературном институте, у меня был период самовлюбленности. Но меня быстро от этого излечили. Может быть, это и не заметно до сих пор, но, действительно, я от этого излечился.
И тогда в институте <…> мы дружили, но были беспощадны друг к другу. Мы не занимались раздариванием комплиментов. Подразумевалось, что мы друзья, что мы любим наше общее дело, и это означает, что мы можем говорить друг другу очень резкие слова. Сейчас это почти не принято. И каждый из нас был очень жестким критиком, и никогда не было взаимных обид. Это была наша привычная среда обитания. Здоровый воздух. Я начал писать свои серьезные, самые лучшие стихи в то время. Это было сталинское время, но тогда и было мое настоящее начало, благодаря литературной среде <…> мы вместе развивались, очень часто выступали вместе, зарабатывали какие-то баснословно маленькие деньги, но нам было просто приятно ездить друг с другом. Мы никогда не пьянствовали, но умели долго сидеть за столами с одной-двумя бутылками вина. Спорили, говорили… <…> В нашей среде алкоголиков не было, кроме бедного Володи Морозова, – он сошел с круга…»
Владимир Морозов.
Учились и жили бок о бок, вели себя без оглядки, порой вне рамок и правил, – Володю погнали с третьего курса «за недостойное поведение», проще говоря – за пьянство, он перевелся на заочное отделение, загремел в армию, откуда вернулся не в Москву, а в свой Петрозаводск, а там – те же страсти и те же привычки, усугубленные отрывом от столицы, к которой успел привязаться и где уже печатался и даже выпустил книжку – «Стихи».
Морозов покончил с собой 11 февраля 1959-го, двадцати шести лет от роду. Остались стихи. «Лисица»:
Из кустарника вышла,
от лютого холода зла.
Вскинув острую мордочку,
жадно понюхала воздух…
Красноватою змейкой
по льду к полынье поползла…
Было небо над ней
в посиневших от холода звездах.
…………………………
По-собачьи присела
и, лапкой слегка почесав
Белый клинышек шеи,
на детский нагрудник похожий,
Замерла в ожиданьи:
в каких-нибудь четверть часа
Зарастет полынья
ледяною добротною кожей.
…………………………
А мороз, наступая,
над ней запаял полынью,
Ветер снегом засыпал…
Как холодно, пусто и немо!..
И лиса, пробираясь
в лесную чащобу свою,
По-собачьи облаяла
звезды далекого неба.
Евтушенко, нынешний почетный гражданин Петрозаводска, написал о забубенном друге стихи – «Посвящение Владимиру Морозову»:
Как я помню Володю Морозова?
Как амура,
кудрявого,
розового,
с голубой алкоголинкой глаз.
Он кудрями,
как стружками,
тряс.
Сам себя доконал он,
угробил,
и о нем не тоскует Москва,
– разве только Марат, или Роберт,
или мать,
если только жива.
……………………………
Мне на кладбище в Петрозаводске,
где Володя, —
никто не сказал.
Думал —
может, он сам отзовется.
Ну а он промолчал.
Наказал.
Роберт Рождественский – тоже из Петрозаводска. Алла Киреева хорошо помнит и говорит о том, что́ было тогда:
С Робертом мы познакомились в Литинституте, где было 120 юношей и пять-шесть девочек, так что на каждую приходилось достаточно кавалеров. Ребята были самые разные, в том числе и очень смешные. Были среди них и абсолютно неграмотные: учиться «на писателя» их посылали потому, что республике выделяли в институте сколько-то мест. Но конкурс, тем не менее, был огромный. Уже на следующий год после прихода в Литинститут я работала в приемной комиссии: принимали Юнну Мориц, Беллу Ахмадулину…
Жизнь в Литинституте кипела. На лестнице читали друг другу стихи, тут же оценивали все тем же: «Старик, ты гений». Особенно выделялся Евтушенко – он носил длиннющие сумасшедших расцветок галстуки. Они болтались у него между колен. Замечательный – уже тогда – поэт Володя Соколов привлекал своим удивительно интеллигентным обликом, чувством собственного достоинства, доброжелательностью. <…> Роберт дружил с Женей Евтушенко. Отношения у них выстраивались очень ревнивые. Они как петухи были, им хотелось показать себя друг перед другом. Однажды Роба послал Жене новую книжку, написанную после двухмесячной командировки на Северный полюс. Е. А. ответил ему ужасным письмом (сейчас его смешно читать): ты ударник при джазе ЦК комсомола; ты не умеешь писать; такое ощущение, что ты не читал ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова, ни Гоголя. В доме был траур – слово Жени много значило для нас. Пришел Назым Хикмет (мы с ним дружили). Я ему говорю: Назым, вот такая вещь… Посмотри это письмо. Как Робку вытащить из депрессии? Прочитала ему письмо. Он говорит: это нормально, просто Женя хочет внушить ему творческую импотенцию. Назым, он называл Роберта братом, поговорил с ним, тот немножко попил, обошелся и стал писать дальше.
После этого у них с Женей некоторое время были напряженные отношения, но их всегда тянуло друг к другу.
Евтушенко сделал много хорошего. И для поэзии, и для многих людей – не говоря уж о том, сколько он сделал для нашей семьи после ухода Роберта. Он замечательно писал о нем. Поехал с нами – со мной, дочерью и двумя внуками – в Петрозаводск открывать мемориальную доску на доме, где жил Роберт. В цикле передач «Поэт в России больше, чем поэт» сделал программу о поэте Рождественском, которую невозможно смотреть без слез.
Недавно он позвонил из Америки:
– Я посмотрел передачу о Робке, очень плакал и решил позвонить…
А бои местного – литинститутского – значения постепенно утихли, вернее – стали глуше, уйдя в подпочву на фоне приближающегося звука громких шестидесятых. У Евтушенко вышла в том же 1957-м книжка «Обещание», ее восприняли по-разному, но в основном так, как написал в «Литературной газете» от 8 апреля 1958 года Владимир Солоухин в статье «Без четких позиций». Солоухин цитирует «Все на свете я смею, / усмехаюсь врагу…», комментируя от себя (ничего подобного в стихотворении Евтушенко нет):
Подумаешь, подвиг, усмехнуться в лицо сидящему против тебя в писательском ресторане человеку, ругающему твои стихи и по одному тому причисленному к стану врагов! <…> А какое до этого дело забойщику из Донбасса, строителю Куйбышевской ГЭС, создателям спутника Земли и крестьянину Кузьме Бакланихину из нашей деревни?
Цитируя «Пролог», Солоухин настаивает на необходимости четких коммунистических позиций в духе Маяковского (о заграничных вояжах, пока еще розовых мечтах «разного» поэта). На свой лад проницательно: скоро вояжи начнутся.
А покуда Евтушенко разъезжает по стране. От Дальнего Востока до Грузии. 2 июля он пишет из Владивостока – в Тбилиси, художнику Ладо Гудиашвили: «Живу сейчас на берегу Тихого океана – брожу тайгой, обросший бородою, плаваю на краболовных судах… У меня сейчас такое же чистое и хорошее настроение, прозрачное настроение, как на Вашей картине “Всевидящее око”. Чувствую, что могу сделать что-то очень большое, особенно здесь, у Океана, на берегу которого я живу <…> мы еще побродим по Грузии, как Тили Уленшпигели, и еще попьем вина из фонтанчиков на выставках. Мы ведь с Вами ровесники…»
Ладо было шестьдесят два. В прошлом году, вдвоем гуляя по сельхозвыставке в Сигнахи, они так наугощались белым вином из фонтанчиков, что их нашли спящими в клетке с волкодавами на сене. Волкодавы испуганно забились в угол.
Евтушенко обожал грузинскую живопись. Не только Ладо. Было дело, однажды в мастерскую своего друга Васильева Евтушенко принес холст Пиросмани «Олень», завернутый в связанную большим узлом скатерть. Там же были осыпавшиеся при случайном падении картины куски краски и грунта. Васильев все восстановил.
В Приморье, побывав на тигриной охоте, на холодном ветру с моря, поэт несколько приболел, трудно осилил недуг в горах Сихотэ-Алиня, стихов Владивостоку не оставил, но с лихвой компенсировал это в пути по Японскому морю на Камчатку: один только «Вальс на палубе» чего стоит.
Курилы за бортом плывут…
В их складках
снег
вечный.
А там, в Москве, – зеленый парк,
пруд,
лодка.
С тобой катается мой друг,
друг
верный.
Он грустно и красиво врет,
врет
ловко.
Он заикается умело.
Он
молит.
Он так богато врет тебе
и так
бедно!
И ты не знаешь, что вдали,
там,
в море,
с тобой танцую я сейчас
вальс,
Белла.
Тут легко разглядеть «друга верного» Межирова, и почва для ревности есть, и вера в дружбу и любовь звучит двояко, с преобладанием надежды на все хорошее – комок чувств, на волне музыкального размера ¾ поднятый до звука чистого и молодого.
Тогда же он начал (дописал в 1996-м) «О, сколько стран у нас в стране!..», с такой концовкой:
Нельзя быть крошечным поэтом
в такой громадине-стране!
Мы сказали: стихов Владивостоку не оставил. Это не совсем так. 21 июня 1958 года в «Литературной газете» был напечатан материал ее спецкора О. Опарина.
«Витязь» вернулся во Владивосток
Сегодня из своего 27-го рейса возвратилось во Владивосток экспедиционное судно «Витязь» Института океанологии Академии наук СССР. Возвращение это было вынужденным – в той части Тихого океана, где находился «Витязь», в конце мая появились признаки повышенной радиоактивности дождевой воды, вызванные испытательными взрывами атомных бомб, которые американцы проводят в районе Маршалловых островов. <…> В полдень красивый белый корабль появился в бухте Золотой Рог. Но он не встал, как всегда, у причала рядом с другими судами, не бросил якоря на рейде. К нему устремился катер с врачами: судно сперва должно быть тщательно исследовано и, если нужно, продизенфицировано, а люди – осмотрены.
Первым с катера на палубу «Витязя» поднимается дозиметрист со специальным прибором, фиксирующим интенсивность радиоактивных продуктов.
– Судно безопасно! – докладывает он через некоторое время. После этого мы вместе с врачами поднимаемся на палубу. Пока идет медицинский осмотр, мы попросили начальника экспедиции, кандидата географических наук В. Петелькина рассказать о плавании «Витязя».
– В экспедиционное плавание наше судно отправилось 20 марта. Весь комплекс исследований в Тихом океане по программе Международного геофизического года мы должны были завершить этим летом. К сожалению, как вы уже знаете, сделать это мы не смогли, нам помешали. 23 мая мы впервые обнаружили в дождевой воде признаки повышенной радиоактивности. 28 мая приборы зарегистрировали в воде чрезмерно высокую радиоактивность. Это нас насторожило. 29 мая от Каролинских островов в нашу сторону двигался тайфун. Он прошел недалеко от нас. В тот день было зафиксировано максимальное количество радиоактивных веществ в дождевой воде.
Большое количество радиоактивных осадков, в сотни раз превышающее норму, угрожало здоровью экипажа. Мы были вынуждены срочно покинуть зараженную зону, прекратив исследования.
Во время плавания в опасной зоне нами были приняты профилактические меры. Все члены экипажа проходили специальную санитарную обработку, палуба и надстройки несколько раз тщательно промывались.
Возвращаясь домой, мы зашли в порт Нагасаки, на который, как известно, в 1945 году американцы сбросили атомную бомбу. Следы колоссальных разрушений видны до сих пор. В городе, недалеко от эпицентра атомного взрыва, находится музей, где собраны материалы об атомном нападении на город. Экспонаты этого музея вызывают возмущение, гнев против тех, кто мешает людям мирно трудиться, растить детей, кто вынашивает людоедские планы истребительной атомной войны.
Несмотря на то что некоторые работы не были осуществлены, советские ученые проделали важные исследования по метеорологии, гидробиологии, геологии, успешно провели глубоководные траления, изучали фауну океана. Ценные данные получены об океанических течениях в районе экватора.
Ниже следуют стихи.
НА КОРАБЛЕ
Мы видели на подошедшем «Витязе»:
Стояли жены на причале, ждали —
Им с мужьями видеться
Пока не разрешали.
Тревожные и оробелые,
Глядели через волны пенные,
А там – врачи, халаты белые,
Корреспонденты и военные.
Мы говорили с кочегарами,
Простыми, свойскими ребятами,
С географами кучерявыми,
С геологами бородатыми.
Они держались, парни русские,
От нашей Родины вдали,
Когда на головы их русые
Дожди отравленные шли.
Они все ясно понимали
И паники не поднимали,
И драили на совесть палубу —
С нее смывали эту пагубу…
О, те дожди, дожди проклятые!
Их слишком много в эти дни,
И веют не простой прохладою, —
Прохладой смертною они.
Но мы хотим спокойной гордости,
Чтоб, нас плодами оделя,
Умылась не дождями горести, —
Дождями радости земля!
Евгений ЕВТУШЕНКО Борт «Витязя», 20 июня 1958 г.
Вряд ли все географы, упомянутые поэтом, были кучерявые, но срифмовано здорово, а сам факт нахождения на борту судна и быстрота реакции – узнаваемо евтушенковские. Стихотворение не перепечатывалось.
Он привозит стихи отовсюду, где бывает. Многописание – вторая натура, он просто не может не писать. Это тот художнический организм, которому необходима подпитка извне. Еще были живы Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани – «классики не только поэзии, но классики грузинского характера». Это была любовь на всю жизнь, он щедро писал о Грузии и переводил ее поэтов: сборники «Лук и лира» (Тбилиси, 1959), «Тяжелее земли» (Тбилиси, 1979), «Два города: Стихи. Переводы» (Тбилиси, 1985), «Зеленая калитка» (Тбилиси, 1990).
И в снах твоих медленных, Грузия,
сплошной вереницей даров
плывут виноградные гроздья,
как связки воздушных шаров…
(«Ты вечером с гор взгляни!..»)
О том же – его спутница и муза Белла Ахмадулина:
Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
«О, институт, спасибо, друг, тебе»… – стихотворение благодарности своей alma mater, но не только: там появляется ценнейший плод – яблоко, которое значит больше, чем фрукт, оно – эмблема слова в другом его стихотворении: «Не важно – есть ли у тебя преследователи…»:
Да будет слово явлено,
простое и великое,
как яблоко
с началом яблонь будущих внутри!
Это будет написано позже, в 1959-м, и тогда же ему ответит гипотетическая героиня того институтского стихотворения:
Так и сижу – царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат…
(«Несмеяна»)
Сравним. Ахматова:
Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь…
(«Привольем пахнет дикий мед…»)
Как раз в те годы в советскую поэтическую действительность придет эта пара – Ахматова и Цветаева. На Руси поэты ходят почему-то парами. Пушкин – Лермонтов, Тютчев – Фет, (кто помнит) Цыбин – Поперечный…
Сначала внутри Литинститута, а потом и шире, выйдя далеко за ограду литинститутского сквера, происходило еще одно, в клубке общего ристалища, творческое соревнование – Юнны с Беллой. Долгие годы эти две поэтессы были в глазах читателя неразлучны как сверстницы и соперницы. Юнна Мориц не была звездой Политехнического. Но Москва в 1958-м узнала ее «Кулачный бой», ходящий из уст в уста:
Мне, узкоглазой и ширококостной,
Февральским утром в год бы високосный,
Когда по небу мечется заря
В тулупе красном, речью бы несносной
На Лобном месте мне б гневить царя
И крикнуть: – Царь! Ты много войска маешь,
Но ни черта в стихах не понимаешь,
Черства твоя порода и глуха…
Опричнина – жестокая затея,
Кровопролитье – до-о-о-лгая затея,
Опричник зря кровавый бой затеял
Со мной на понимание стиха.
Тут подтекст так гол, что это уже не подтекст, а текст как таковой. Там же сказано: «И головы, как яблоки, слетают…». Через несколько лет «Кулачный бой» ухитрится под шумок напечатать в «Молодой гвардии» ведавший там поэзией Владимир Цыбин, прежний товарищ по Литинституту, – благородство наказуемо: поднимется шум, его тотчас уволят. Сам он был поэт почвеннического склада, оппонировал евтушенковской плеяде много лет с младых ногтей. Да и в тех литинститутских стенах на Тверском бульваре, в доме, где родился Герцен, в сени памятника Герцену «деревенские» сражались с «городскими», хотя сам Цыбин – из семиреченских станичников, земляк и адепт Павла Васильева.
На каком тяжелом перегоне
зноем мои вены перервут?
Подставляю жесткие ладони яблоням —
пусть яблоки кладут.
(В. Цыбин «Если»)
Дались им эти яблоки…
Юнну все-таки восстановят в институте, и она окончит его в 1961-м, одновременно с выходом ее первой книжки «Мыс Желания», предисловие Николая Тихонова. Опека влиятельного литчиновника не была унизительной, поскольку Тихонов когда-то был поэтом большой силы и свежести, и это помнили многие.
А Павла Васильева, вместе с Борисом Корниловым, Евтушенко любил и читал наизусть на всех литинститутских лестницах. Кстати, вот и еще одна инерционная пара: Павел Васильев – Борис Корнилов.
ИНТЕРМЕЦЦО
Дмитрий Сухарев в интересах нашей книги углубился в свой архив, в результате чего мы имеем возможность посмотреть на то время и его особенности – воочию, без литературных наслоений. Это запись в пять страниц, сделанная единым махом для самого себя. Почерк, вначале убористый, постепенно обретает размашистость. На самом деле получилось эссе, достоинства которого – элегантность и достоверность. Автор – аспирант МГУ Дмитрий Сахаров, пишущий стихи. Дмитрием Сухаревым он станет чуть позже, в 1957 году. Еще не было книг Сухарева, но были биофаковские песни. И музыкальный термин в названии этой главки уместен, поскольку музыка уже существовала и даже превалировала в Сухаревском мире.
Предыстория записи такова. В Центральном доме литераторов функционировала секция поэзии московской писательской организации, на заседаниях которой стихотворцы, в том числе молодые и не члены Союза писателей СССР, имели возможность поговорить друг о друге в процессе перекрестного чтения стихов. Как-то Д. Сахаров высказался о стихах Евтушенко, которому это показалось интересно, но знакомы они были лишь на уровне кивков. В свою очередь Евтушенко ознакомился со стихами Сахарова, предложившего их руководителю секции Л. Ошанину для сборника «День поэзии» 1957 года.
Дальнейшее – ниже.
5 сентября 56
Третьего дня – неожиданная история.
В пять утра я ездил встречать Жанку (Джанна, двоюродная сестра из Ташкента. – Д. С.,2013) и, вернувшись, блаженствовал в постели. Около одиннадцати – звонок. «Митенька – тебя!» Я долго (нрзб):меня нет, спроси, кто звонит, итп. Алуня (Алла, молодая супруга Д. С. – Д. С., 2013) все мягко излагает и вдруг испуганно: «Я его сейчас разбужу!» Видимо, в трубке энергично протестуют, и разговор заканчивается.
Оказывается – Евтушенко. Я говорю (нрзб): «Дура ты, дура – разве же можно так непосредственно проявлять свои чувства!» «Но ты ведь так хотел с ним познакомиться!» Объясняю в популярном виде законы дипломатии.
Позавтракав, звоню по оставленному телефону. Слышу короткое и злое: «Да!» Отвечаю таким же низким, отрывистым и неприязненным голосом: «Это Сахаров». В трубке более мягко: «Здравствуйте, Дима. Ну, как поживаете?» Вопрос этот явно неуместен по причине полного отсутствия взаимного знакомства, и я отвечаю неопределенным междометием. Начинается небольшой монолог: «Я – ммм – смотрел ваши стихи у – ммм…» Я помогаю: у Ошанина. «Вот – ммм – кое-что понравилось, кое-что не понравилось, хотел с вами поговорить, уехал на два месяца в Грузию – сейчас вернулся и, видите, сразу вам звоню. Вы как – сегодня свободны?» Я отвечаю, что занят только вечером, и мы назначаем свидание сейчас же. Я говорю, что должен буду ехать с пустыми руками. «Ну, в голове стихи есть? И все в порядке». Потом он объясняет, как найти его жилище. «Четвертая Мещанская – напротив “Форума”». Дом 7, квартира два. Вы так – войдете во двор и там увидите маленький двухэтажный домик. Такой весь облупившийся, старенький. Посередине крыльцо – осторожней, не обвалите его. Звоните в левую дверь». Я перед этим сказал, что мне ехать от Никитских ворот – то есть из довольно аристократического района. Поэтому его шутливые извинения по поводу своего жилища сразу заставили меня подумать – горд, самолюбив, раним. Ну, посмотрим.
Дверь его дома оказалась открытой, но я все же позвонил и услышал его голос. Мы прошли через маленькую, всю чем-то заставленную кухоньку или прихожую. Я спросил – сюда? Да, сюда. Такого я все же не ожидал. Комната, проходная со всех сторон. Как у большинства москвичей – это комната общего назначения. И спальня, и столовая, и гостиная. Тут же в углу – письменный стол с ворохом бумаг. Книг мало. Небогато ты живешь, поэт! Трудно тебе в такой обстановке работать. Тут же за дверью – голоса соседей. За окном – двор и галдящие дети. Мне это слишком знакомо. Из своего опыта мне трудно было бы ожидать что-то иное, но Женин блестящий вид, стильная одежда и спокойная независимость (то, что я видел в нем раньше) как-то настроили меня на ожидание иной домашней обстановки.
Впрочем, сегодня у него был обычный вид простого парня, который вечерами усталый приходит с работы и не может жить в иных апартаментах, кроме тех, которые я увидел. Он был в какой-то выцветшей фуфаечке, поверх – еще одна куртка. Лицо желтоватое и утомленное. Но этот простой вид держался в нем в течение первой минуты, а потом он приступил к тяжелой должности литературного мэтра.
Он сел на диване, брови поднялись и придали лбу выражение высокого раздумья. «На днях приехал из Грузии – чертовски много работал. Чувствую себя совершенно иссушенным – перевел целую книгу стихов одного грузинского поэта – превосходные стихи! – писал много своих – сейчас моя книга выходит из печати – третья книга! – а следующую я уже в готовом виде сдал в издательство – собираются издать избранное – надо много думать: что отобрать? – устал, работать не могу – вот, вам позвонил – сегодня вырвался свободный час – смотрел ваши стихи – кое-что хорошо, кое-что плохо – ваше выступление в Доме литераторов мне понравилось – знаете, чувствуется то, чего сейчас так не хватает: интеллигентность…»
Я впервые вставил слово: «Кажется, это сейчас не очень ценится». Он тут же развил свою точку зрения, которую было очень приятно услышать. О том, что – по его мнению – писать может тот, в ком сочетается настоящий взгляд на жизнь с интеллигентностью, с культурой. «У нас в Литинституте фамилию Пастернака вообще не услышите. Даже наиболее талантливые ребята – например, Рождественский – настолько беспомощны в знании предыстории русской поэтики!»
Вначале говорил почти все время он. Я взял со стола яблоко и громко его грыз, пытаясь сбить с него мэтрский тон. Постепенно разговор стал проще – перешли на «ты», стали говорить оба. Женя рассказывал много интересного – о Грузии, о себе. Обсуждали все, что приходило на ум и к чему кидал разговор. Прошло часа два, и он вспомнил, что я должен читать стихи. Оказалось, что все лучшие (на мой взгляд) он помнил по ошанинским экземплярам. Я прочел несколько других, которые и сам люблю меньше, – и он был явно разочарован. Позже я его спросил об этом, и он подтвердил мое впечатление. Но как-то это стало второстепенным, потому что само чтение мной стихов стало только выполнением первоначальной программы, которая практически показалась ненужной. Потом он читал «Станцию Зиму» – начал с одного отрывка и так, постепенно увлекаясь, прочел по отрывкам почти всю поэму. Относительно некоторых отрывков, которые он называл «социальными», сказал: «Смотри! – тебе первому читаю. После Беллочки».
О Беллочке разговор был уже до этого. На столе, среди бумаг, были рассованы ее фотографии. Одна стояла на полке. Я был страшно рад, что она такая, потому что стихи ее – теплые и талантливые – мне нравились. Рад был, что ей только девятнадцать, что Женя ее, видимо, любит, что она с ним жила летом как жена в Грузии, рад был слышать, как он о ней говорит. Только испугался, что ее яркие рифмы – не свои. Я вспомнил, что когда прочел впервые ее стихи, закричал: «Ого! У Евтушенко появляется своя школа в советской поэзии!» Я спросил его об этом, и в ответ он только очень радостно рассмеялся. Именно радостно – никаким другим этот смех назвать было нельзя. Потом я еще несколько раз видел, как он так смеялся. Он становился совсем похож на простого уличного мальчишку.
«А ты спешишь?» – спросил он. «Давай поедем пообедаем вместе». Мы вышли из дома и пошли к Садовой. Теперь на Жене был яркий пиджак, и модные брюки, и нестандартная, вроде заграничной сорочка, и яркий-яркий галстук: осенние кленовые листья на голубом фоне. И желтые ботинки. Все это он достал из шкафа, где оно висело отутюженное, готовое к эксплуатации. С комнатной эта одежда не гармонировала, и в этом была, видимо, часть ее происхождения. На улице Женя несколько раз здоровался со встречными людьми. «Меня здесь все знают, – сказал он. – Я был первый хулиган. Меня из школы исключили. Знаешь, – я ведь 10 классов не кончил!»
В такси он неожиданно начал хвалиться. Наверно, причиной было появление третьего человека – шофера. Снова посыпались цифры: третья книга, сотни стихотворений, тысячи аванса. Он рассказывал, как 15-летним мальчишкой отнес в редакцию книгу стихов, лирическим героем которой был видавший виды человек – солдат, прошедший всю войну. «А вы совсем Жюль Верн», – неожиданно сказал шофер. И, улыбаясь, добавил: «Он тоже писал, не выходя из кабинета».
Оказалось, что мы ехали в румынский ресторан в Парке Культуры. Румынский оркестр, сухое вино. «А ты сухое вино любишь? – спросил он. – А то, может, сладкое?» В этом вопросе сквозило презрение. Я успокоил его. Я действительно люблю сухое, но румынского вина я не знал. В румынский ресторан стояла очередь, и мы заняли хвост. Обычно в таком положении трудно разговаривать, но мы не томились молчанием. Женя рассказывал о своих друзьях: Саша Межиров, Миша Луконин, Смеляков. И Слуцкий. Он вообще часто говорил фразы вроде: «Приехали туда: я, Симонов, Твардовский и Кирсанов». Ему нравилось чувствовать себя очень большим, прекрасным и привлекательным. Он говорил: «Я люблю, чтобы все было здорово, крупно, сочно: и вино пить, и женщины, и стихи, и одежда». В этом была какая-то литературность, но он был действительно высокий и приятный, и ярко одет, и стихи писал превосходные. Он много говорил о благодарности своим друзьям – Саше, и Мише, и Слуцкому. Но ни разу не упомянул ни об одном своем сверстнике. Он все время был среди старших, жил среди старших. Но ему хотелось быть поэтом своего поколения, и он четко называл эту цель, называя наше поколение «обманутым». Поколение Гудзенко – Луконина он отделял от себя. Но в своем поколении чувствовал себя одиноким. «Скажи, – говорил он, – а вот у вас, в МГУ, студенты – знают, что сейчас делается в поэзии?» Я твердо отвечал «нет». За исключением единиц. В лучшем случае девочки знают стихи вроде «Над черным носом нашей субмарины» (стихотворение К. Симонова. – И. Ф.).
Мы прошли в ресторан и сели. Он наклонился и шепнул: «О литературе давай не говорить. Сзади сидит некто Алексеев – автор романа “Солдаты” – дикая сволочь. Все-таки это несправедливо, – добавил он с грустью, – что у антисемитов рождаются дети». Действительно, вокруг Алексеева сидел выводок детей, а напротив восседала пышущая здоровьем жена. Это было процветающее семейство.
Ненависть к антисемитизму в нем вышла наружу в этот день не впервые. Еще дома он скрежетал зубами по поводу кочетовской травли Слуцкого (реакция на опубликованную в редактируемой В. Кочетовым «Литературной газете» от 28 июля 1956 года, в его отсутствие, статью И. Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого». – И. Ф.).По-видимому, это было не просто влияние его литературной среды, а глубокое убеждение. Не то что сухое вино.
С сухим вином получилось хуже. Женя долго и мастито заказывал, являя бывалость. Нам принесли крупную бутылку румынского вина. Я опаснулся, что много, но он на меня презрительно цыкнул. Но пил он – господи! Как он пил превосходное сухое вино! Он зажмуривался и опрокидывал фужер в глотку, морщась как от сивухи. Я привык сухое вино попивать степенно, смакуя, но мне пришлось уступить. У Жени была твердая система: тост – и сразу обязательно до дна.
Он очень быстро опьянел, чего я совсем не ожидал. Опьянел и стал похож на Юраню Каменского (однокурсник. – Д. С.,2013). Посмотрел на проходящую мимо женщину и сказал с растекшейся пьяной улыбкой: «Смотри – ничего». Почему-то он считал, что так надо делать, хотя это вовсе не было необходимо. Алексеев ушел, и нас снова понесло на литературу. Он читал какие-то стихи, и я читал. Я спросил: «У тебя хорошая память?» «Говорят, феноменальная, – сказал он кротко. – Я “Волны” (стихи Б. Пастернака, 284 строки. – И. Ф.) на память знаю». «Ну и что же? – сказал я не менее кротко и внутренне ликуя. – “Волны” я тоже знаю». Потом прошла пора взаимного бахвальства, и я приступил к «Станции Зиме», о которой до этого молчал, выразив свое восхищение лишь в целом. У меня были замечания, часть из них – существенные, и я начал их выкладывать. Мне показалось, что он отнесся к ним серьезно.
Мы допили, но он заказал еще. Допили вторично и ушли покачиваясь. Перед этим он орал на меня и пытался заплатить один. Мы долго обвиняли друг друга в пьяном «ты меня обижаешь», но в конце концов оказались на улице. Приближалось время, когда я должен был очутиться на Манежной площади. Я сказал: «Поехали со мной. Я тебя познакомлю с чудесными ребятами». И мы опять в такси.
На Манежной был назначен сбор агитбригады, вернувшейся вчера из Сибири. Я был приглашен как свой человек. Брать с собой Женьку было нетактично по отношению к остальным, но я начал входить в бурлюковское амплуа, остро ощущая необходимость сблизить пиита с его поколением.
Возле университета уже собирались ребята. Мы целовались и кричали, а потом я отвел в сторону Оленьку и Нинку и приказал окружить моего спутника заботой во имя всех моих прежних и будущих заслуг перед факультетом. Это надо, сказал я, и прошу поверить на слово.
Девочки, надо воздать им должное, выполняли эту функцию честно и бескорыстно в течение всего последующего вечера. В голове у меня был веселый пьяный шум, и я не помню в подробностях – как мы снова оказались на такси и помчались на Казанский вокзал. Там уже пришел поезд из Казахстана и на нем наши «целинники» со второго курса. (Нам, встречавшим, приехавшие были как бы детьми, они окончили первый курс и перешли на второй. На целину студентов, как правило, возили товарными теплушками. Через год мы с Евтушенко где-то на задворках Ржевского / Рижского вокзала провожали такой же, теплушками, отряд Литинститута, в нем на целину отправлялась Белла Ахмадулина. – Д. С.,2013.) Мы с кем-то обнимались, и кричали, и вручали цветы. Я увидел в проходящей толпе девочку, похожую на Эльку из «Комариков» (спектакль биофака. – Д. С.,2013), и побежал с ней целоваться, но это оказалась совсем другая девочка, тоже с нашего факультета, и она очень смеялась. Потом я поцеловал в горячую и душистую щеку Галю Черноусову – это был первый поцелуй, но я только ненадолго вспомнил, как я думал о нем в те месяцы, когда был безнадежно влюблен в Галю. А тут все прошло в толпе и суматохе, и как-то незаметно.
Потом мы почему-то ехали на грузовике, который шел на Ленинские горы, сибирская бригада вылезла на Калужской, где у Сережки Васецкого готовился выпивон, а целинников повезли в МГУ. Я заметил, что ребята – Остап, Мишаня, Женька Дмитриев – обижены на меня за то, что я тащу с собой долговязого пижона, такого не похожего на них. Я же мыслил государственными масштабами и мудро гнул свое, невзирая на обиду ребят.
На вечере было как всегда, и ребята были как всегда, и это только идиот мог бы не заметить. Это было то, чего нет даже в самых лучших книжках – настоящие комсомольцы, после настоящего дела, но не литературные, а живые – с песнями, с поцелуями, с влюбленностями, с хохмами. Мне удалось то, на чем я сорвался раньше: Женька снял галстук. В самый разгар шума он зашипел мне на ухо: «Не представляешь себе, как обидно. Ведь для них пишу». А еще минут через двадцать сказал твердо: «Я хочу читать стихи». Я просил немного подождать – до более удобного момента – и через несколько минут Нинка заорала: «Тише, ребята! А сейчас Женя нам почитает свои стихи». Нинка была пьяная и все время лезла к Жене целоваться.
Женя прочел несколько стихотворений. «На демонстрации», еще что-то. Я, должно быть, уже порядком опьянел, потому что не помню, какие он еще читал стихи. Боюсь поэтому говорить о том, как они были встречены. Помню только, что я боялся – слишком неприязненно были настроены некоторые ребята. Слушали тихо и потом немного хлопали – это то, что вошло в мои пьяные уши. О настоящем впечатлении сказать ничего не могу.
В разгар вечера приехала Алуня, и я познакомил ее с Женей, когда они уже танцевали вдвоем. Через некоторое время мы уехали – был уже час ночи, и Женя боялся проспать в институт. Мы опять мчались в такси, и помню, он говорил: «Замечательные ребята. Вы меня когда-нибудь пригласите в общежитие стихи читать. Замечательные ребята. Но один – ты его берегись: продаст и предаст. Гарантирую. Кажется, Шангин его фамилия». Я долго смеялся и думал: почему он так сразу угадал? И мы попрощались.
Прошли века, не менее того. У Дмитрия Сухарева написались стихи про Евтушенко (не названного) «Когда его бранят» (1986), исполненные благородной ярости по адресу евтушенковских злопыхателей и неомраченной ясности в понимании его роли:








