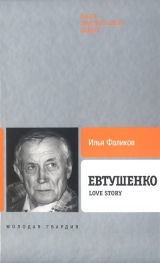
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 49 страниц)
Бродский:
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
Евтушенко:
А остальные? Бродскоголосье —
милые люди или шпана.
А странным ли образом? Стихотворение Евтушенко написано 25 января – год тому назад умер Бродский. Это тяжелое сближение, намеренно или невольно, вложено в стих, написанный наскоро. Мучительные отношения с Бродским нашли выход в плаче по ближайшему другу. «Ты не знаешь, что тебе простили» – строка Ахматовой, больше всего ценимая Бродским. Это и произошло в стихотворении Евтушенко.
Бродский насыщает свое «На столетие Анны Ахматовой» той же мыслью, основной в христианской этике:
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
Многолетняя распря с Евтушенко достаточно подробно вышла наружу в разговорах Бродского с Соломоном Волковым. Долгие годы Бродский непримирим и вполне не справедлив. Что же пробилось на свет под занавес, когда он понимал, что болезнь сердца, усугубленная безостановочным курением, подает ему более чем серьезный сигнал? В последнем диалоге с Волковым слышится эта нота – именно последняя.
Волков.Вы знаете, Иосиф, я уверен, что в какую-то будущую идеальную антологию русской поэзии XX века войдут при любом, самом строжайшем отборе, по десятку-другому стихотворений и Евтушенко, и Вознесенского.
Бродский.Ну это безусловно, безусловно! Да что там говорить, я знаю на память стихи и Евтуха, и Вознесенского – думаю, строк двести-триста на каждого наберется. Вполне, вполне.
Юрий Нехорошев свидетельствует:
Иосиф Бродский умер 27 января 1996 года в Нью-Йорке. В этот недобрый январский вечер в кабинете моей московской квартиры Евгений Александрович и я уже который час заняты добрым творческим трудом – корпим над рукописью первого тома предстоящего восьмитомника, доводя «до ума» его стартовую книгу. Моя жена, в течение нескольких часов передвигавшаяся по квартире чуть ли не на цыпочках, не смея потревожить наш творческий процесс, неожиданно резко появилась в дверях: «Умер Бродский. Только что сообщили “Известия”».
Таким Евтушенко я еще не видел – он окаменел, сник, потерял всякий интерес не только к нашему занятию, но и вообще ко всему, что говорилось и происходило в эти минуты. О продолжении работы нечего было и думать, как и о предполагавшемся ужине после трудов праведных. Сели на кухне, молча помянули ушедшего поэта. Евтушенко был убит, будто из жизни безвременно ушел его близкий друг. <…> Мы, конечно, хорошо знали о сложностях их взаимоотношений, но в этот вечер Евгений Александрович не вспомнил об этом, напротив, исключительно высоко оценил его как одного из крупнейших поэтов современности, говорил мало, с длинными паузами, надолго уходя в себя. Думалось о бренности, судьбе, невозможности повернуть ход событий вспять. Евтушенко, погоревав, помянул покинувших нас один за другим в последнее время стольких друзей, чей уход, посетовал он, продолжает опустошать жизнь и усугублять одиночество, затем молча собрался и уехал, так больше и не вспомнив о прерванной и очень важной для тех дней работе. Он был уже на пути в Америку, где посетил гражданскую панихиду Бродского.
Благородство Соколовской поэзии очертило на его снегу тот круг, в котором неотменимо присутствуют Пушкин, Пастернак, Смеляков, Бродский – все они смертью или рождением связаны с русской зимой, с символикой отечественного стихотворства.
ДОРОГА ДОМОЙ
Жить он стал на две страны, и неизвестно, где дольше. Его наезды в Россию – или, скажем так, в страны СНГ – походили на гастроли, и он действительно часто выступал. За кулисами оставалось рабочее время переделкинских сидений над книгами и рукописями тех, кого отбирал для антологии, и над собственными рукописями: стихи и проза приходили в рабочем порядке. В прошлом, 1997-м великий труженик Семен Липкин надписал ему свою книгу «Квадрига»: «Евгению Евтушенко, который заслужил свою мировую славу трудом».
Внешне все это выглядело сплошной гастролью и чаще всего выражалось в жанре интервью. Евтушенко обильно и охотно давал их. Судя по количеству этих публичных бесед, он оставался вполне медийной фигурой и никакого упадка популярности не просматривалось.
Нам предстоит – не первый раз – пробежать по этому жанру в евтушенковском исполнении. В минимальном количестве, ибо охватить эти тексты в полном объеме невозможно, да и не нужно. Надо сказать, он – пусть повторяясь, на некотором автомате – овладел жанром мастерски, и каждый раз извлекает на свет Божий деталь или подробность, без которых даже известный факт неполон. Жанр интервью стал формой мемуаров в сочетании с изложением взглядов на современность, в основном политическую, но и о текущей словесности тоже приходилось говорить, и он делает это весьма пристрастно.
Аналоги есть. Скажем, 17 июля 1997-го в «Вечерней Москве» Виктор Некрасов поминал Евтушенко так: «Его слава была подобна гагаринской. С той только пикантной разницей, что Гагарин был в официозе, а он – “то в Непале, то в опале”». Подобные штрихи и мазки присущи и евтушенковским интервью. Его интервью нередко слишком многословны и при цитировании нуждаются в «усушке».
Газета «Труд» за 31 января 1998 года посвятила полосу «Культура» беседе Евтушенко и питерского поэта Ильи Фонякова: «Евгений Евтушенко: Я не преподаю скромность, это не мой предмет». Только что вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров в Кургане в издательстве «Зауралье» книга Евтушенко под названием «Непроливайка». Но старые знакомцы увлеклись воспоминаниями и говорили в основном не о книге и ее содержании. Фоняков – опытный газетчик и тотчас находит верную ноту:
«– Как раз недавно рассказывал внуку, обладателю многочисленных шариковых и гелевых авторучек, про эту чудо-чернильницу нашего военного детства, которую можно было таскать в школу в тряпичном мешочке, не рискуя запачкать учебники и тетрадки! Памятливость на подобные “мелочи быта” изначала составляет существенный компонент обаяния поэзии Евтушенко. Так было всегда, начиная с первых публикаций, с первых книг, с первого широкоформатного, ни в какие полки не вмещающегося сборника “День поэзии”, который мы вместе продавали и надписывали читателям в 56-м году в книжном магазине на Петроградской стороне в Ленинграде.
– С Питером у меня отношения особые… Всей моей жизнью связанный с Москвой, я люблю повторять про себя строки Георгия Адамовича: “На земле была одна столица, остальные просто города”. Это ведь о Петербурге. В русской советской поэзии всегда звучала особая “ленинградская нота”…
– Я предпочел бы говорить, по традиции, о “ленинградской школе”.
– Школа, нота – разница не принципиальная. Казалось бы, я очень далек и от того, и от другого. Но я люблю “далекое”, люблю то, чего не могу или не умею сам. Люблю Пастернака, хотя непосредственных точек соприкосновения с его поэзией у меня почти нет. Так и с “ленинградской нотой”. Развивая вроде бы совсем другую традицию (Маяковского тут вспоминают, я думаю, все-таки не случайно), я всегда был и тайным учеником Пушкина, Блока, Ахматовой… Не случайно, наверное, и многих своих друзей я обрел в этом городе. Здесь познакомился с художником Олегом Целковым, поэтом Евгением Рейном. Да ведь и с тобой – тоже…
– Нет, не получается у нас “правильного” интервью по схеме “скажите пожалуйста, уважаемый Евгений Александрович…” Зная друг друга более сорока лет, трудно притворяться, что увиделись впервые.
– С тех пор много чего было в моих отношениях с вашим городом. И не только идиллического. У вас ведь была в свое время весьма специфическая идеологическая атмосфера, и я довольно быстро стал для кого-то “персоной нон грата”. Все раздражало: “Ах, какие у него ботинки! Какие узкие брюки!” Так и при Романове вашем (первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. – И. Ф.) было, так и раньше – при Толстикове (занимал тот же пост. – И. Ф.)… Помню свой “безафишный”, по сути полуподвальный, вечер… В “Юбилейном”! А в Доме композиторов нам с Окуджавой просто-напросто сорвали выступление, дружинников выпускали – “от имени рабочего класса…”
– Существует мнение, что людям нынче просто не до поэзии. Вся энергия души уходит на другое, на борьбу за выживание…
– Не могу согласиться! Минувшим летом у меня было шестнадцать выступлений на Урале и в Сибири, перед людьми, которые по полгода не получали зарплаты. И они говорили мне о том, как трудно стало достать хорошую книгу. Жажда высокого, серьезного слова существует, она в природе человека.
Ты знаешь, не так давно мы потеряли Владимира Соколова, одного из лучших русских поэтов нашего времени. Бывший министр Евгений Сидоров дважды ходатайствовал о выпуске его собрания сочинений. Ответ стереотипный: “Денег нет!”…»
Разговор происходит в Петербурге. Вовсю раскручивается дикая интрига против мэра Анатолия Собчака. Циркулируют слухи: Собчак опасен для Ельцина как конкурент, хотя выборы прошли. Его обвиняют в коррупции и всех остальных смертных грехах, заводят уголовное дело, бывший мэр детективным образом улетает за границу.
Через некоторое время Евтушенко навестит Собчака в парижской больнице:
Но он, вдали от всех рогатин
здесь наблюдаемый врачом,
непоправимо элегантен,
неумолимо обречен.
…………………………
Смакуя слухи-однодневки,
злорадствуют кому не лень,
но бродит где-нибудь у Невки
его оболганная тень.
(«Мэр Санкт-Петербурга»)
Аллюзия на строки Пушкина:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Это о Наполеоне. Не больше и не меньше. Собчак напишет книгу «Двенадцать ножей в спину», где скажет:
…они надеются на то, что годы пройдут и все в конце концов забудут и Собчака, и его злополучное «дело». Об этом лучше всего написал Е. Евтушенко, который навестил меня в Париже.
Двадцатого ноября 1998 года убивают Галину Старовойтову, депутата Государственной думы, в подъезде ее петербургского дома, поздно вечером.
Она лежит с пробитой головой,
оплаканная скрытницей-Невой,
на лестнице, где слышен кошек вой,
где Достоевский бродит сам не свой
и, как незваный в Петербурге гость,
читает надпись на стене: «Спайс Гёрлс».
(«Контрольный выстрел»)
В декабре 1998-го, отмерив маршрут Нью-Йорк – Франкфурт – Тель-Авив, он на лету вспомнил о встрече с Аллой Пугачевой на переделкинском кладбище. Прежнее раздражение сменилось на дифирамб.
Я люблю тебя,
русская Пьяф,
соловьиха-разбойница и задавала,
над могилой поэта
притихшая, будто монашенка, Алла.
(«Алла»)
В будущем на его лукаво-наивный вопрос: «Алла, а что такое неформат?» – она ему ответит:
– Неформат – это ты.
В марте 1999-го он уже летит в Кельн. В самолете ему привидится Лев Копелев, обходящий немецкое кладбище с могилой Генриха Бёлля. Новая песня на старый лад:
Своих идеалов копия,
из коммунистов изгнан,
идет по кладбищу Копелев
призраком коммунизма.
(«Последний идеалист»)
В былые времена оный призрак бродил по Европе. Теперь не так. Клинтон бомбит Белград. Что Америке надо на Балканах? У нее самой творится черт-те что. В Оклахоме – Божий бич: торнадо! В Оклахоме!
В Белграде света нет. Нет света в Оклахоме.
Торнадо – как бомбежки мрачный брат.
Коровы голосят в пылающей соломе —
по-сербски, по-английски говорят.
Нет света столько лет в моем сожженном доме,
где по-грузински в полумертвой дреме
и по-абхазски чуть скулит мой сад.
Давно в России света нету, кроме
старушками спасаемых лампад.
(«Бомбежка Белграда»)
Всё едино.
Тысячелетье на исходе. Евтушенко, похоже, упирается – он туда не спешит. Это он-то, чемпион по бегу в русской поэзии. В спорах о сроках миллениума он занимает сторону тех, кто считает подлинным рубежом времени 2000 год, и лишь тогда пишет соответствующее стихотворение «Конец тысячелетья».
У Льва Озерова было стихотворение «Я пришел к тебе, Бабий Яр», подсказавшее интонацию евтушенковского «Бабьего Яра». Однако больше на озеровскую строку похожа недавняя: «Я приду в двадцать первый век». Неужели в подсознании будущее бродит призраком неведомого несчастья?
1999 год он провожает ощущением нешуточным, хотя и в шутливой оболочке:
Я – временный поэт.
Всегда – вот мое время.
Мой первый поцелуй был в Китеже на дне.
Свиданья назначать
могу я в Древнем Риме
и в будущей Москве
у памятника мне.
На пороге нового тысячелетия он счел необходимым высказаться на тему, для поэтов, мягко говоря, неоднозначную: о тех, кто пишет про стихи.
Их не унижу словом «критик».
Хочу открыть их, а не крыть их.
Я чуть зазнайка, но не нытик,
их слушался, а не ЦК,
и сам я завопил горласто
в руках Владимира Барласа
от пробудившего шлепка,
и Рунин мне поддал слегка.
Предостерег меня Синявский,
чтоб относился я с опаской
к прекрасной даме – Братской ГЭС,
и на процессе том позорном
меня благословил он взором,
пасхальным, как «Христос воскрес!».
Рассадин, Аннинский и Сидоров,
сбивая позолоту с идолов,
мне идолом не дали стать.
Средь цэдээловского торга
и скуки марковского морга
их отличал талант восторга
с талантом нежно отхлестать!
А мой щекастый тезка Женя
и в министерском положеньи,
как помощь скорая, был быстр.
Как столько должностей он вынес!
Он вписан в твою книгу, Гиннесс,
как незамаранный министр.
Когда стервятница младая,
шестидесятников глодая,
моих «Тринадцать» разнесла,
то сдержанно многострадален
поставил мне «пятерку» Данин
за страсть превыше ремесла.
(«Лицей»)
Дорога домой. Какой дом? Не тот ли, что в Зиме? До Евтушенко дошли слухи, что его родной дом на станции Зима стоял заколоченный, пока его не начали разворовывать. Соседи стали разбирать дом на дрова. И где? В Сибири, среди лесов. Были написаны стихи, которые передали по радио, напечатали в «Комсомолке». Его услышали. Он договорился с властями города. Дом спасли, создали музей поэзии. В интервью газете «Вечерний клуб» от 13 июля 2001 года он говорит: «На станции Зима собираются открыть дом моего детства, восстановленный земляками. Там будет поэтическая библиотека. К открытию дома приурочен первый Сибирский международный фестиваль поэзии. Вместе со мной туда собираются Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Олег Хлебников, Олег Чухонцев, несколько зарубежных поэтов. Вылет запланирован на 20 июля, если не помешают события, связанные с очередным наводнением».
Восемнадцатого июля проведя вечер в Политехническом, 22-го Евтушенко отправился в Сибирь – на станцию Зима, потом в Иркутск, Братск, Ангарск.
На фестиваль приехали 25 поэтов из разных стран. Устроил фестиваль сибиряк Анатолий Кобенков, на редкость милый человек и поэт хороший. Кое-кто помнил его забубенную молодость и сильно удивился невесть откуда взявшимся организаторским дарованиям. В «Новой газете» (2003. 14–16 июля) Кобенков сообщает:
Нас наградили Евтушенко, позабыв объяснить, что с ним делать – как спорить или соглашаться, любить или не любить. Правда, последнее, про то, как не любить его, нам, помнится, объясняли, однако делали это столь же нелепо, как в случае с Пушкиным, любви к которому, наоборот, беспрестанно требовали…
Кобенков рассказал, как один иркутский стихотворец выкрал из зиминского дома почти продырявленный ржавью горшок и водрузил его на свой стеллаж. Се предмет, на коем восседал сам Евтушенко! При перемене погоды воришка стал честить Евтушенко почем зря и где ни попадя.
Одиннадцатого января 2002 года умирает мама. Газета «Труд» от 15 января в заметке «Прощание с матерью» пишет:
Умерла Зинаида Ермолаевна Евтушенко, мать знаменитого поэта, до конца своих дней остававшаяся самым близким ему человеком. Евгений Александрович посвятил ей немало теплых строк. «Я благодарен матери, – писал он, – за то, что она привила мне любовь к земле и труду». К ее образу поэт обращается в поэме «Мама и нейтронная бомба». А год назад Зинаида Ермолаевна пришла вместе с сыном в Литературный институт, где ему был вручен диплом об окончании вуза, из которого он был когда-то исключен за выступление в защиту романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Казалось, что этому символическому событию она была рада больше всех, потому что справедливость восстановлена… Журналисты «Труда» выражают искреннее соболезнование Евгению Александровичу в связи с кончиной матери.
Сам он об этой смерти не написал ни строки. Оплакав многих, он не мог писать в таких – исключительных – случаях. Самые близкие, уходя, вызывали у него приступ удушья. Напрасно ерничали анекдотчики.
Звонят Евтушенко:
– Женя, умер N.
– Да ты что! Пойду писать стихи.
Ректор Литературного института в те годы Сергей Есин свидетельствует (Независимая газета. 2003. 17 июля):
Когда ему вручали диплом, его мать – девяностолетняя знаменитая продавщица газет в киоске у Рижского вокзала сказала: «Ну, наконец-то и Женя получил диплом о высшем образовании. Советское высшее образование лучшее в мире».
Еще одна тяжелейшая потеря – смерть Альберта Тодда. Евтушенко писал ему при жизни, когда Альберт заболел (1996):
Мне жизнь все менее мила,
но драгоценнее, пожалуй.
Не умирай раньше меня,
мой друг седой, мой волк поджарый.
………………………………
Ты не однажды меня спас
на теплой к нам войне холодной,
но как мне холодно сейчас
в свободе нашей несвободной.
Альберт Тодд вступился за его репутацию, в частности, в то время, когда Евтушенко поносили за двойной стандарт «Бабьего Яра»: мол, один вариант на родине, другой навынос. Евтушенко приводит в письме Ростроповичу от 3 июня 2002 года слова Тодда из его исследования по славистике: «Несколько русских людей, живших в США, пали жертвой этой дезинформации и сами способствовали распространению этих ложных сведений, написав письмо в “Нью-Йорк таймс”. В этом письме они утверждали, будто в “Литгазете” был напечатан компромиссный вариант “Бабьего Яра”. А ведь они, казалось, должны были первыми понять, что это ложь. Чуть позже в воспоминаниях одного музыканта (записанных несколько лет спустя в форме бесед с Шостаковичем) было напечатано ошибочное сообщение о встрече поэта и композитора, в ходе которой был создан новый вариант “Бабьего Яра”, “вдвое длиннее первого”. Именно этот вариант, считает мемуарист, и был впоследствии опубликован в “Литгазете”. Это уже чистый плод фантазии. В поисках истоков всей истории мы просмотрели комплект “Литературной газеты” и русскую “Летопись газетных статей” и ничего не нашли…»
В том письме Евтушенко позвал Ростроповича в Москву – продирижировать «Тринадцатую» и «Казнь Степана Разина» на евтушенковском юбилейном концерте в Кремлевском дворце съездов. Этого не произошло. Ростропович сослался на чрезмерную занятость и отвращение к той публике, что его не ценит. И по-своему правильно сделал. «Коммерсантъ» в отзыве на кремлевский концерт изобразил дело так: «Каким бы ни запомнили его (сочинение Шостаковича. – И. Ф.)наши родители, слишком конъюнктурным и искусственным выглядит оно сейчас, претендуя на единственное место в истории. Памятник вымученного сотворчества двух слишком разных художников».
Однако симфония в том его юбилейном году была исполнена в двадцати разных странах, в том числе – при участии Евтушенко – в Карнеги-холле, уж не говоря про дворец в Кремле, когда весь зал встал после ее исполнения.
Движение Евтушенко на восток отечества было неудержимо. Специально для нашей книги пишет создатель лучшего дальневосточного издательства «Рубеж» и одноименного альманаха (реинкарнация харбинского издания 1920–1930-х годов) Александр Колесов:
Евтушенко приехал во Владивосток в августе 2003 года по моему приглашению – в рамках Тихоокеанских творческих встреч, которые под эгидой Владивостокского ПЕН-клуба я тогда проводил. В девяностых и начале двухтысячных в них принимали участие Андрей Битов, Евгений Рейн, оба Поповых – Валерий и Евгений, Лев Аннинский… И много кто еще.
А начиналось все в июле 2000-го, когда мы пересеклись с Евгением Александровичем в Иркутске, на Фестивале поэзии на Байкале. Фестиваль проводил мой близкий друг поэт Толя Кобенков, светлая ему память. Так вот, в конце фестиваля, когда нас прогуливали на теплоходике по великому озеру, не менее великий и известный русский поэт, поглядев на меня с хитрым прищуром, мечтательно произнес:
– Саша, а пригласите меня во Владивосток. Я на Дальнем Востоке тридцать лет не был…
Вскоре я нашел солидного спонсора для этого грандиозного поэтического трипа. Им стала сахалинская дочерняя компания американского нефтяного концерна «Эксон». Все дело в том, что один из ее топ-менеджеров, Майкл Аллен, был большим любителем русской поэзии.
За пару лет до этого, изготовив вскладчину постамент из нержавеющей стали, мы во второй раз, в холодном ноябре 2001 года, установили с Майклом во Владивостоке, на проспекте Столетия, отлитый в чугуне первый в мире памятник Осипу Мандельштаму (первая установка кончилась плохо: памятник изуродовали питекантропы с ломами. – И. Ф.).
– Поэт на сейфе, – скажет тогда на открытии памятника Андрей Битов…
Стало быть, я был продюсером, а по совместительству и ведущим этого двухнедельного поэтического турне Евтушенко по дальневосточным городам и весям. В Приморье классик выступал во Владивостоке и Находке, а на Сахалине – в Южно-Сахалинске и Шахтерске.
Мы опекали его вместе с председателем Приморского общества книголюбов Еленой Минасовной Назаренко.
Во владивостокском Доме офицеров, так же как и в южносахалинском кинотеатре «Октябрь», был полный аншлаг! В переполненном зрительном зале Офицерского собрания Евтушенко не только читал стихи, но и пел, причем акапельно, с примой владивостокской филармонии. Публика же, пришедшая на выступление, была совершенно разномастной – от бабушек и студентов до бывших бандитов и партработников – словом, весь Владивосток. Потом был прием у командующего Тихоокеанским флотом адмирала А. Федорова, прогулка на катере мэра города по акватории Амурского залива, а Евгений Александрович то и дело задавал мне вопрос: «А к губернатору мы когда пойдем?» Ему было невдомек, что тогдашний наш губернатор Дарькин с поэзией никак не рифмовался…
По дороге в Находку, чтобы перевести дух, мы остановились у небольшого придорожного базарчика в селе Романовка. И когда классик подошел к одному из прилавков, пожилая торговка, оказавшаяся бывшей учительницей, буквально обомлела от увиденного:
– Ев-ту-шен-ко-о!!!
А в Находке тамошнее литературное сообщество чуть не разорвало на сувениры пестрый концертный наряд поэта. Сахалинская интеллигенция тоже пришла в полное неистовство от появления Евтушенко, и после выступления в шахтерском Доме культуры мы не обнаружили в гримерке знаменитые бордовые крепдешиновые штаны великого русского поэта…
Не меньший фурор Евгений Александрович произвел и в лучшем сахалинском ресторане «Корона», приведя в полный восторг его хозяйку Елену Будникову, когда мастерски приготовил свой авторский коктейль. Но никто не знал при этом, что экзотические ингредиенты для этого потрясающего напитка (благодаря ему Евтушенко приняли в мировую лигу барменов) мы с ним полдня искали накануне по всему Южно-Сахалинску…
Александр Архангельский в «Известиях» от 13 августа 1993-го комментирует событие прошумевшего юбилея:
Он победил своих «конкурентов», прошлых и нынешних, невероятной энергией всепоглощения, жадностью жизнелюбия… В холодноватом мире мер, расчисленного движения светил, в том числе и литературных, его пример – другим наука.
Стивен Кинзер в «Нью-Йорк таймс» от 11 декабря 1993-го – «Русский поэт в Америке» – живописует:
В ярком, пестром пиджаке из Гватемалы, широкоплечий, седеющий лев русского слова – Евгений Евтушенко мерил шагами зал и срывался на крик, читая свои стихи, когда-то потрясавшие мир. Одновременно он давал советы и делился своими взглядами на жизнь, любовь и литературу.
Но существует усталость металла.
Был еще и ноябрь 2002-го. Госпиталь в Талсе. Так помечено несколько стихотворений. Он по-прежнему пишет в любых обстоятельствах.
Я судьбы своей не охаю
ни в издевках, ни в клевете,
и ни в госпитале, подыхая
с болью пушкинской в животе.
Нет, я не был рожден дуэлянтом,
но, исклеванный вороньем,
если с Пушкиным не талантом,
так хоть болью одной породнен.
И поэзия не поученье,
не законов сомнительный свод,
а смертельное кровотеченье,
как тогда, после пули в живот.
(«Не орлино, не ястребино…»)
На госпитальной койке поэта заносит совсем в другую сторону:
Милая,
милая,
минешь ты,
и мину я.
Миновать можно кровать —
сена нам не миновать!
(«Статуя Свободы»)
О чем говорит этот неуёма?!
Тогда в госпитале он написал стихи о статуе Свободы, где говорится о создании той статуи французами на фабрике в крошечном сельце.
В том сельце живет мой друг – Целков Олег —
под почти что русский скрип телег.
Через десять лет, в начале 2013-го Целков придет на его вечер в Париже. Евтушенко будет опираться на трость, нездоров, недавно из Центральной клинической больницы, накануне новой операции. Целков, знающий массу его стихов наизусть, прочтет вслух «Приходите ко мне на могилу…». На могилу, где нету меня. Оптимизм по-целковски.
В 2004 году Целков побывал в Москве. В «Независимой газете» от 22 октября арт-критику Вадиму Алексееву он изложил кое-что про жизнь и искусство. Посмотрим, каков в этом жанре – наш живописец.
Сейчас не время настоящих выставок, ибо выставка для сенсации мне не нужна. Мне не нужна такая выставка, на которую ломятся, как ломились на выставку Михаила Шемякина, когда рядом был, кажется, вернисаж шедевров из музея Бобур в Париже и выставка гениального итальянского художника Моранди. Но там почти никого не было. Я бы залез на стол и заорал: «Вон из этого зала, если рядом выставка Моранди. Вам не нужна живопись. Вы же оскорбляете меня, оказывается, вам совершенно плевать на искусство. Вы пришли просто поглазеть на человека, который прославился на Западе». Вот бы что я хотел сказать тем, кто пришел бы на мою выставку… Но, если честно, хотелось бы выставиться в Москве, но так, чтобы все прошло тихо, без ажиотажа и чтобы выставка была интересна, прежде всего, художникам, а не случайным зевакам. Я не хочу циркового номера…
– Как вы считаете, почему на выставки Ильи Глазунова собираются тысячи и тысячи зрителей?
– Отвечу. Глазунов в своих картинах несет нечто абсолютно необходимое русскому человеку сегодня. Что именно? Объяснить трудно, может быть, даже невозможно. Но для меня очевидно, что есть в его творчестве некое свойство, которое привлекает к нему именно русскую публику. И свойство это совсем не шуточное. То есть я как бы в скобках замечу, что фигура Глазунова все время меня интригует и заставляет размышлять о русском искусстве. Хотя я должен сказать, что у Глазунова много, даже очень много слабых мест и как у художника, и как у человека. Но есть что-то такое, отчего дрожит, волнуется наша русская душа. <…>
Приходили как-то Сикейрос с Гуттузо, потом мы вместе пошли в ресторан. Историю с тем, что они переписали состав моих красок, Женя Евтушенко придумал для красоты – я чего-то такого не помню. Гуттузо жаловался Сикейросу, что был у старого Пикассо, который показывал ему ужасные картины, огромное количество – и все полная дрянь. Один жалуется другому на третьего, а Женя мне переводит! Еще раз я виделся с Гуттузо незадолго до его смерти, мы были у него вместе с Женей. У него был рак печени, и он об этом знал. Он пил довольно много, при мне часто прикладывался, но оставался трезвым, не качался, не был пьяным.
С Евтушенко и с Бродским у меня была не то чтобы дружба, мы просто часто встречались и относились друг к другу с симпатией. Женя жил на «Аэропорте», я в Тушине, а «Сокол» и «Аэропорт» рядом. А так как я большой любитель был и выпить, и просто побродяжничать, то часто к нему захаживал, а он летом часто приезжал ко мне на канал купаться.
Вот одна сценка. Я живу в квартире с родителями и сестрой. В восемь утра – я сплю, мать с отцом собираются на работу, на завод, – раздается звонок. И ко мне в комнату, где я лежу в постели, вваливается следующая компания: Евтушенко, Аксенов и Окуджава. И какая-то японка, студентка-славистка. Белла Ахмадулина вошла позже – под утро они поехали с какой-то вечеринки на канал купаться, Белла купалась прямо в платье и пришла к моей маме, чтобы та дала ей что-нибудь сухое. При этом они сразу же вытащили три или четыре бутылки вина, потребовали стаканы, и, лежа в постели, я в полном смысле слова принял на грудь. Меня подняли, мы все влезли в Женин «Москвич», один на другого, и куда-то поехали. Окна были задернуты. Когда мы проезжали мимо милиционера, Вася Аксенов громко запел «Хотят ли русские войны?». На всякий случай, чтобы, если милиционер остановит нашу машину, он знал, кого останавливает. Когда мы подъезжали, первым свалился Окуджава, сказал: «Я, ребята, старый и больной – отпустите меня домой!» Его отпустили. Потом мы поднялись к Жене, где Женя свалился с ног, просто заснул. Я его редко таким видел. И тогда я, Вася и Белла пошли добавить в какую-то столовую, где Белла закурила. Было одиннадцать утра. К ней подошел какой-то человек и сказал, что здесь курить запрещено. На что Белла не обратила никакого внимания. Тогда он у нее вытащил сигарету, разразился какой-то скандал, их увели в милицию, а я остался один. Но Белла там познакомилась с милиционером, который потом все время приходил к Жениной жене Гале и Белле – они жили рядом – выпивать.
В 2004-м вышел седьмой том Первого собрания сочинений Евгения Евтушенко. Добрая треть книги – переводы. Об этой грани поэта совершенно точно и впервые суммарно высказался Юрий Нехорошев в «Пунктире».
В седьмой том вошла сравнительно небольшая часть поэтических переводов автора, который с 1952 года опубликовал около 700 стихотворений (в это число входит и несколько поэм) 124 авторов в своем переводе с 27 языков народов нашей страны и мира, включая русский (с древнерусского и с русского на английский): народов Кавказа (абхазского, аварского, азербайджанского, армянского, грузинского, лакского, осетинского, татского), Средней Азии (казахского, узбекского), Прибалтики (эстонского), других народов бывшего СССР – бурятского (бурят-монгольского), еврейского (идиш), молдавского, украинского, народов ближнего и дальнего зарубежья – с английского (США, Англия, Австралия), арабского, болгарского, вьетнамского, греческого (новогреческого), испанского (Испания, Куба, Никарагуа, Чили), итальянского, монгольского, румынского. Вышло восемь сборников переводов Евг. Евтушенко – М. Мачавариани, Наби Бабаева (Наби Хазри), Г. Джагарова, Д. Узылтуева, Н. Дамдинова (совместно с М. Лукониным), Т. Чиладзе. Трижды выходили сборники собственных стихов и переводов стихов грузинских поэтов, сборник собственных стихов и переводов с эстонского стихов А. Сийга. В антологию русской поэзии XX века, вышедшую в 1993 году в Соединенных Штатах на английском языке (составитель Евг. Евтушенко), вошли переводы поэта на английский стихов Б. Чичибабина, Ю. Кублановского, С. Липкина и самого автора, в соавторстве с Альбертом Тоддом. В сборнике стихов автора «Лучшее из лучшего»/«Вечерняя радуга» (Baltimore, MD, 1999) 12 стихотворений также переведены на английский Евтушенко, часть из которых – в соавторстве с другими переводчиками. В США публиковались стихи, написанные на английском и неизвестные русскому читателю. Здесь нелишне повторить высказывание автора, приводившееся нами в четвертом томе настоящего издания: «Летом 1971 года в качестве спецкора “Литературной газеты” я побывал в Перу, Эквадоре, Боливии и Чили. В результате поездки родился цикл стихов. Некоторые из них я сам перевел на испанский».
Мы рассказываем о переводческой работе поэта столь подробно, ибо об этой стороне творчества Евтушенко мало что известно читателю и многие сведения приводятся впервые. Часть переводов опубликована только в периодической печати, а упомянутые выше сборники, как правило, выходили не в центральных издательствах (Тбилиси, Таллин) и мизерными тиражами. Нередко переводы публиковались без указания имени переводчика, а порой авторы переводов перевирались: вместо переводчика Евг. Евтушенко значились Д. Маркиш или В. Юхимович, а то и наоборот, евтушенковскими оказывались переводы Н. Гребнева, Вас. Журавлева, М. Луконина или Е. Винокурова…
О переводах Евтушенко написано и сказано немало (большей частью в грузинских изданиях), но наиболее обстоятельно эта сторона творчества поэта проанализирована в книге В. Комина и В. Прищепы «Он пришел в XXI век» (Новосибирск, 2003), цитатой из которой мы и завершим наши заметки.
«Работа Е. А. Евтушенко над художественными переводами является одной из наиболее активных и творчески весомых форм его просветительской деятельности. Вместе с тем поэтические переводы Е. А. Евтушенко, сделанные в середине и самом конце 50-х, имеют самодовлеющее значение, и поэтому их нужно рассматривать как один из периодов творческой жизни. К этому нас подталкивает и то, что сегодня они составляют приблизительно половину его поэтического пространства, занимают большее по объему место, чем публицистические и литературно-критические работы, сценарии и, пожалуй, даже художественная проза, и то, что по идейно-эстетическому значению переводы во многих случаях не уступают авторским произведениям.
<…> Переводческие принципы Е. А. Евтушенко, сформировавшиеся в конце 50-х, предполагают создание так называемого литературного перевода. Он воспроизводит не букву буквой, а “улыбку – улыбкой, музыку – музыкой, душевную тональность – душевной тональностью” (К. Чуковский).
Инонациональная поэзия становится русской.
…Многочисленные переводы Е. А. Евтушенко и Б. А. Ахмадулиной национальных поэтов-сверстников расширяли представление русскоязычного читателя о шестидесятничестве как межнациональном явлении».
Двадцать второго января 2005 года в Турине Евгению Евтушенко вручена итальянская литературная премия Гринцане Кавур «за способность донести вечные темы средствами литературы, особенно до молодого поколения». На церемонии присутствовал корреспондент «Коммерсанть-Власти» Б. Волхонский. Радость соотечественника выражается следующим образом:








