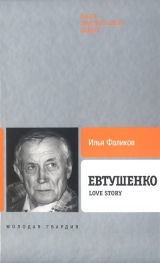
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
ПОСЛЕ ДРАКИ
В сентябре 1977 года Борис Слуцкий овдовел. Он был женат единожды. Таня ушла безвременно, сгорев, как свечка. Он написал 13–14 стихотворений ее памяти.
Кучка праха, горстка пепла,
всыпанные в черепок.
Все оглохло и ослепло.
Обессилел, изнемог.
Непомерною расплатой
за какой-то малый грех —
свет погасший, мир разъятый,
заносящий душу снег.
Были у Слуцкого и еще потом стихи, но в общем и целом он закончил свой путь. Дальнейшей дороги не видел. Упразднилось его прежнее предложение:
Давайте после драки
Помашем кулаками…
Слуцкий стихи не датировал. Ставил на вечность? Вряд ли. Но для поэта, столь актуального по сути, это как минимум странность. Так или иначе, время возникновения того или этого стихотворения у Слуцкого можно угадать почти безошибочно. В 1971-м у него вышла книга «Годовая стрелка», где стихотворение «Эпоха закончилась. Надо ее описать…» явно означает конец 1960-х. В болдыревском (составитель – Ю. Болдырев) трехтомнике, вышедшем в 1991-м, перед «Эпоха закончилась. Надо ее описать…» стоит стихотворение, которое, среди прочих текстов Слуцкого, ходило по рукам.
Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.
Она не все говорила,
но почти все говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.
Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.
И пусть сначала для славы,
только потом – для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а все-таки он качался,
качался и не кончался,
качался и не отчаивался,
каялся, но не закаивался.
(«Покуда полная правда…»)
Прошло лет десять с того момента, когда Евтушенко, по окончании писательского судилища над Пастернаком, на улице публично-показательно вернул Слуцкому денежный долг, звучно добавив:
– Тридцать сребреников за мной.
«Покуда полная правда…» – свидетельство не только некоторого покаяния со стороны Слуцкого, но и трезвого, как всегда у Слуцкого, взгляда на Евтушенко, на его роль в кончающейся эпохе.
Опубликовано это стихотворение было через двадцать без малого лет, в 1988-м. Книга, которую сейчас читает читатель, стоит на фундаменте этого стихотворения.
Евтушенко изначально смотрел на Слуцкого так – и не иначе:
«А в то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканно военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатушку. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать. И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча открыл свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.
– Я воевал, – сказал он, – и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!
Я понял».
Было дело, их ставили рядом. Виктор Некрасов (1959): «Из современных поэтов мне больше всего нравятся Слуцкий и Евтушенко». Ответ на анкету газеты «Нова культура», Варшава.
Вряд ли есть смысл рассуждать о потенциях поэзии относительно свободы от времени. По сути, такой вид существования поэзии невозможен. Дело в пропорциях и приоритетах. Слуцкий почти всю жизнь считал свое время вот именно своим. Его позднее трагическое открытие состояло в том, что он осознал свою чужеродность и ненужность той современности, на служение которой он положил эту самую жизнь. Случай Слуцкого – случай добровольного и волевым образом вмененного себе в долг идеализма, усиленного генной памятью пророческого библейского прошлого. Рыжий ветхозаветный пророк в роли политрука. Моисей и Аарон в одном лице. Косноязычие первого, переходящее в красноречие второго. Точнее, их языковая смесь.
Догадываясь о пророческой прародине своего слова, Слуцкий демонстративно перевел присущую ей апелляцию к небесам на противоположный объект – землю. Был привлечен разговорный слой языка плюс канцелярит, также ставший характеристикой разговорности. Армейская терминология, «громоносное просторечие», «говор базара», харьковский суржик (смесь русского с украинским), архаизмы («За летопись!»), осколки литературных разговоров в дружеском кругу молодых советских интеллигентов – таков неполный перечень источников его словаря. Настойчивое заземление речи было самым ярким элементом его красноречия. То есть это было решительным уходом именно из поэтической элоквенции. Это было ненавистью к краснобайству. В тогдашней живописи все это называлось суровый стиль.
Слава Слуцкого была не звонкой, но в некотором смысле – глухой. Она соответствовала глухому ропоту советской интеллигенции. Распространяясь частично в списках, он тем не менее не состоял в авторах самиздата. Он не работал на самиздат. Или на тамиздат. Строй его мыслей не выходил за рамки советского миропонимания. Слуцкий – поэт советский.
В семидесятых идеология оставила его. Или стала другой? Он все чаще – намного определеннее, чем раньше («советский русский народ», «советский русский опыт» – его ранний синтез) – говорил о России, о русской истории, о русском языке. О том, что его никуда не тянет и он остается «здесь». Кто помнит, «здесь» означало СССР. «Здесь» Слуцкого – Россия.
Славу Слуцкого пригасил, но не смыл триумф евтушенковской плеяды, поскольку по природе и с самого начала их различала неодинаковая установка на успех, хотя в молодости он высказался так:
Не верится в долгие войны,
А верится в скорый успех.
Слуцкий разработал тактику «запланированной неудачи». При всей тяге к демократическому поэту Некрасову, в свое время отмеченной Эренбургом, Слуцкий – поэт заведомо интеллектуальный, если не элитарный. Евтушенковский демократизм предполагает такого «широкого читателя», глаз коего в пространстве стадиона не видно и, следовательно, не видно, светятся ли они умом. Между тем такие вещи Слуцкого, как «Баня» или «Школа для взрослых», для того же Евтушенко явились поистине школой для взрослых и были задействованы в собственной поэзии, что видно невооруженным глазом. Это врожденное народничество Слуцкого, острый глаз, подробная детализация, повествовательный лад (в «Бане» перекликающийся со Смеляковым) – все это по крайней мере не прошло мимо востроглазого, всепереимчивого Евтушенко.
Слуцкий был ненамеренно задвинут молодыми шестидесятниками, став чем-то вроде задника или декорации на сцене их перманентного спектакля. Многоуважаемым шкафом. Публика не ликовала. Роз ему не дарили, на руках не носили. Единственный всплеск всенародного (молодежно-интеллигентского, в принципе) успеха – стихи про физиков и лириков, но, как представляется, стишок прозвучал вроде народной песни: народные массы автора не знали. Не Окуджава, короче.
Слуцкий знал вину и сказал о ней – в связи со Сталиным:
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.
Но все-таки это вина, списанная на время. На веру. На коллективное заблуждение. Более персонален он в следующем признании, весьма далеком от парадных деклараций:
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.
У Слуцкого нет партийных стихотворений, равновеликих межировскому «Коммунисты, вперед!». Как так получилось? Загадка. Никакой не политрук, Межиров осуществил то, чего не добился коммунист по должности и долгу Слуцкий.
Среди современников-собратьев не напрасно наиболее близок ему был Леонид Мартынов. Оба – постфутуристы, книжники, эрудиты, государственники, рационалисты, поэты силы. Оба написали множество отписочных текстов. К обоим шла молодежь.
Слуцкий страстно провозглашал необходимость в свежем ветре:
Ломайте! Перестраивайте! Рушьте!
Здесь нечему стоять! Здесь все не так!
Веет Высоцким, не так ли?..
Ни Ахматова, ни Пастернак не были оппозиционерами. Они были старше сталинских соколов, и только водоворот тотального террора не оставлял их там, где они предпочли бы остаться, – в стороне. Есенин со слезами вступался за мужика, но и это не оппозиция. Мандельштам выкрикнул антисталинскую сатиру, которая по сути своей далека от политики, при всей неистовой ненависти по адресу тонкошеих вождей: это жест поэта, охваченного ужасом жизни. Слуцкий – поэт политический. Поэтому его и можно считать первым оппозиционным поэтом СССР. Евтушенко ступил на ту же стезю.
Оппозиционность Слуцкого ужесточалась оттого, что со Сталиным боролись сталинисты. Кому-кому, а ему это было предельно ясно. И хотя он позже скажет, что «Печалью о его кондрашке / Своей души не замарал», выдавить из себя Сталина – было его собственным мучительным заданием. «Я на Сталине стою». Это толкало его на освоение такого тематического материала, который принадлежал не ему. Лагерь, тундра, те нары, та вышка, та проволока. Он брал на себя чужую тему, «потому что поэты до шахт не дошли».
Евтушенко и здесь учился у Слуцкого – работе на чужом поле. Кстати, идею Ваньки-встаньки он целиком взял у Слуцкого тех лет (стихотворения «Ванька-встанька – самый лучший Ванька…», «Валянье Ваньки»), «Трамвай поэзии» заехал к Евтушенко тоже из Слуцкого, из его «Тридцатых годов».
Слуцкий:
Двадцатые годы – не помню.
Тридцатые годы – застал.
Трамвай, пассажирами полный,
спешит от застав до застав.
А мы, как в набитом трамвае,
мечтаем, чтоб время прошло,
а мы, календарь обрывая,
с надеждой глядим на число.
Евтушенко:
В трамвай поэзии, словно в собес,
набитый людьми и буквами,
я не с передней площадки влез —
я повисел и на буфере.
Потом на подножке держался хитро
с рукой, прихлопнутой дверью,
а как наконец прорвался в нутро,
и сам себе я не верю.
(«Трамвай поэзии»)
К слову, нет ли тут – у Слуцкого – связи с «трамвайной вишенкой» Мандельштама: «Я трамвайная вишенка страшной поры / И не знаю – зачем я живу»?..
Скорбная лирика 1977 года – не история любви. Плач по жене. По единственному, последнему другу. Не Лаура и не Беатриче – Таня. Может быть, эти стихи – самое человечное из всего, что написал Слуцкий. Смерть – на войне – научила его писать стихи. Смерть – жены – оборвала его речь, вызвав последний выплеск стиха.
Слуцкий умер в 1986-м. За девять лет до кончины потеряв жену, он ушел в затвор, отказался от стихов и общения с людьми, прежде всего с литераторами.
В 1977-м Евтушенко окликнул его, больного и ничего не говорящего.
Однажды мы спали валетом
с одним настоящим поэтом.
Он был непечатным и рыжим.
Не ездил и я по Парижам.
В груди его что-то теснилось —
война ему, видимо, снилась,
и взрывы вторгались в потемки
снимаемой им комнатенки.
Он был, как в поэзии, слева,
храпя без гражданского гнева,
а справа, казалось, ключицей
меня задевает Кульчицкий.
И спали вповалку у окон
живые Майоров и Коган,
как будто в полете уснули
их всех не убившие пули.
С тех пор меня мыслью задело:
в поэзии ссоры – не дело.
Есть в легких моих непродажный
поэзии воздух блиндажный.
В поэзии, словно в землянке,
немыслимы ссоры за ранги.
В поэзии, словно в траншее,
без локтя впритирку – страшнее.
С тех пор мне навеки известно:
поэтам не может быть тесно.
Всё перемелется, мука будет. Красочное определение Слуцким пастернаковской «нобелевки» как ответ Шведской академии на проигрыш под Полтавой оказалось красным словцом, сжегшим душу Слуцкого.
Один из учеников Слуцкого всегда хорошо говорил о Слуцком и всегда плохо – о Евтушенко. Стихотворение Слуцкого о подсолнухе – кажется, единственное у него стихотворение о своем ученике. О других учениках – не было. А их было очень много.
Андрей Сергеев приводит такой диалог со Слуцким:
«– Это правда, что вы называете нас кирзятниками?
– Правда.
– Как вы относитесь к двадцатому съезду?
– Никак.
– Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы?
– В голову не приходило».
Приходило.
КОНЕЦ «КИНУ»?
Тридцать первого декабря 1978 года в газете «Вечерняя Москва» – заметка Евтушенко, которая называется «Главное – всегда впереди» (перефразирование Луговского: «Настоящее счастье всегда впереди»). По содержанию это – новогоднее поздравление читателям и отчет о проделанной работе.
«Прошедший год для меня был напряженным, даже мучительным, но он стал счастливым, ибо это были муки творчества.
Я снимался в роли Циолковского в фильме “Взлет”. Ставит фильм режиссер С. Кулиш. В результате собственного опыта для меня открылся сложнейший и удивительный мир кино. Важно было то, что не просто снялся для развлечения в маленьком эпизоде, а прошел путь создания фильма от начала до конца.
Первая радость этой работы – прикосновение к образу Циолковского с его научными и философскими работами, его идеями, которые всегда будут жить во мне, помогая видеть главное сквозь обыденное.
…Савва Кулиш не то что сделал меня актером, поручив главную роль в фильме, но “подготовил” меня как будущего режиссера. Собираюсь ставить фильм о своем сибирском детстве в годы войны.
…Когда по ходу съемок мне пришлось в полной одежде находиться часа полтора в пятнадцатиградусной воде и затем я вылез на берег, чьи-то руки не то что стащили с меня набухший водою сюртук преподавателя епархиального училища, но в один миг разодрали его в клочья, чтобы я мог сразу переодеться в сухое.
…Когда однажды я возвращался из Калуги в Москву на машине и было довольно опасное сочетание тумана и гололеда, я увидел нависающую над автомобилем какую-то странную тень. Меня подстраховывал сзади шофер нашего суперкрана, и тень стрелы крана нависала надо мной, как рука товарища.
Съемки не помешали продолжать литературную работу. Заканчиваю первый свой роман “Ягодные места”. Делаю наброски исторической поэмы, посвященной Куликовской битве. В промежутках между съемками на короткое время ездил в Испанию, Италию, Югославию, выступал там с чтением стихов. В издательстве “Молодая гвардия” только что вышла новая книга стихов “Утренний народ”, журнал “Новый мир” опубликовал мою поэму “Голубь в Сантьяго”, вышла книга стихов о Грузии и переводов с грузинского в Тбилиси, сборник сибирских стихов в Иркутске. Как всегда, старался много читать. Лучшими из прочитанных книг были, видимо, “Осень патриарха” Маркеса и “Домой возврата нет” Томаса Вулфа…»
Пожалуй, Евтушенко упустил лишь информацию о съемке английскими кинематографистами документального фильма про него и показ фильма в Англии.
Но важным было самое начало года: 4 января 1978-го в «Литературной газете» Евтушенко печатает эссе «Выставка на вокзале» – свое выступление на международной писательской встрече в Софии «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры». Он восхитился выставкой болгарского художника Светлина Русева.
«Я не верю в искусство над. Над вокзалом или над схваткой. Большое искусство не должно стесняться быть выставкой на вокзале. На вокзале нашей жизни, набитой страданиями и надеждами, о котором Пастернак писал: “Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук…”
…Однажды поэт Борис Слуцкий сказал мне, что все человечество он делит на три категории: на тех, кто прочел “Братьев Карамазовых”, на тех, кто еще не прочел, и на тех, кто никогда не прочтет. Я заметил ему, что, к сожалению, самая многочисленная категория – это те, кто видел “Братьев Карамазовых” по телевизору. Люди только думают, что они смотрят телевизоры. На самом деле телевизоры смотрят людей.
…Ингмар Бергман говорил о том, что когда мы решим все то, что сейчас нам кажется проблемами, тогда-то и появятся настоящие проблемы.
…Каждый человек – это сверхдержава. Мы, писатели, послы этой сверхдержавы – человека.
…Т. С. Элиот когда-то написал мрачное предсказание:
Так и кончается мир.
Так и кончается мир.
Так и кончается мир —
Только не взрывом, а взвизгом.
Мы должны нашим словом сделать все, чтобы не довести человечество до взрыва. Но нашим словом мы должны сделать все, чтобы не довести человечество и до самодовольного взвизга духовной сытости, который не менее морально опасен, чем война».
В этой статье он говорит о том, что он «из крестьянской семьи». Полет фантазии. Геолог и певица мало похожи на земледельцев – или имеются в виду далекие корни происхождения. Элиота, кстати, он цитирует не в знаменитом сергеевском переводе, но в своем. У Сергеева последняя строчка «Полых людей»: «Не взрыв, а всхлип». Это меняет смысл на диаметрально противоположный. Все-таки они недоспорили в школьные годы…
Интересна эта оппозиция: телевизор – Бергман, то есть кино.
Когда он несколько позже, в марте 1983 года, привезет свой фильм «Детский сад» на родину, в Сибирь, на творческом вечере 28-го числа в иркутском Дворце спорта он пунктиром расскажет (отчет в зиминской газете «Приокская правда») свою киноисторию:
«С детства я очень любил кино. Фильм “Два бойца” смотрел ничуть не меньше двадцати раз здесь, на зиминской земле. Этот фильм стал любимым. Уже впоследствии, когда я начал печататься, на меня неизгладимое впечатление произвели в то время изрядно нашумевшие ленты итальянских кинематографистов: “Похитители велосипедов”, “Рим в 11 часов”… Наш же кинематограф в послевоенную пору создал серию лакированных лент типа “Кубанские казаки”, “Сказание о земле Сибирской”, в то время, когда на деле деревня переживала серьезные трудности. Но вина эта была затем искуплена кинематографом – фильмом “Председатель” (автор сценария – Ю. Нагибин. – И. Ф.).
Впервые мои стихи появились в кинофильме “На графских развалинах”, который снял прекрасный режиссер, мой друг Владимир Скуйбин. Вскоре запелась моя песня “А снег идет” из кинофильма “Карьера Димы Горина”.
Важной вехой на пути к сегодняшнему дню стала для меня работа сценаристом над фильмом режиссера М. К. Калатозова и оператора С. П. Урусевского. Сценарием фильма “Я – Куба” как бы закончилась большая моя подготовка перед тем, как выйти в кино.
Прибавьте сюда мое серьезное увлечение фотографией, и станет, вероятно, понятно, как я пришел в режиссеры-постановщики. В частности, фотография диктует и стилевые особенности “Детского сада”: я люблю снимать “широкоугольником”, и мне кажется, что прием “широкоугольника” дает богатый эмоциональный и психологический эффект. Для взгляда главного героя фильма – ребенка – это важно было учесть, ведь взгляд его шире, объемнее…
Обязательно стоит упомянуть мои две попытки сняться в фильмах П. Пазолини и Э. Рязанова. Роли Христа и Сирано де Бержерака мне нравились, но не моя вина, что эти попытки завершились неудачно.
А потом подошла очередь “Взлета”. Снимаясь в роли Циолковского, я провел фильм от начала до конца и понял, что это такое. Настало время, и я взялся за свой фильм».
Он уходит в киноработу, но не до конца. В 1978-м он много пишет о поэзии, о литературе вообще.
Отмечаются ровные даты его двух основных предтеч.
Некрасов – ему посвящена публикация 8 января в «Комсомолке»: к столетию со дня смерти. Маяковский – 85 лет со дня рождения. В «Литературной учебе» (№ 2) статья «Огромность и беззащитность».
Исключительно всё, что Евтушенко отмечает в Некрасове или Маяковском, он вольно или невольно относит к себе. Это если не идеализированный автопортрет, то уж точно образец, совпадающий с собой. Это как минимум изложение собственных принципов.
«Официозному лжепатриотизму <…> Некрасов противопоставил ставший моральным принципом русской классики девятнадцатого века, возвещенный еще Чаадаевым, “патриотизм с открытыми глазами”. Некрасов писал: “Я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестнице, в грязные квартиры, к грязным людям… в мир людей обыкновенных и бедных, каких больше всего на свете…”
…Трагическая парадоксальность жизни Некрасова состояла в том, что, будучи издателем “Современника”, он, ненавидящий бюрократию и ненавидимый ею, во имя журнала вынужден был играть почти ежедневную игру в кошки-мышки с теми самыми мордами, о которых так презрительно писал, дипломатничать, лавировать, идти на уступки. При этих уступках нападки на Некрасова исходили уже не только справа, но и слева. “Со стороны блюстителей порядка я, так сказать, был вечно под судом. А рядом с ним – такая есть возможность! – есть и другой, недружелюбный суд, где смелостью зовется осторожность и подлостью умеренность зовут”.
…“Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый неуклюжий стих” – это написал создатель такой рукотворной красоты, как “Железная дорога”, “Мороз, Красный нос”, “Кому на Руси жить хорошо”, “Коробейники”. Пусть запомнят наши молодые поэты: значение великого поэта определяется отнюдь не величием его представлений о себе, а величием его сомнений в себе. Моменты кажущегося или временного бессилия оказываются для великого поэта не бесплодными. Видимо, они помогли Некрасову создать такое потрясшее современников произведение, как “Рыцарь на час”. “Покорись, о, ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе. Захватило нас трудное время не готовыми к трудной борьбе”».
Это ли не манифест собственной деятельности?
То же самое – в разговоре о Маяковском.
«В детстве Маяковский забирался в глиняные винные кувшины – чури – и декламировал в них. Мальчику нравилась мощь резонанса. Маяковский как будто заранее тренировал свой голос на раскатистость, которая прикроет мощным эхом биение сердца, чтобы никто из противников не догадался, как его сердце хрупко. Те, кто лично знали Маяковского, свидетельствуют, как легко было его обидеть. Таковы все великаны. Великанское в Маяковском было не наигранным, а природным. Кувшины были чужие, но голос – свой. Поэзия Маяковского – это антология страстей по Маяковскому, – страстей огромных и беззащитных, как он сам. В мировой поэзии не существует лирической поэмы, равной “Облаку в штанах” по нагрузке рваных нервов на каждое слово (в апреле вышла грампластинка «Евг. Евтушенко читает “Облако в штанах” Владимира Маяковского», фирма «Мелодия», с заметкой чтеца на конверте пластинки «Воссоздание голоса». – И. Ф.). Любовь Маяковского к образу Дон-Кихота не была случайной. Даже если Дульсинея Маяковского не была на самом деле такой, какой она казалась поэту, возблагодарим ее за “возвышающий обман”, который дороже “тьмы низких истин”».
Ну, скажем, Лиля Брик вряд ли смахивала на Дульсинею, но Евтушенко это не смущает – он говорит о своем. Намного точнее он показывает, так сказать, «три источника и три составные части» поэта революции. Во-первых, Пушкин. Во-вторых, Лермонтов. В-третьих, Некрасов:
«Маяковский отшучивался, когда его спрашивали о некрасовском влиянии: “Одно время интересовался – не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил”. Но это было только полемической позой. Вслушайтесь в некрасовское: “Вы извините мне смех этот дерзкий. Логика ваша немножко дика. Разве для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?” Не только интонация, но даже рифма “дерзкий – Бельведерский” тут маяковская. А разве может быть лучше эпиграф к “Облаку в штанах”, чем некрасовское:
“От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!”?
…По глобальности охвата, по ощущению земного шара как одного целого Маяковский ближе всех других зарубежных поэтов к Уитмену, которого, видимо, читал в переводах Чуковского, спасшего великого американца из засахаренных рук Бальмонта.
…Поэтическая генеалогия Маяковского ветвиста, и ее корни можно найти и в других, смежных областях искусства – например, в кино.
… История литературы не знает ни одного примера, когда бы один поэт столько сам взял на себя. “Окна РОСТА”, реклама, ежедневная работа в газете, дискуссии, тысячи публичных выступлений, редактура “ЛЕФа”, заграничные поездки – все это без единого дня отдыха.
…Производственные издержки Маяковского велики, но упреки, направленные в прошлое, – схоластика. Имитация поэтического метода Маяковского безнадежна, потому что этот метод был продиктован историей в определенный переломный период. Сейчас нам не нужны агитки на уровне политического ликбеза. Мы выросли из многих стихов Маяковского, но до некоторых еще, может быть, не доросли».
Этот Маяковский похож на собственно Маяковского в той же мере, как и на Евтушенко в его идеальном варианте.
В критической эссеистике Евтушенко верен себе-поэту. Даже в том, что других любит не меньше, чем себя. О других – как о себе. Щедро – о Валентине Распутине, которого воспринимал как земляка.
«Повесть («Живи и помни». – И. Ф.) написана о военном времени. Тогда Распутин был еще ребенком и видел войну еще почти перевернутым зрением, как видят мир новорожденные. Но кто знает – может быть, зрачки наших детских глаз таинственным образом впитывают в себя информацию, которую еще не может освоить младенческий мозг, и сохраняют эту информацию до нашей зрелости? Память начинается с колыбели.
…Повесть сильна и тем, что в ней нет второстепенных персонажей – все выписаны выпукло, объемно, никто не сделан из картона, а все – из мяса, костей, слез и крови. Такова вдова Надька, оставшаяся после гибели мужа на фронте с грудой ребятишек и во время возвращения других солдат ослепшая от ярости, проклинающая мужа за то, что он не вернется: “Не мог мой паразит живым остаться… Наклепал детишек… и смертью храбрых… А что я с его смертью теперь буду делать? Детей, что ли, кормить!”
Как это перекликается со строчками поэта Юрия Кузнецова, потерявшего на войне отца:
“Отец, – кричу, – ты не принес нам счастья!”
Мать в ужасе мне затыкает рот.
…Появилось много писателей, которые пишут о деревне без приукрашивания, честно и глубоко, как бы искупая множество поверхностных, сусальных книг, написанных ранее. Однако Распутин прав: “Писатель должен быть ни деревенским, ни городским, а человеческим”.
…Этим летом, проходя по парку культуры и отдыха, спеша на поэтический вечер во время съезда писателей, я задержался около белой раковины открытой эстрады. На ней вместе с другими писателями выступал Валентин Распутин. Аудитория была большей частью случайная – из прогуливающихся по парку влюбленных пар или старичков пенсионеров с шахматными досками под мышкой. Выступления прозаиков не проходят так шумно, как поэтические: не может же прозаик читать со сцены роман или повесть – кто это выдержит! Чаще всего читают маленький рассказик, отрывочек, выбирая что-либо посмешнее, или просто отвечают на вопросы читателей. Распутин, по его собственному признанию, сделанному со сцены, вообще впервые выступал перед читателями. Однако, несмотря на явное чувство случайности аудитории, Распутин не опустился до заигрывания с ней и не впал в надменность. Отрывисто и твердо он заговорил о том, что означает быть читателем. Он резко осудил поверхностность тех людей, которые считают себя культурными только потому, что читают газеты, юмористические журналы или детективные романы. “Это еще не читатели, – сказал он. – Мне иногда кажется, что они еще не научились читать, ибо читать – это чувствовать что читать”».
Вообще говоря, VI съезд писателей проходил два года назад, но Евтушенко никогда не бывает календарно точен. Так или иначе, его высказывания о литературе эмоционально точны и свидетельствуют о его недюжинной аналитической жилке. Книга эссеистики «Талант есть чудо неслучайное» (1980) на прилавках не залежалась наравне со стихами.
В его день рождения, 18 июля 1978-го, вышла «Литературка» с материалом, привезенным из поездки по Италии (28 июня – 8 июля), – «Три вечера в Кастельпорциано: Из итальянского дневника»:
«Мировая поэзия – в кризисе. Многие великие поумирали, новые великие еще не родились. Вот совсем недавние потери англоязычной поэзии: Фрост, Сэндберг, Элиот, Оден. Лоуэлл; испаноязычной: Неруда, Пабло де Рока, Леон Фелипе; итальянской: Квазимодо, Унгаретти, Пазолини; французской: Сен-Жон Перс, Превер; русской: Пастернак, Ахматова, Твардовский, Заболоцкий, Светлов, Смеляков, Исаковский… Однако в нашем обществе интерес к поэзии не упал, а возрос. По сравнению с самыми большими прижизненными тиражами Пушкина (5000 экземпляров), Маяковского (30 000) тиражи современных поэтов гигантски выросли: 50, 75, 100, 130, даже 200 тысяч. А за этими тиражами стоят иногда полумиллионные и даже миллионные запросы Книготорга. <…> Аллен Гинсберг, уже года два как остригший свою знаменитую бороду и сменивший буддистские одежды на костюм из магазина братьев Брукс и скромный галстук какого-нибудь фармацевта из Бронкса, предложил не сдаваться хаосу, всем вместе защитить честь поэзии и вместо задуманного, запланированного ранее вечера только американской поэзии устроить совместный вечер с европейскими поэтами, отказавшимися вчера выступать в неразберихе. Первый раз я видел Аллена Гинсберга, “воспевателя хаоса”, в роли строгого защитника порядка».
Уж если Гинсберг облагообразился и возжаждал порядка, Ко́смос (греч.κόσμος – «мир») явно внушал опасения в своей незыблемости, несмотря на гомерические тиражи советского стихотворства, и когда Савва Кулиш предложил Евтушенко сыграть роль Циолковского, это было в самую точку. Провинциальный мечтатель глобального масштаба – это ему о многом говорило и даже напоминало. Не о зиминских ли отроческих грезах?
О работе во «Взлете» он рассказывает с волнением, но не без юмора.
«На съемке дореволюционной ярмарки в Малоярославце я стоял в черной крылатке Циолковского у паровоза, увешанного чернобурками и соболями. Купеческие столы ломились от осетров, жареных поросят, холодца, бутылок шампанского. Один из осетров на второй день съемки безвозвратно исчез. “Упал и разбился. Сактировали”, – скупо пояснил директор картины, а трудящиеся Малоярославца дня три наслаждались дореволюционной осетриной в местной столовке.
…И внезапно в кадр вошла хрупкая седенькая старушка с авоськой в руке, в которой покачивались два плавленых сырка и бутылка кефира. Старушка тихохонько, бочком пробиралась между гогочущими купцами в цилиндрах и шубах на хорьковом меху, между городовыми с молодецки закрученными усами, пока ее не схватила вездесущая рука второго режиссера».
Он считал эту работу главным событием 1978 года. Но было и другое.
Произошло то, что произошло: они расстались с Галей. Началось скучное: бракоразводный процесс. Он оставил им с Петей квартиру на Котельнической, переехав на Кутузовский проспект, в один из домов гостиничного комплекса «Украина», где разместил кое-что из прошлой жизни: картины, книги.








