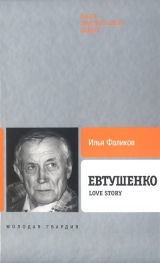
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 49 страниц)
Возможно, в образ Коломейцева и его жизненный путь, вплоть до рождения неузнанного сына, Евтушенко вкладывает образ собственного отца, перевернув его с ног на голову: мягкий характер – на каменную несгибаемость, любвеобилие – на бесчувственность.
Последняя редакция романа начинается с портрета ягодного уполномоченного Тихона Тихоновича Тугих, который «деятельно сновал около обшарпанного грузовика с откинутыми бортами, мешая своими ценными указаниями грузчикам, взваливавшим в кузов пустые деревянные чаны для ожидаемых ягод, мешки с сахаром, новенькие цинковые ведра с еще не отодранными наклейками» – утварь, которую, случись у романа теперешний молодой читатель, он и в глаза не видал, как и фигурирующих в романе коробов, туесов и ковшей. Даже стограммовые граненые стаканчики из обихода ушли. В подробностях Евтушенко, как правило, интересен и знающ.
А для семидесятых отправка грузовика в тайгу описана динамично и достоверно. Собираются будущие попутчики, их не так много, но каждый из них по ходу действия обрастет биографией с включенными в нее нужными автору для повествования людьми, начинает размышлять, вспоминать важные для себя моменты – число персонажей, которые пока за кадром, так или иначе причастные к этому движению, начнет прибывать в геометрической прогрессии.
За баранкой сидит шофер Гриша, роль его в романе эпизодическая, но сама функция важная: производить движение. Рядом с ним сидит таежная красавица Ксюта с только что народившимся ребенком на руках. Она едет «броситься в ноги» отцу, который выгнал ее, узнав, что она беременна. Отец ребенка не знает ни ее имени, ни того, чем обернулась гроза, от которой они скрылись знойным летом в стоге сена. Он – начальник экспедиции. Его пути с Ксютой больше не пересекутся.
В кузове сидят ягодный уполномоченный, старичок-грибничок и геологический парень с сумкой «Аэрофлот».
История Ксюты наводит уполномоченного на личные воспоминания: повествование, фокусируясь на нем, возвращается в прошлое, в 1920-е годы. Он, тогда комсомолец Тиша, «брошен на раскулачивание мироедов в верховьях Лены».
Он не в силах помешать раскулачиванию зажиточных Залоговых, любя Дашу, девушку из этой семьи, и тайно встречаясь с ней.
Евтушенко кинематографически эпичен:
«Первой на баржу взошла старуха Залогина с иконой, следом сыновья и невестки с мешками, в одном из которых визжал поросенок, двое мальчишек тащили самовар, а глава семьи нес под мышкой застекленное собрание семейных фотографий. Севастьян Прокофьич сказал, встав на носу баржи: “Не поминайте лихом!” – и баржа двинулась. Никто ни из провожающих, ни из залогинской семьи не плакал – все было отплакано под самогон да под заколотую телку. Тиша смотрел с берега на баржу. Видел, как трепыхается вдали Дашин платочек, и ему не хотелось жить. На воде у берега еще некоторое время покачивались перья, ссыпавшиеся с залогинских подушек, потом их снесло течением…
Тиша решил отойти от общественной жизни, подался на лесосплав в Саяны, абы куда подальше, старался забыть про все, что случилось в Тетеревке, но выковырять чувство вины не мог. В одной из редко попадавших на лесосплав газет Тиша прочел дотоле неизвестное ему слово “перегиб” и подумал: какое это верное слово, но только ничего из того, что перегнуто, уже обратно не разогнешь. Однажды, перепрыгивая с бревна на бревно и распихивая багром образовавшийся на реке залом, Тиша оскользнулся. Его сильно сдавило бревнами. Покалечило. Много он сменил работ, но почему-то все больше по части заготовок, пока, наконец, не стал ягодным уполномоченным, в котором нельзя было узнать прежнего Тишу.
Жену Тихон Тихонович выбрал из торговой системы – удобную для семейного достатка. Детей у них не случилось, любви больше тоже не было…
Хотя никакой вины перед стариком Беломестных за Ксюту у Тихона Тихоновича не было, он побаивался разговора с ним. Как будто предстояло держать ответ перед стариком Залогиным за Дашу. Грузовик с ягодным уполномоченным, с его перепутанными мыслями о прошлом, с «ессенцией», обнятой его милицейскими галифе, с Ксютой и ее безотцовным ребенком, со старичком-грибничком, с геологическим парнем и шофером Гришей двигался по направлению к Белой Заимке.
А места вокруг были красивые – одно слово, ягодные места».
Основные трудности в борьбе с цензурой Евтушенко претерпел как раз на местах отнюдь не ягодных: на теме раскулачивания.
Весьма непрост второй пожилой пассажир грузовика: «…сам старичок-грибничок, в миру Никанор Сергеевич Бархоткин, был вроде художника, но говорить об этом не любил». К теперешним семидесяти пяти за плечами у него были белые, запоровшие на его глазах насмерть двух земляков-зиминцев, и он ушел к красным. Когда вернулся в Зиму, советская власть установилась окончательно, а отца его к тому времени расстреляли за сотрудничество с белыми. Потом ему припомнили царские портреты, которые он рисовал мальчишкой, расстрелянного отца, службу в белой армии.
«На долгий срок оказался он на Дальнем Востоке – сначала работал на лесоповале. Потом на строительстве железнодорожной ветки, и если что рисовал, так только лозунги и плакаты, от портретов якобы по неспособности отказывался. Много хороших людей попадалось там Никанору, и немало умных разговоров пришлось ему выслушать где-нибудь у костра».
Среди этих хороших людей оказался пленный японец, Курода-сан, художник, родом из Хиросимы (куда уже была сброшена бомба). Куроду и Никанора отпустили по домам. Рисунки, сделанные японцем в России, на родине у него отобрали. В Хиросиме погибли все его близкие. Никанор занялся выгодным делом – рисовал лебедей на клеенке. Заработал на постройку дома. Семью заводить не стал, решил, что поздно. Однажды Курода напомнил ему о себе – прислал альбом с репродукциями и письмо.
«Никанор Сергеевич ожидал увидеть в книге старые, знакомые ему рисунки, но не нашел их, а увидел репродукции новых картин Куроды, где были изображены люди, бегущие по улицам в отблесках кровавого пламени, груды искореженных тел, широко раскрытые от ужаса глаза детей, и понял, что это Хиросима.
Никанор Сергеевич посмотрел еще раз на картины Куроды, потом на своих лебедей…<…> хуже не было для него момента, когда где-нибудь в крестьянской избе натыкался он взглядом на своих лебедей, гордо изгибающих шеи на фоне кипарисов…»
В романе действуют двадцатилетний Сережа Лачугин и его однокашник школьный поэт Костя Кривцов, от школы их отделяют всего два-три года, юношеский опыт еще не вытеснен взрослой жизнью.
«В квартире Лачугиных Кривцов сначала растерялся перед царством книг. <…>
– Полные комплекты “Весов” и “Аполлона” – это редкость. Я, конечно, знал, что такие журналы были, но в руках еще не держал… Ого, “Камень” Мандельштама… А я за однотомником Мандельштама всю ночь простоял в Лавке писателей. И не досталось. Все-таки я его добыл на Невском за полсотни у спекулянтов.
– Откуда у тебя такие деньги, Кривцов? – поразился Сережа.
– А я у мебельного магазина подработал – стулья, столы и шкафы таскал с одним парнем на пару. Тахта одна попалась зверски тяжелая… Но Мандельштам у меня зато теперь есть…
– А тебе его стихи нравятся?
– В чем-то он меня разочаровал. Не мой поэт. Но писал сильно. Знать надо все, чтобы не повторять.
– А кого ты из современных поэтов любишь, Кривцов?
– Пушкина.
– Нет, ты меня не понял, я про современных спрашиваю.
– А он и есть самый современный.
– Нет, я про современных, в смысле – живых.
– А он и есть самый живой.
– А Вознесенский?
– Здорово пишет. Я так не умею. Но и не хочу так. У него женщину в машине бьют, а он красивые образы накручивает: “И бились ноги в потолок, как белые прожектора”. Если при тебе бьют женщину, надо дать подлецу в морду, а не ногами любоваться.
– А Евтушенко?
– Это тоже уже пройденный этап. Смотри-ка, у тебя все первые издания Гумилёва. Я его не читал – его ведь не переиздают. Ух ты, здорово:
В оный день, когда над миром новым
Бог свое лицо склонил, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
Чем-то с Маяковским перекликается:
Я знаю силу слов, я знаю слов набат…
Там особенно крепко в конце: “И подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки…” Какое “з” – прямо как металл звенит! А дальше у Гумилёва хуже. Красивовато слишком. Впрочем, у Блока тоже много плохих стихов. “Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук” – это же обыкновенная пошлятина. “Скифы” – вообще не русские стихи. Мы не скифы и не азиаты. А что-то другое. Зато “Вольные мысли”, “Возмездие”, “Двенадцать” – это да! А вот у Ахматовой плохих стихов совсем нет. Но Цветаева мне все равно нравится больше. У нее все вибрирует, как в башне высоковольтного напряжения. Ее однотомник мне на три дня дали, я три ночи не спал, на машинке перепечатывал. Отец мне машинку купил на заводскую премию. “Может, из тебя чего получится”, – сказал.
– А из тебя получится? – спросил Сережа осторожно.
– Не знаю, – вдруг смертельно побледнел Кривцов. – Мне уже много лет – целых шестнадцать».
Таковые разговоры происходят на страницах таежного романа. Возникший по ходу текста в прозаике Евтушенко эссеист Евтушенко не удержался от изложения взглядов поэта Евтушенко.
Задача геологической экспедиции в романе – найти касситерит. Роман заканчивается эпизодом находки минерала. Правда, за концом повествования следует «Пролог», посвященный Циолковскому. По сути отдельная замечательно и достоверно написанная новелла в том, что касается ученого. Но автор отдает дань предпостмодернистскому времени – вносит сюда сюрно-фантастический элемент: во времена Циолковского Землю посещают два космических путешественника, посланные Галактикой Бессмертных, супружеская пара Ы-Ы и Й-Й. Они одобрительно наблюдают за каждым шагом Циолковского, и он своей сущностью внушает им уверенность в благополучном будущем планеты…
«Ы-Ы и Й-Й нежно прижались друг к другу, и от их соприкосновения молниеносно родилась третья крохотная блестка – их ребенок, знавший уже больше, чем они. Ы-Ы и Й-Й подхватили новорожденного галактианина и понеслись вместе с ним на свою далекую родину.
Циолковский шел домой мимо коров, возвращающихся с луга, и слушал мерное побрякивание их колокольцев… Он вообще прекрасно слышал, но об этом мало кто знал (оригинальная гипотеза. – И. Ф.).
…Это будет совсем другая цивилизация, другое человечество. Они совсем по-новому оценят красоту земли, вкус каждой ее ягоды…»
Сережа и Кеша, местный участник экспедиции, находят касситерит, забывая впопыхах приблудный транзистор, из которого «радио над Буйным перекатом продолжало комментировать международные события…». Из передачи сообщений явствует, что идет середина августа 1973 года. За этой главой следует глава о Чили, где разворачиваются события, повторяемые мировым эхо…
«Для Кеши и Сережи, карабкающихся по таежным скалам в гудящих тучах мошки, вопрос жизни или смерти их товарищей был сейчас главным событием человечества, и кто бы мог их в этом обвинить? Мошка, забивающаяся в ноздри и уши, была для них реальностью, а самолет, летящий высоко над тайгой, где в руках пассажиров шуршали газеты со всеми якобы главными событиями мира, был только голубым непостижимым видением.
Кеша и Сережа, обламывая ногти о зазубрины скал, вылезли на вершину горы и обессиленно упали ничком. Когда они посмотрели вниз, то увидели Вороний перекат. Он был похож на водяное кладбище, а его мрачные валуны высились как надгробья. Вокруг валунов были белые кольца пены, сверху казавшиеся застывшими. Сквозь ветер, свистевший на вершине, шума реки не было слышно, и было даже трудно понять, движется она или не движется. Берег был пуст или казался пустым…»
Описание перекатов и форсирование геологами смертельно опасной реки – из лучших страниц этой вещи. Это было подготовлено стихами, написанными на Вилюе 21 августа 1973 года:
Смерть-Вилюй,
где люди – рыбам закусь.
Жизнь моя
лодчонкой сикось-накось
прет по пьянкам с матом
и похмельям,
как по перекатам
и по мелям,
по чужим и собственным порокам,
как по перекатам
и порогам.
(«Кривой мотор»)
Касситерит найден. Что дальше? Финал открыт, ответа нет.
Евтушенко набивает роман бесчисленными персонажами и всеми проблемами времени, мучающими его в данную секунду истории. Голубика произрастает на интеллигентской элоквенции некоторых персонажей, в частности «западника» и «славянофила». Несочетаемое сочетается, но условно – верить в правду этого романа может лишь тот читатель, кто заранее настроит себя на чтение поэта Евтушенко, творчество которого он принимает со всеми чертами чисто евтушенковской эклектики. Чужому читателю здесь нечего делать. В пользу этой прозы можно смело сказать – порой она превосходна безотносительно к тому, что ее пишет лирик.
«Вышедший в “Роман-газете” двухмиллионным тиражом роман был мгновенно распродан. Он был переведен на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, шведский, финский, норвежский, китайский, корейский и вышел в финал премии имени Хемингуэя вместе с победившим в последний момент романом замечательного перуанского писателя Марио Варгаса Льосы. Но и такое “поражение” было для меня, как для дебютанта прозы, большой честью».
Евгений Сидоров в своей книге «Евгений Евтушенко. Личность и творчество» (первое издание – «Советский писатель», 1987) говорит:
Роман поначалу не вызвал споров в критике. О нем одобрительно высказывались прозаики Валентин Распутин («Москва», № 7, 1981) и Георгий Семенов («Литературная газета», 1 января, 1982), критик Юрий Суровцев («Литературное обозрение», № 6, 1982). Книгу перевели на иностранные языки. Но в конце восемьдесят третьего вышел обширный и резкий отзыв в журнале «Вопросы литературы» (1983, № 10)… Статья В. Кардина «О пользе и вреде арифметики» изобилует точными фактами, изобличающими роман «Ягодные места». Но она неточна по интонации. В литературе же (в том числе и в критике) факты без верной интонации ничего не решают.
Филиппики В. Кардина по поводу языковой фальши романа Е. Сидоров частично разделяет, но говорит о сознательной подмене (у В. Кардина) авторской речи, не столь уж и ядреной, чрезмерно колоритным языком персонажей. Сказано в точку:
Евтушенко, на мой взгляд, нет нужды настойчиво доказывать читателю, что он свой, «зиминский корень». Но ему совершенно необходимо доказать, что он прозаик не хуже иных «деревенщиков», а вот это уже утопия. Фантастическая попытка сесть с ходу не в свои сани.
Местного колорита действительно многовато, и язык евтушенковских сибиряков («чо», «ничо», «чобы», «ишо») несколько утомляет.
А в стихах эта речь звучит легко и весело:
Когда истаивает свет,
то на завалинке чалдоночка
с милком тверда, как плоскодоночка:
«Однако спать пора – темнет…»
А парень дышит горячо.
«Да чо ты, паря? – «Я ничо»…»
«Ты чо – немножечко того?
Каво ты делашь?» – «Никаво».
«Ты чо мне, паря, платье мяшь?»
«А чо – сама не понимать?»
(«Родной сибирский говорок»)
Но – о чем же тогда писал Валентин Распутин, безусловный эксперт по всем, что называется, спорным вопросам романного приключения Евтушенко?
К сожалению, мы (как писатели, так и читатели) привыкли уже в литературе не только к устойчивым определениям жанров, но также и к неподвижным и малоподвижным формам жанров, когда роман, по нашим представлениям, может существовать лишь написанным по таким-то законам и единствам, повесть – по таким-то и рассказ – по таким-то… Этот роман невозможно втиснуть в прокрустово ложе привычного и замкнутого представления о романе… Я бы назвал «Ягодные места» агитационным романом в лучшем смысле этого слова.
Раз уж мы безнадежно забежали вперед, для завершения сюжета о «Ягодных местах» приведем и эти слова Валентина Распутина – из статьи «Слышу гул подземной Руси…» (Завтра. 1997. № 10):
Раскол был неизбежен – как и при всякой революции. Он вызывался антинациональной направленностью событий 89–91 годов. Если одна часть литературы, космополитическая, откровенно издевалась над всем национальным и даже над русским именем, а вторая составляла содержание и дух этого национального – какое тут может быть братание?! По телевидению была устроена бессменная вахта черниченок и евтушенок, чтобы ни на минуту не умолкал поток проклятий по адресу советского и русского… Раскол в литературе был неизбежен и, думаю, полезен…
Мы вновь упираемся в проблему литературной дружбы. На Вилюе было нормально, по-мужски, без выкрутасов и выходок; даже Целков, богема и бирюк, которого трудно поднять с места, охотно тянет свою часть общей лямки. В литературной среде всё иначе.
В октябре 1973-го Евтушенко пишет стихи, обращенные к Василию Аксенову. Когда-то они шли плечом к плечу, нераздельно, вплоть до членства в редколлегии «Юности» и в списке критикуемых. Свою «Москву-Товарную» в уже далеком прошлом Евтушенко часто читал на публике так: вместо «у них дискуссии и тут во всем размахе: о кибернетике, о Марсе, о Ремарке» – «о кибернетике, Аксенове, Ремарке». Это не отменяло его собственных прозаических амбиций, но Аксенов на поприще прозы для него был остросовременным автором номер один. Евтушенко не делил литературу на городскую и деревенскую, однако Аксенова воспринимал как русского европейца, если не американца (о, любовь к джазу!), джентльмена с ног до головы. Не могла не привлекать аксеновская жизнь, в которой были горькое детство, арестованные родители, героическая мать, магаданская страница отрочества-юности, мужское обаяние, элегантность и стильность одежды и поведения, а прежде всего – подлинный талант, острейшее чувство языка, традиционно-литературного и разговорно-современного.
Мне снится старый друг,
который стал врагом,
но снится не врагом,
а тем же самым другом.
Со мною нет его,
но он теперь кругом,
и голова идет
от сновидений кругом.
(«Старый друг»)
Впрочем, есть предположение, что это – о Луконине…
Сорокалетие оказалось поистине строгой порой. Старые дружбы трещали по швам, новые сближения не приносили ожидавшихся плодов. Отношения с Бродским перешли в предгрозовую фазу.
Тридцатого сентября 1973 года Роберт Конквест напечатал в «Нью-Йорк таймс» статью «Печальный случай Евгения Евтушенко». Серьезный советолог и литературный критик смотрит на поэта сугубо политико-социологически – о качестве евтушенковского стихотворства речи нет. Мысль Конквеста проста и не нова для Запада, но в США, пожалуй, артикулирована впервые. Советские писатели, недолго процветавшие при хрущевской оттепели, в определенное время выбрали два пути: молчаливо-оппозиционный солженицынский – и евтушенковский, означающий осторожную надежду и вялое стремление влиять на какие-то вопросы, пребывая на харчах хорошо вознаграждаемого сотрудничества с властями. Статья Конквеста произвела на Евтушенко гнетущее впечатление, и чуть не первое, о чем он спросил Бродского при скорой встрече: читал ли он эту статью? Нашел кого спрашивать.
Существует письмо Евтушенко Бродскому 1973 года. Оно недописано, оборвано на полуслове и, естественно, не отправлено. Нам важно увидеть, как мыслил эти отношения Евтушенко, как он хотел их выстраивать.
«Дорогой Иосиф!
Мы уже не виделись с тобой больше года. Не знаю, поверишь ты или нет, – твой отъезд был для меня огромной потерей – и человеческой, и литературной. Я хочу сказать этим, что, во-первых, я как-то очень близко стал чувствовать тебя в последнее время по-человечески, а во-вторых, конечно, наша поэзия сразу потускнела, потому что твое присутствие даже при трагическом непечатании стихов все время сильно ощущалось. Теперь ты далеко, и я даже не знаю где, – кажется, в Венеции (и мое письмо к тебе будет идти через многие руки). Женя Рейн <…> не успел мне показать твое последнее письмо со стихами и говорил, что они очень печальные. Впрочем, разве они были веселыми в России? Женя очень точно сказал мне, что твой отъезд из России – это замена одного вида трагедии – другим. Кстати, о Жене: ты, конечно, понимаешь, но все-таки, видимо, не представляешь, до какой степени он тебя любит и каким горем для него был твой отъезд. Из него как будто что-то вынули. На счастье, он человек по природе жизнелюбивый. Мы очень с ним сдружились со времени твоего отъезда, и он провожал меня в Японию. <…> Я по-прежнему с маниакальной настойчивостью добиваюсь создания нового журнала “Мастерская” (= «Лестница». – И. Ф.). Я хочу, чтобы Женя заведовал там поэзией – он идеальный для этого человек. М. б., мне удастся этот журнал все же получить, хотя многие меня отговаривают от такого неблагодарного занятия. Но мне больно видеть, как совсем молодые поэты и прозаики мечутся в беспомощности по редакциям, встречая часто полное сытое равнодушие.
В поэзии нашей нет ничего нового, экстраординарного. Правда, Женя Рейн пишет от стиха к стиху все лучше и лучше <…> он необыкновенно вырос как поэт, и ты молодец, что угадал это в то время, когда многие не принимали его всерьез. Живет он, правда, туго. <…>
Целков очень вырос – написал ряд новых прекрасных картин совершенно в ином, более реалистическом и в то же время более сконцентрированном качестве. Он героический человек. <…> Белла очень мало пишет и сильно придавлена бытом. <…>
Тебя все очень часто вспоминают и неизменно с чувством любви, смешанным с горечью, что тебя нет с нами, и вместе с тем с радостной надеждой, что тебе все-таки немножко лучше в каком-то смысле. Ради бога, не впутывайся только ни в какую политику, оставь ее мне. Я ее уже всю ненавижу, а она просто прилипла к моим подошвам, как тесто…»
Далее события развиваются в очень уж нежелательном направлении, что само по себе чревато неудержимым опять-таки забеганием вперед.
Евтушенко говорит: «Бродский, приехав в Америку, где по моей рекомендации профессору Альберту Тодду его уже ждало преподавание в Квинс Колледже, к моему потрясению, начал распространять слухи о том, что я принимал участие в его “выпихивании” из СССР в эмиграцию. Евгений Рейн в интервью Татьяне Бек утверждает, что эту версию Бродскому внушил писатель-эмигрант Владимир Марамзин. Так было или не так, но семя клеветы пало на благодатную почву. Профессор Тодд уверял меня, что во всех случаях в этой клевете участвовал КГБ, одним из методов которого было компрометировать тех, кто отказывался от сотрудничества с ним, слухами о сотрудничестве. Мы встретились с Бродским с глазу на глаз в Нью-Йорке».
Евтушенко передает такой разговор с Бродским во время этой встречи:
«– Как ты мог говорить, что я участвовал в том, как тебя насильно выпихивали с родины?
Он ощетинился:
– Но ты же сам красноречиво поведал, как ты был практически консультантом КГБ по моему вопросу.
– То есть?
– Ты сам признался, что посоветовал им не мучить меня напоследок…
– Если на другой стороне улицы милиционер бьет ногами в живот женщину, а я закричу ему: “Не троньте ее, она беременна!” – это что же, означает, что я – консультант милиции?»
Бродский эту встречу описывает в диалогах с Соломоном Волковым.
Волков:А как дальше развивались ваши отношения с Евтушенко?
Бродский:Дело в том, что у этой истории (московская встреча-прощание 1972 года. – И. Ф.)были еще и некоторые последствия. Когда я только приехал в Америку, меня пригласили выступить в Куинс-колледже. Причем инициатива эта принадлежала не славянскому департаменту, а департаменту сравнительного литературоведения. Потому что глава этого департамента, поэт Пол Цвайг, читал меня когда-то в переводах на французский. А славянский департамент – куда же им было деваться… И мы приехали – мой переводчик Джордж Клайн и я – сидим на сцене, а представляет нас почтенной публике глава славянского департамента Берт Тодд (он и организовал это мероприятие, взяв Бродского под опеку по просьбе Евтушенко. – И. Ф.).А он был самый большой друг Евтуха, такое американское alter ego Евтуха. Во всех отношениях. И вот Берт Тодд говорит обо мне: «Вот каким-то странным образом этот человек появился в Соединенных Штатах…» То есть гонит всю эту чернуху. Я думаю: ну ладно. Потом читаю стихи. Все нормально. «Нормальный успех, стандартный успех» – кто это говорил? После этого на коктейль-парти ко мне подходит Берт Тодд:
– Я большой приятель Жени Евтушенко.
– Ну вы знаете, Берт, приятель ваш говнецо, да и от вас воняет!
И пересказал ему в двух или трех словах всю эту московскую историю. И забыл об этом. Проходит некоторое время. Я живу в Нью-Йорке, преподаю, между прочим, в Куинс-колледже. Утром раздается телефонный звонок, человек говорит:
– Иосиф, здравствуй!
– Это кто говорит?
– Ты уже забыл звук моего голоса?! Это Евтушенко! Мне хотелось бы с тобой поговорить!
Я говорю:
– Знаешь, Женя, в следующие три дня я не смогу – улетаю в Бостон. А вот когда вернусь…
Через три дня Евтушенко звонит, и мы договариваемся встретиться у него в гостинице, где-то около Коламбус Серкл. Подъезжаю я на такси, смотрю – Евтух идет к гостинице. Замечательное зрелище вообще-то. Театр одного актера! На нем то ли лиловый, то ли розовый пиджак из джинсы, на груди фотоаппарат, на голове большая голубая кепка, а в обеих руках по пакету. Мальчик откуда-то из Джорджии приехал в большой город! Но, главное, это все на публику! Ну это неважно… Входим мы в лифт, я помогаю ему с этими пакетами. В номере я его спрашиваю:
– Ну чего ты меня хотел видеть?
– Вот, Иосиф, люди здесь, которые раньше работали на мой имидж, теперь начинают работать против моего имиджа. Что ты думаешь о статье Роберта Конквеста в «Нью-Йорк Таймсе»?
А я таких статей не читаю и говорю:
– Не читал, понятия не имею.
Но Евтушенко продолжает жаловаться:
– Я в жутко сложном положении. В Москве Максимов меня спрашивает, получил ли я уже звание подполковника КГБ, а сталинисты заявляют, что еще увидят меня с бубновым тузом между лопаток.
Я ему на это говорю:
– Ну, Женя, в конце концов, эти проблемы – это твои проблемы, ты сам виноват. Ты – как подводная лодка: один отсек пробьют…
Ну такие тонкости до него не доходят. Он продолжает рассказывать, как они там в Москве затеяли издавать журнал «Мастерская» или «Лестница», я уж не помню, как он там назывался, – и уж сам Брежнев дал «добро», а потом все застопорилось.
Я ему:
– Меня, Женя, эти тайны мадридского двора совершенно не интересуют, поскольку для меня все это неактуально, как ты сам понимаешь…
Тут Евтух меняет пластинку:
– А помнишь, Иосиф, как в Москве, когда мы с тобой прощались, ты подошел ко мне и меня поцеловал?
– Ну, Женя, я вообще-то все хорошо помню. И если говорить о том, кто кого собирался поцеловать…
И тут он вскакивает, всплескивает руками и начинается такой нормальный Федор Михайлович Достоевский:
– Как! Как ты мог это сказать: кто кого собирался поцеловать! Мне страшно за твою душу!
– Ну, Женя, о своей душе я как-нибудь позабочусь. Или Бог позаботится. А ты уж уволь…
Тут Евтушенко говорит:
– Слушай, ты рассказал Берту Тодду о нашем московском разговоре… Уверяю тебя, ты меня неправильно понял!
– Ну если я тебя понял неправильно, то скажи, как звали человека, с которым ты обо мне разговаривал в апреле 1972 года?
– Я не могу тебе этого сказать!
– Хочешь, на улицу выйдем? На улице скажешь?
– Нет, не могу.
– Чего ж я тебя неправильно понял? Ладно, Женя, давай оставим эту тему…
– Слушай, Иосиф! Сейчас за мной зайдет Берт и мы пойдем обедать в китайский ресторан. Там будут мои друзья, и я хочу, чтобы ты ради своей души сказал Берту, что ты все-таки меня неправильно понял!
– Знаешь, Женя, не столько ради моей души, но для того, чтобы в мире было меньше говна… почему бы и нет? Поскольку мне это все равно…
Мы все спускаемся в ресторан, садимся, и Евтушенко начинает меня подталкивать:
– Ну начинай!
Это уж полный театр! Я говорю:
– Ну, Женя, как же я начну? Ты уж как-нибудь наведи!
– Я не знаю, как навести!
Ладно, я стучу вилкой по стакану и говорю:
– Дамы и господа! Берт, помнишь наш с тобой разговор про Женино участие в моем отъезде?
А он тупой еще, этот Тодд, помимо всего прочего. Он говорит: «Какой разговор?» Ну тут я опять все вкратце пересказываю. И добавляю:
– Вполне возможно, что произошло недоразумение. Что я тогда в Москве Женю неправильно понял. А теперь, дамы и господа, приятного аппетита, но я, к сожалению, должен исчезнуть.
(А меня, действительно, ждала приятельница.) Встаю, собираюсь уходить. Тут Евтух хватает меня за рукав:
– Иосиф, я слышал, ты родителей пытаешься пригласить в гости?
– Да, представь себе. А ты откуда знаешь?
– Ну это неважно, откуда я знаю… Я посмотрю, чем я смогу помочь…
– Буду тебе очень признателен.
И ухожу. Но история не кончается.
История действительно не кончается.
«В конце концов Бродский в присутствии моих американских друзей попросил у меня извинения за распространение этих лживых слухов. Тем не менее, когда меня выбрали почетным членом Американской академии искусств (1987 год. – И. Ф.), он в знак протеста вышел из нее. Его объяснение было таким: “Евтушенко не представляет русскую поэзию”. Ему ответил один из членов академии: “Никакой поэт в отдельности не может представлять собой всю поэзию”».
Тем не менее Евтушенко – через того же Альберта Тодда – вел с Бродским переговоры о включении его стихов в американский вариант антологии русской поэзии XX века. Бродский поставил условие собственного отбора. Это было против составительских правил Евтушенко, но он согласился. Бродский не предложил ни одного стихотворения, написанного в России. Он представил «весьма университетские, весьма западные» вещи, составителя оставившие прохладным.
Вышедшая антология, как передавали Евтушенко, на Бродского произвела впечатление.
В русском варианте антологии Евтушенко к авторскому отбору Бродского прибавил свой. Кроме того, сделал о нем большую телепередачу, ни словом не коснувшись личных преткновений.
Евтушенко просил Романа Каплана, друга Бродского, передать Иосифу, что согласен распить с ним бутылку водки и забыть черных кошек, пробежавших между ними. Бродский сказал «нет» без комментариев.
Последний раз Евтушенко видел живого Бродского, когда однажды заглянул в ресторан «Русский самовар», принадлежавший Бродскому совместно с Капланом и Михаилом Барышниковым. За столиком Каплана сидел человек в пальто, втянувший голову в воротник, напоминая горбуна. Евтушенко, сев за стойку бара, вдруг увидел в зеркале: Бродский. Евтушенко пил вино, Бродский оставался недвижим. Они просидели в такой позиции не меньше получаса.
«Он сильно постарел, как, впрочем, и я. Мне было не по себе. У меня было чувство, что я вижу его в последний раз. Так оно и случилось».








