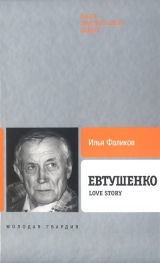
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
Полный вариант романа «Бабий Яр» вышел в издательстве «Посев» (1970). Особой писательской плодовитости Кузнецов на Западе не явил. Он штатно фигурировал на радио «Свобода» и печатался под именем А. Анатоль, начисто порвав с прошлым вплоть до прежнего имени. Ровно через десять лет после побега прошел ложный слух о том, что он погиб в ДТП. Нет, он умер от разрыва сердца, готовя кофе на домашней кухне в Лондоне.
Отношение Евтушенко к этой разбитой жизни было неоднородным. «Но я ему все равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привел меня к Бабьему Яру».
Счет потерь неумолимо рос.
В августе 1969 года угас Марк Бернес. Песню «Хотят ли русские войны» пели Краснознаменный ансамбль им. Александрова, а также лучшие советские певцы – Георг Отс, Юрий Гуляев, Артур Эйзен, Муслим Магомаев. Но слух народа выделил и запомнил бернесовское исполнение. Это было логично, ибо логос не чужд мелосу. Это ведь Бернес, не приняв первоначальную мелодию Колмановского на евтушенковские стихи, настоял на появлении второго варианта, и он оказался тем самым, бернесовским. Лучшие басы и баритоны пели, по сути, «под Бернеса», никакого не певца.
Двадцать восьмого октября скончался Корней Иванович Чуковский. Их связывало многое. Феноменальность свидетельского дара Чуковского охватила и это новое переделкинское соседство. Евтушенко получил дачу на улице Гоголя, 1. В общем-то, это недалеко от дачи Чуковского на Серафимовича, 3. Чуковский записал некоторые страницы евтушенковской жизни подробней и внимательней, чем сам Евтушенко, свой лучший биограф, у которого сказано:
«Мой первый сын Петя долго, около полутора лет, почти не разговаривал. Придя в отчаянье, я решил попросить помощи у Корнея Ивановича Чуковского – автора классической книги о языковой психологии раннего детства, хотя именуется она вовсе не так учено: “От двух до пяти”.
Корней Иванович не отказал и вскоре прибыл ко мне в гости в старомодном башлыке времен Первой мировой войны, в овчинной, чуть ли не ямщицкой шубе и валенках. В руках у него была картонная коробка, внутри которой оказалась английская игрушка внуков – небольшой локомотив на батарейках, добросовестно выпускающий черный дым из трубы. Чуковский удалился с Петей в отдельную комнату, а примерно через час появился и ласково спросил:
– Петя, расскажи папе, почему ты так долго не разговаривал?
Петя потупился и выдавил, к моему ошеломлению:
– А потому что я стеснялся…
После смерти Корнея Ивановича, перелистывая двухтомник его дневников, я неожиданно нашел вот это:
“Я лежал больной в Переделкине и очень тосковал, не видя ни одного ребенка. И вдруг пришел милый Евтушенко и привез ко мне в колясочке своего Петю. И когда он ушел, я состряпал такие стихи:
Бывают на свете
Хорошие дети,
Но вряд ли найдутся на нашей планете
Такие, кто был бы прелестнее Пети,
Смешного, глазастого, милого Пети.
Я, жалкий обломок минувших столетий,
Изведавший смерти жестокие сети,
Уже в леденящей барахтался Лете,
Когда сумасшедший и радостный ветер
Ворвался в мой дом и поведал о Пете,
Который, прибыв в золоченой карете,
Мне вдруг возвестил, что на свете есть дети,
Бессмертно веселые, светлые дети.
И вот я напряг стариковские силы
И вырвался прочь из постылой могилы… <…>”.
Что же осталось там, за этими таинственными скобками, а?»
Ничего своего лирик не прячет, у лирики нет таких скобок. Редкостной изобразительности евтушенковского «Серебряного бора» – возможно, лучшего стихотворения 1969 года – соответствует новизна самого стиха, в котором Евтушенко, кажется, впервые перемежает зарифмованное с безрифменным, впуская в свой арсенал белый пятистопный ямб от Пушкина до Луговского. Его «Серебряный бор» столь же распахнут, сколь высок, как стихи.
И все-таки решившийся на все,
кричу тебе: «Любимая, неужто
семья – лишь соучастие в убийстве
любви?
Возможно, так бывает часто,
но разве это все-таки закон?
Взгляни – пушистый, словно одуванчик,
смеется наш белоголовый мальчик —
я не хочу, чтоб в это верил он!..»
Сумасшедший и радостный ветер – таким был Евтушенко в глазах замечательного старика. Собственно, о нем Чуковский стал размышлять задолго до того.
Того еще не было в проекте.
Корней Чуковский, 1920-й, статья «Ахматова и Маяковский»:
Наша эпоха революций и войн приучила нас к таким огромным цифрам, что было бы странно, если бы поэты, отражающие нашу эпоху, не восприняли и не ввели в обиход тех тысяч, миллионов, миллиардов, которыми ныне явственно орудует жизнь. Со всех концов на арену истории, вызванные войною, вышли такие несметные полчища людей, вещей, событий, слов, денег, смертей, биографий, что понадобилась новая, совсем другая арифметика, небывалые доселе масштабы. Не потому ли Маяковский поэт грандиозностей, что он так органически чует мировую толпу, чует эти тысячи народов, закопошившиеся на нашей планете, пишет о них постоянно, постоянно обращается к ним, ни на минуту не забывает о их бытии… <…>
Ахматова в своих стихах не декламирует. Она просто говорит, еле слышно, безо всяких жестов и поз. Или молится – почти про себя. В той лучезарно-ясной атмосфере, которую создают ее книги, всякая декламация показалась бы неестественной фальшью. Признаюсь, что меня больно укололи два ее александрийские стиха, столь чуждые всему ее творчеству:
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так ангел смерти ждет у рокового ложа.
Мне показалось, что Ахматова изменила себе, что эти парижские интонации и жесты она, в своем тверском уединении, могла бы предоставить другим.
Я потому заговорил об этих строках, что они у нее исключение. Вообще же ее книгу («Белая стая». – И. Ф.)нужно читать уединенно и тихо: от публичности она много теряет. А в Маяковском каждый вершок – декламатор. Всякое его стихотворение для эстрады. У прежних писателей были читатели, а Маяковский, когда сочиняет стихи, воображает себя перед огромными толпами слушателей. По самому своему складу его стихи суть взывания к толпе… <…>
Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. Если из русского прошлого могла возникнуть поэзия Ахматовой, значит, оно живо и сейчас, значит, лучшее, духовнейшее в нем сохранилось для искусства незыблемо. Не все же в маяковщине хаос и тьма. Там есть свои боли, молитвы и правды. Этот синтез давно предуказан историей, и чем скорее он осуществится, тем лучше. Вся Россия стосковалась по нем. Порознь этим стихиям уже не быть, они неудержимо стремятся к слиянию. Далее они могут существовать только слившись, иначе каждая из них неизбежно погибнет.
Судя по всему, старик Чуковский полагал, что Евтушенко и есть этот синтез. Однако волнует его больше то, что актуально, то есть маяковская часть Евтушенко. Возможность листовок для тюрем.
Евтушенко верен Маяковскому, но пространство его приоритетов определенно расширяется. У него есть беспощадное во многом рассуждение о парадоксе поэта в чистом виде: «Я часто спрашиваю себя – почему именно Мандельштам, совершенно не политический поэт, стал первым, написавшим стихотворение о Сталине, подобное персту, указующему на убийцу, прячущегося под добродушной улыбкой отца нации? Потому, может быть, что Мандельштам был только поэтом и никем больше, то есть незащищенным не только от внешнего мира, но и от собственных неудержимых, самых рискованных порывов. Мандельштам не был застрахован ни надменным аристократизмом Ахматовой, ни кокетливой аристократичностью Пастернака. Пастернак играл в ребенка. Мандельштам был им».
Я тоже потерял в себе ребенка.
Не омрачайся, чудо соверши,
поэзия моя – моя клеенка,
дитя базара и дитя души!
(«В той комнате»)
Так что́ – Мандельштам? В нем исток и сходство? Евтушенко говорит без ложной скромности: «Поэт, который когда-то первым сказал, что Сталин убийца, – погиб в Сибири. Поэт, который первым через тридцать лет снова сказал, что Сталин убийца, – родился в Сибири».
Памяти Чуковского он пишет «Паруса».
Вот лежит перед морем девочка.
Рядом книга. На буквах песок.
А страничка под пальцем не держится —
трепыхается, как парусок.
Море сдержанно камни ворочает,
их до берега не докатив.
Я надеюсь, что книга хорошая —
не какой-нибудь там детектив.
Я не вижу той книги названия —
ее край сердоликом прижат,
но ведь автор – мой брат по призванию
и, быть может, умерший мой брат.
И когда умирают писатели —
не торговцы словами с лотка, —
как ты чашу утрат ни подсахари,
эта чаша не станет сладка.
Но испей эту чашу, готовую
быть решающей чашей весов,
в том сраженье за души, которые,
может, только и ждут парусов.
Не люблю я красивых надрывностей.
Причитать возле смерти не след.
Но из множества несправедливостей
наибольшая – все-таки смерть.
Я платочка к глазам не прикладываю,
боль проглатываю свою,
если снова с повязкой проклятою
в карауле почетном стою.
С каждой смертью все меньше мы молоды,
сколько горьких утрат наяву
канцелярской булавкой приколото
прямо к коже, а не к рукаву.
Наше дело, как парус, тоненько
бьется, дышит и дарит свет,
но ни Яшина, ни Паустовского,
ни Михал Аркадьича нет.
И – Чуковский… О, лучше бы издали
поклониться, но рядом я встал.
О как вдруг на лице его выступило
то, что был он немыслимо стар.
Но он юно, изящно и весело
фехтовал до конца своих дней,
Айболит нашей русской словесности,
с бармалействующими в ней.
Было легкое в нем, чуть богемное,
но достойнее быть озорным,
даже легким, но добрым гением,
чем заносчивым гением злым.
И у гроба Корнея Иваныча
я увидел – вверху над толпой
он с огромного фото невянуще
улыбался над мертвым собой.
Сдвинув кепочку, как ему хочется,
улыбался он миру всему
и всему благородному обществу,
и немножко себе самому.
Будет столько меняться и рушиться,
будут новые голоса,
но словесность великая русская
никогда не свернет паруса.
…Даже смерть от тебя отступается,
если кто-то из добрых людей
в добрый путь отплывает под парусом
хоть какой-то странички твоей…
Здесь и общая с Чуковским привязанность к Некрасову, и воспоминание о «Курином боге», и тот самый идеализм, из которого, может быть, рождаются тексты листовок.
В шестидесятых в пионерском журнале «Костер» – у Льва Лосева, работавшего там, – Бродский напечатал свой перевод песни битлов «Yellow Submarine» – «Желтая подлодка».
В нашем славном городке
Жил один моряк седой.
Он бывал в таких местах,
Где живут все под водой.
И немедленно туда
Мы поплыли за звездой
И в подводной лодке там
Поселились под водой.
2 раза: Есть подлодка желтая у нас,
желтая у нас,
желтая у нас.
Мы живем внутри воды.
Нет ни в чем у нас нужды.
Синь небес и сильный зной
Подружились с желтизной.
Между прочим, это чуть ли не единственное стиховое пересечение Бродского с Евтушенко: с его «Балладой о пятом битле» (2007).
В желтой субмарине,
в желтой субмарине
четверо мальчишек-англичан
флотский суп варили,
черт-те что творили,
подливая в миски океан.
В общем, шло неглупо
сотворенье супа
из кипящих музыкальных нот,
и летели чайками
лифчики отчаянно,
и бросались трусики в полет.
Рык ракет был в роке.
Битлы всей Европе
доказали то, что рок – пророк.
Спицы взяв и шпульки,
мамы-ливерпульки
свитера вязали им под рок.
Ринго Старр, Джон Леннон
чуть не на коленях
умоляли зал: «Be kind to us!
Нам не надо столько
воплей и восторга.
Мамы так хотят послушать нас!»
Но ливерпульчата
словом непечатным
не посмели обижать людей.
Если уж ты идол,
то терпи под игом
обо-жа-те-лей!
А одна девчонка —
битловская челка,
от стихов моих сходя с ума,
начитавшись вволю,
подарила Полю
по-английски «Станцию Зима».
Стал искать Маккартни
на всемирной карте
станцию мою карандашом,
где я уродился,
как в тайге редиска,
и купался в речке нагишом.
Вот мне что обидно —
вроде пятым битлом
по гастролям с ними ездил я,
да вот не успели —
вместе мы не спели!
Но сегодня очередь моя!
Я во время оно
обнял Йоко Оно
над могилой Джона
в Сентрал-парке в городе Нью-Йорк.
Носом субмарина
к Джону ход прорыла
и прижалась, чуть скуля, у ног.
Ангелы не скажут,
где сегодня вяжут
мамы, вновь над спицами склонясь.
Им важнее, право,
дети, а не слава.
Мамы так хотят послушать нас!
Знают наши мамы:
все могилы – шрамы
нашей общей матери-земли.
В желтой субмарине,
в желтой субмарине,
в желтой субмарине
с битлами друг друга мы нашли!
Что общего между этими двумя вещами? Детство, если не детскость. Но не только. Евтушенко, естественно, притянул одеяло к себе и к своей теме шрамов матери-земли, но и Бродский высказался по-своему, а точнее, как ни странно, – по-евтушенковски: с подтекстом. Он сделал упор на желтизне, переведя стрелки на метафору существования своего поколения то ли внутри бульварщины определенного толка, то ли в прорве азиатчины. Возможно, есть тут и намек на еврейство: у Бродского ведь тогда было и стихотворение «Песенка о Феде Добровольском»:
Желтый ветер маньчжурский,
говорящий высоко
о евреях и русских,
закопанных в сопку.
………………………
И глядит на Восток,
закрываясь от ветра,
черно-белый цветок
двадцатого века.
Не исключено, что сами битлы под желтой субмариной подразумевали дзен-буддизм, отключение от суетного мира, уход в нирвану. Тем более что именно тогда Леннон произнес скандальную фразу: «Мы более популярны, чем Христос». Где-то рядом и версия о том, что желтая подлодка – психотропные таблетки желтого цвета.
Такова детская песенка, ее бесконечные круги по воде. Евтушенко исполняет эту вещь под фонограмму битлов, призывая зал подпевать ему в рефрене между строфами:
– В желтой субмарине, в желтой субмарине!..
Зал поет. И с удовольствием.
Не будет натяжкой и в этом случае вспомнить Ахматову:
Он наделен каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
И он ее со всеми разделил.
Ахматова говорит о Пастернаке.
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Дело о спектакле
Оно идет своим ходом. Воспроизводим одну из справок Московского горкома КПСС.
В начале 1970 года театр Драмы и комедии вновь обратился в Главное управление культуры с просьбой включить в репертуар пьесу Е. Евтушенко «Под кожей статуи Свободы». Однако и на этот раз Главк не счел возможным удовлетворить ее, так как литературный материал по-прежнему не отвечал необходимым идейно-эстетическим требованиям. В связи с этим главный режиссер театра Драмы и комедии Ю. Любимов обратился в Министерство культуры СССР (т. Воронков К. В.). Письмом на имя т. Дупака Н. Л. (директор театра) и Любимова Ю. П. министерство разрешило театру в виде эксперимента (как об этом просил т. Любимов Ю. П.) начать работу над этим спектаклем, с последующим представлением окончательного сценического варианта пьесы в Главное управление культуры исполкома Моссовета и Управление театров Министерства культуры СССР.
Копия этого письма была направлена начальнику Главного управления культуры Моссовета т. Покаржевскому Б. В.
6 июня с. г. театр Драмы и комедии пригласил на одну из репетиций этого спектакля представителей Министерства культуры СССР и Главного управления культуры исполкома Моссовета (товарищей Воронкова К. В., Голдобина В. Я., Покаржевского Б. В., Шкодина М. С. и др.). После репетиции состоялся обмен мнениями. Присутствующими было отмечено, что автор композиции и театр провели определенную работу по совершенствованию текста пьесы и сценическому решению. В результате в настоящее время большая часть спектакля имеет антиимпериалистическую направленность.
Вместе с тем в этой работе театра были отмечены и серьезные недостатки. В частности, было указано на необходимость более четкой классовой оценки изображаемых событий и явлений.
Автору композиции и театру было рекомендовано устранить ряд двусмысленных отрывков и эпизодов, в которых имело место смещение идейных акцентов в сторону пропаганды «общечеловеческих ценностей». Предложено также исключить из текста литературной композиции «Карликовые березы».
Как показал просмотр этого спектакля, состоявшийся 9 июня с. г., ряд пожеланий автором и театром были выполнены, что отмечалось присутствующими на просмотре. В то же время авторам спектакля вновь было высказано пожелание о необходимости дальнейшей доработки и уточнения идейных позиций спектакля.
12 июня с. г. состоялся просмотр спектакля с участием партийного актива Ждановского р-на столицы. Принять спектакль как завершенную работу Главное управление культуры исполкома Моссовета все же не сочло возможным, так как целый ряд замечаний и пожеланий остались невыполненными. Театру было отказано также в просьбе включить спектакль в гастрольный репертуар и показать его в Ленинграде.
Театр предполагает продолжить работу над этим спектаклем в новом театральном сезоне. Руководство театра и автор пьесы поставлены в известность, что спектакль будет принят только при условии полного выполнения всех критических замечаний, которые были высказаны на просмотрах спектакля.
Навстречу 100-летию Ленина народ поет шлягер «Хмуриться не надо, Лада» с рефреном «Нам столетья не преграда» (о, бодренький Эдуард Хиль):
– Нам столетье не преграда!
Свежий анекдот. Московский Второй часовой завод выпустил часы-кукушку, на которых из окошка каждый час выскакивает на броневичке Ильич с указующей ручкой и поет:
– Ку-ку!
В такой обстановке Евтушенко пишет «Казанский университет». Он опять дразнит гусей, балансирует на грани, ходит по краю.
Из семнадцати глав только в пяти мельком проскакивает или упоминается великий юбиляр. Эпиграф: «“Задача состоит в том, чтобы учиться”. В. И. Ленин». Кто против? Второй эпиграф: «“Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить”. К. Победоносцев».
Надо ли было огород городить?
Поэма? Собранье пестрых глав. Роман в стихах? Скорее – книга про интеллигенцию (= книга про бойца Твардовского).
Интеллигенция не морщится, потому как другого выражения лица у нее уже нет.
В некотором роде на какое-то время Евтушенко стал университетским поэтом. На самом деле нет ничего более чуждого евтушенковскому пониманию поэта, каковой, как известно, в России больше, чем поэт.
Еще в 1958-м он засвидетельствовал: интеллигенция поет блатные песни. Годом раньше и вовсе так («Интеллигенты, мы помногу…»):
Мы веселимся нервно, скупо.
Меж нас царит угрюмый торг,
царит бессмысленная скука
или двусмысленный восторг.
Он предпочитает простых людей:
Свободны, а не половинны
и выше ссор или невзгод
их свадьбы или именины
и складчина на Новый год.
Ну а, например, Вознесенский в шестидесятых, напротив, поет ей дифирамб:
Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.
Уж не говоря о «Лонжюмо» Вознесенского – поэме о Ленине.
Но спору – нет. Поэты сходятся на аналогичном истолковании исторической роли интеллигенции, включая ее продукт – литературу, и оба они недалеки от веховского (сборник «Вехи», 1909) хода мысли. Но у веховцев тут стоит минус, у советских поэтов плюс с восклицательным знаком.
Поэмой о Свободе Евтушенко отметил свои 36, неумолимо надвигаются 37 (фактически он уже прошел их), пушкинский возраст, но ему заранее мерещатся блоковские 40. Дело не в арифметике, хотя и в ней немножечко тоже. Маневр с якобы антиамериканской поэмой вышел боком, бьют с обеих сторон. Оксфордский удар – самый болевой.
А в родных пределах? Вот сценка. Спускается навстречу ему по цэдээловской лестнице молодежная компания, среди них Горбаневская. Ни поклона, ни кивка, вызывающий взгляд, исполненный презрения, руки демонстративно заложены за спину.
Он писал в ее защиту, ходил в кабинеты. Он сформулировал в стихах то, что она осуществила физически, за что пострадала. Много позже она выскажется, что ей «вообще вся деятельность Евтушенко малосимпатична».
Диссиденты. Он в общем и целом разделяет их тревоги, уже не раз вступался за пострадавших, он не принимает форм их борьбы. То есть он не примеряет эти формы на себя. Зачем ему, например, мысль об эмиграции? Отъезды вот-вот пойдут валом. Количество отказников становится критической массой.
Когда Горбаневская еще томилась в психушке, к нему приходила ее мать, просила о помощи. Он написал Андропову и, улетев в Австралию, на первом же выступлении в Канберре обнаружил, что на спинке каждого стула лежит листовка с душераздирающим описанием того, как Евтушенко выгнал рыдающую от горя старуху на мороз. Не успел вернуться – звонок из КГБ: согласно вашему письму на имя председателя комитета диссидентка такая-то освобождена из психбольницы. Но все это не считается. Вернее, это воспринимается диссидентами как игра с той, враждебной стороны, как соучастие в их изничтожении. Кое-кто определил его в нерукопожатные. Он ответил:
Вам, кто руки не подал Блоку,
затеяв пакостную склоку
вокруг «Двенадцати», вокруг
певца, презревшего наветы, —
вам не отмыть уже навеки
от нерукопожатья – рук.
…………………………………
Художник, в час великой пробы
не опустись до мелкой злобы,
не стань Отечеству чужой.
Да, эмиграция есть драма,
но в жизни нет срамнее срама,
чем эмигрировать душой.
………………………………
Поэт – политик поневоле.
Он тот, кто руку подал боли,
он тот, кто понял голос голи,
вложив его в свои уста,
и там, где огнь гудит, развихрясь,
где стольким видится Антихрист,
он видит все-таки Христа.
………………………………
Эй вы, замкнувшиеся глухо,
скопцы и эмигранты духа,
мне – вашим страхам вопреки —
возмездья блоковские снятся…
Когда я напишу «Двенадцать»,
не подавайте мне руки!
(«Вам, кто руки не подал Блоку»)
Позиция обозначена четко: он на стороне «великой пробы». Он – «политик поневоле». Обманные маневры неизбежны, но дело все-таки в «великой пробе», то есть в октябре 1917 года. Неистовый антисталинизм в нем уживается с Великим Октябрем, Ленин не антигерой, XX съезд благотворен, Хрущев черно-бел, но выпустил из тюрьмы полнарода. Поэт на стороне революции, тогда как диссидентство неуклонно идет к ее бескомпромиссному отрицанию.
Так что позиция по «чехословацкому вопросу» у него с ними одна, но если глубже – коренное несогласие, дело пахнет разными сторонами баррикады.
Дистанцируясь от диссидентов, действует Солженицын. Еще в мае 1967 года он разослал «Письмо съезду», то есть IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей:
Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных. За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, – запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным. Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искаженном виде.
А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент – смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер – и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.
Воистину сбываются пушкинские слова:
Они любить умеют только мертвых!
Интеллигенция взволновалась.
«В первую очередь “пражскую весну” подогрело известное письмо Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей, которое прочитали и в Чехословакии». В. П. Лукин, автор этих слов, в те дни находился в Праге.
Тогда же Солженицын пустил в самиздат романы «В круге первом» и «Раковый корпус», и на Западе они вышли, хотя и без его разрешения, но советская пропаганда начала яростную кампанию против него. Солженицына выгнали из Союза писателей. Кампания усилилась, когда его выдвинули на Нобелевскую премию. Американец Дин Рид, певец, актер, красавец и диссидент по-американски, был подключен к делу: отложив гитару, написал открытое письмо Солженицыну с осуждением его деятельности.
Евтушенко всецело на стороне Солженицына. Он мечет стрелы по адресу цензуры, сперва только якобы испанской, а в «Казанском университете» и отечественной, якобы прошловековой.
Евтушенко слушает голос голи. Что это – голос голи? В евтушенковском истолковании это молодой Пушкин, сказавший:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Голь осуществила «великую пробу». Инотолкования нет и быть не может. Требуется всерьез сказать об этом. Так возникает «Казанский университет».
Поэма уже подходит к горлу, переполненному предельной болью, предпоэмной, если не предсмертной, в форме веселого приглашения: «Приходите ко мне на могилу».
Я останусь не только стихами.
Золотая загадка моя
в том, что землю любил потрохами
и земля полюбила меня.
…………………………
Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур – брехня.
Приходите ко мне на могилу,
на могилу, где нету меня.
Зачин «Казанского университета» напрямую повторяет пастернаковского «Спекторского», где сказано от первого лица о рождении сына, бедственном положении семьи, и в связи с этим:
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.
Евтушенко:
Казань – пекарня душная умов.
Когда Казань взяла меня за жабры,
я, задыхаясь, дергался зажато
между томов, подшивок и домов.
Читал в спецзалах, полных картотек,
лицо усмешкой горькой исковеркав,
доносы девятнадцатого века
на идолов твоих, двадцатый век.
То есть, как видим, при похожем старте контуры финиша и условия дистанции были другими. Тем не менее Евтушенко встает за спину пастернаковского авторитета, начиная поэму именно так, берет предшественника в единомышленники. Это рассчитано на знающих людей, прямо говоря – на интеллигенцию, причем читающую стихи.
Пастернаковская лениниана, если спрямлять, состояла из первоначального восхищения явлением Ленина и заключительного предостережения, больше похожего на горько-сухую констатацию факта («Высокая болезнь»):
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Евтушенко дает по необходимости беглые портреты тех деятелей российского просвещения, которые тематически связаны волжским университетом – от попечителя Казанского округа Магницкого до Ильи Ульянова с его сыновьями. Это намерение написать такую предысторию революции, из которой вытекает ее необходимость, неизбежность и справедливое начало.
Но Евтушенко не был бы Евтушенко, кабы не использовал на материале библиотечных изысканий возможность остро поговорить о настоящем. На самом деле он подтягивает узнанное им к целям своей проповеди.
Его историческая интеллигенция действует не в отрыве от жизни простонародья и вообще российской действительности конца XIX века, над которой развернуты совиные крыла Победоносцева, – таким образом, и Блок взят в союзники.
Как это написано? Поспешно и блестяще.
Хвала террору («наивному»). Относительно Медного всадника, олицетворяющего государство:
Не раз этот конь
окровавил копыта,
но так же несыто
он скачет во тьму.
Его под уздцы не сдержать!
Динамита
в проклятое медное брюхо ему!
Характеристика революции:
И призрак Страшного суда
всем палачам расплата,
и революция всегда
по сути – месть за брата.
Открытым текстом – возмущение изгнанием Твардовского из «Нового мира» через показ закрытия «Отечественных записок» и фигуры Салтыкова-Щедрина. Евтушенко и себя не щадит, попутно дав определение времени:
Ay, либералы!
Так бойко выпендривались
и так растерялись вы,
судари?
Какая сегодня погода в империи?
Гражданские сумерки.
Животрепещуще и сплеча.
Это та же «Под кожей статуи Свободы» с той разницей, что евтушенковское понимание исторической России насквозь литературно. Это по преимуществу марксистско-ленинское понимание России с привлечением Плеханова как предтечи. Народовольцы и первые русские марксисты – в свете их жертвенности.
Вопрос веры замыкается в имени Вера Фигнер. Попы отвратительны, продажны и пьяны.
Наработанное в «Братской ГЭС» – «Ярмарка в Симбирске», «Казнь Стеньки Разина» – искусство живописи убедительно продемонстрировано вновь на картинах русского разгула, размаха, исступленного празднества на грани распада – главки «Пасха», «Суббота». Лучшие умы спиваются и бесследно погибают в Сибири (Шапов, полубурят, почти земляк). Обсерваторский дед-истопник, обогревая помещение, в котором Илья Ульянов занимается метеосводками, рассуждает в таких категориях, покряхтывая:
Хитро оттепель-паскуда
обманула нас вчерась.
Грязь прокиснувшая —
худо.
Хуже – если смерзлась грязь.
Сей дед – ипостась автора, как и Лесгафт, включенный в некий диалог с тем же самым автором, то есть говорящий с самим собой:
Наследники Пушкина, Герцена,
мы – завязь.
Мы вырастим плод.
Понятие «интеллигенция»
сольется с понятьем «народ»…
В СССР все говорили на профессиональном жаргоне в зависимости от рода занятий. Партийная феня насаждалась повсеместно и отовсюду. Интеллигенция предпочитала феню полублатную. Поэтическая корпорация, аккумулируя разговорную речь интеллигенции, изъяснялась языком прозрачного иносказания, совершенно понятного цензуре, вовлеченной в эту почти филологическую карусель.








