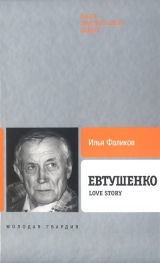
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 49 страниц)
Наверно, оттого, что ни Пастернак, ни Блок не учились в Казанском университете, Евтушенко пишет свою вещь без трезвой оглядки на трагедию того и другого: их приятие Ленина кончилось известно как.
В 1997-м появляется новая 12-я глава «Казанского университета»: «Карта России». Изображен неврастенический припадок Ленина, рвущего карту отечества. Он кусает эту карту. Новая 12-я лишь подчеркивает относительную соотнесенность первоначального, неправленого текста поэмы с той Россией, которая была на самом деле, а не в трудах марксистских историков. Тот же Солженицын смотрит на отечественную историю совершенно не так. А вот Лев Толстой у Евтушенко мыслит так:
Как Катюшу Маслову, Россию,
разведя красивое вранье,
лживые историки растлили —
господа Нехлюдовы ее.
Но не отвернула лик фортуна, —
мы под сенью Пушкина росли.
Слава богу, есть литература —
лучшая история Руси.
Мы не полемизируем с поэтом, работавшим сорок с лишним лет назад над сочинением, рассчитанным на своих современников. Но это факт: «души моей растрата» – прямая проблема этого поэта.
И если бы он этого не понимал! Вполне понимал. Бок о бок с «Казанским университетом» стоит поэма «Уроки Братска» (1970), эта лицейская по характеру вещь, обращенная к старым друзьям по Братску.
Здесь, в Братске, снова сердце отошло.
Друзья,
я стал ужасно знаменитым, —
не раз я, впрочем, был и буду битым,
но это мне всегда на пользу шло.
Карманы —
ну не то чтобы полны,
но нечего скулить по части денег.
Печатают.
Я даже академик
одной сверхслаборазвитой страны.
В конце лета 1970-го он посещает Сибирь, путешествует по Байкалу, встречается с самыми разными людьми, в том числе с местными журналистами, в Иркутске и Ангарске. В том августе выходит «Юность» со статьей Евгения Сидорова, где сказано нелицеприятно по-дружески:
О Евгении Евтушенко в последнее время пишут мало и неопределенно. Суждения о нем напоминают движения маятника. Подсчитываются зерна в мере хлеба, балансируются удачи и потери, в конце следует вздох, иногда искренний: потерь все же больше – маятник останавливается…
Статья называлась «Жажда цельности». То есть по существу говорилось о ее, цельности, отсутствии. Еще в мае, 13-го числа, «Литературка» (В. Соловьев) писала:
Книгу «Идут белые снеги…» можно рассматривать как избранное поэта. <…> Было бы куда легче и судить, и писать о его творчестве, если бы можно было заметить, как поэт со временем становится глубже, тоньше, мудрее, и отнести слабые его стихи к началу его творчества, а сильные – к концу. Но в том-то и дело, что достоинства и просчеты поэзии Евтушенко одновременны, синхронны: в очередном стихотворении он избавляется от того, что принято называть недостатками, а в следующем возвращается к ним <…> иногда даже в одной строчке соседствуют безусловное и сомнительное. Молодость переходит в инфантилизм, прямота – в прямолинейность, любовь к деталям – к длиннотам, драматизм – в мелодраму, быстрота поэтической реакции – в торопливую скоропись, а глубина порой оборачивается легкомыслием.
О мировоззренческой и художнической цельности напомнило событие, о котором Евтушенко узнал 8 октября: Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Это вам не академическая шапочка одной сверхслаборазвитой страны. В том же году был такой предпремиальный эпизод, в передаче Евтушенко: «В Москву приехал мой друг, шведский издатель Солженицына Пер Гедин, с деликатной миссией – узнать, примет ли Солженицын Нобелевскую премию и не ухудшит ли это его положение, и без того опасное. Увидеться с Солженицыным было невозможно: дача Ростроповича была буквально окружена агентами КГБ. Я передал этот запрос конспиративно – через третьих лиц, и так же – через третьих лиц – Гедину было передано, что Солженицын премию примет».
Дома не сидится. Он опять в Сибири. Другу Лёне Шинкареву – 50. После пира в своем кругу Евтушенко отмечает эту дату по-евтушенковски: дает концерт в Иркутском цирке. По достоинству это мог бы оценить только Межиров, певец цирка.
В январское Приморье 1971 года он является в обществе Михаила Рощина и Аркадия Сахнина. Это писательская бригада, направленная журналом «Новый мир» в рыболовецкий колхоз «Новый мир», богатый и знаменитый. Устав от богатырских банкетов, отдыхают в гостинице «Владивосток» на берегу Золотого Рога. Пока его спутники переводят дух, Евтушенко дает концерт в драмтеатре им. Горького с безусловным аншлагом. Успех оглушительный. За кулисами пересекшись с фактурным, одного с ним роста, героем-любовником театра, трогает рукой его ослепительный галстук с изображением пальм:
– Хорош! Откуда?
– Из Сингапура.
– Мой – из Америки.
Во Владивостоке новые дружбы и пламенная любовь на ходу. Одного из местных поэтов – Юрия Кашука – он выделяет, хотя это животные разной породы: Кашук – поэт умственный. Евтушенко напечатает его большую подборку в «Новом мире», по итогам командировки.
Двух нищих дружков-пиитов, дрожащих на холоду в своих одежках на рыбьем меху, он тащит угощать в кафе, напевая:
– Эти глаза непротив!
Шлягер того времени:
Эти глаза напротив
Чайного цвета —
(о, соловьистый Валерий Ободзинский!) гремит во всех кабаках. В городе-порте все глаза не против. Все ли?..
Кафе еще не работало, было рано, но Евтушенко – впускают, он щедро заказывает, на пальце у него перстень с бриллиантом, на лацкане значок строителя Братской ГЭС, и разговор идет о Солженицыне.
– В будущем веке скажут, что это Лев Толстой нашего времени.
А у гостя города-порта – новая любовь. Зимняя стужа, ветер со всех сторон, поэт бегает на свидания. Местный плейбой – эффектный морской офицер, – быв свидетелем этого романа, делится впечатлением с приятелями:
– Я такого не видал, это же какая-то вулканическая лава любви, страдает, как пацан, часами торчит с букетом цветов на перекрестке Гнилого угла, на самом ветру, рыдает от ее неявки на встречу.
Впрочем, на нем – роскошная шуба до пят. Объясняет новым друзьям: нерпичья, единственная во всем мире. Ему замечают: шуба из нерпы есть у сахалинского нивха Санги.
– Да, но моя-то пошита – в Париже!
Он уехал. Дежурная по этажу жаловалась: в гостинице он наговорил большую сумму по межгороду, но исчез внезапно, забыв оплатить счет. Это сделал за него Илья Фоняков из Новосибирска, приехавший в город у моря следом за Евтушенко.
На гостиничной тумбочке он забыл или нарочно оставил изданную в Штатах по-русски миниатюрную Библию.
Непосредственно от этой поездки остались стихотворения «Неизвестная», «Соленый гамак».
Качайся, соленый гамак,
в размеренном шуме еловом.
Любой отловивший рыбак
становится тоже уловом.
Но проходит 20 лет, и происходит то, о чем написалось еще через 20 лет (2010).
На улицах Владивостока,
не оценившая меня,
со мной рассталась ты жестоко,
ладонью губы заслоня.
Я в кабаках все гроши пропил,
где оскорблен был как поэт
песнюшкой про глаза напротив,
а также и про чайный цвет.
Потом я облетел полмира,
но снова памятью незлой
во Владик что-то поманило.
А что? Все тот же пальчик твой.
Все изменилось на морфлоте,
лишь выжил через двадцать лет
тот шлягер про глаза напротив,
а также про их чайный цвет.
(«Эти глаза напротив…»)
Сорок лет ушло на создание стихотворения! Беспрецедентно.
Когда он работал, страдал и балагурил во Владивостоке, в Вологде погиб Николай Рубцов. «Я умру в крещенские морозы», – самопророчество оправдалось, но таким жутким образом, что музе поэзии в такую тьму лучше не заглядывать. Наверно, уместней предоставить слово евтушенковскому оппоненту – Вадиму Кожинову, в передаче его ученика Н. Валеева:
Девятнадцатого января 1971 года вечером была помолвка Рубцова с воронежской поэтессой Дербиной. Днем же было обсуждение ее стихов, где Николай довольно резко выступил с критикой их. Вечером собрались у него все друзья, которые дружно обмыли и помолвку, и стихи. Ночью, когда все разошлись, у них произошла какая-то дикая ссора. По ее словам, Рубцов в гневе якобы кинулся в угол, где лежал топор или молоток. Она, испугавшись, ухватила его за горло и почувствовала вскоре, что он отключился. Она побежала в отделение милиции и сказала, что, кажется, убила человека. Пришли – Рубцов был мертв. Ей дали 8 лет, через 5 лет она вышла (за примерное поведение сократили срок) и начала ходить по друзьям поэта, пытаясь оправдаться. Но никто не захотел иметь с ней дела, кроме Евтушенко, который начал покровительствовать ей (наверное, завидуя славе Рубцова и его настоящей поэзии).
В чем заключалось покровительство Евтушенко? Отсидев почти шесть лет, Дербина написала «Воспоминания», книгу о Рубцове, и послала ее рукопись некоторым литераторам. Виктор Боков отозвался так:
Людмила, добрый Вам день! Я верю, что письмо это Вы получите днем. Пишу Вам без промедления. Вчера вечером я, вскрыв бандероль, бросился читать. Уехал на ночь в Переделкино – читал до двух ночи, в семь часов продолжил и вот прочел. Написано потрясающе правдиво, сильно… Никогда и никто так о нем проникновенно не напишет – и дело не в таланте писательском, а в том, что Судьба и еще Судьба встретились и узнали друг о друге все по праву такой горькой, исступленной, трагической, роковой любви…
Евтушенко: «Я и не мог подумать, что Вы умышленно убили Колю. Это действительно был нервный взрыв. А разве не убивает каждый из нас своих близких – словом, поступками и порой тоже неумышленными? Я понимаю, как Вы ужаснулись, когда это произошло, и что в Вашей душе сейчас. Злодейка жизнь, а не Вы. Но все-таки Вы совершили грех и должны его отмолить всей своей жизнью».
Знал ли небесно одаренный неказистый северный мужичок, что за четверть века его посмертия по Русскому Северу поставят четыре или уже пять памятников ему, на редкость благообразных. Знал, разумеется. Он терпеть не мог благообразия, но с расставленными пред собой портретами классиков пивал до утра в тишине уединения, насобирав их со всех стен литинститутской общаги в комнату, где он нелегально обитал. Его нервному устройству мешал любой лишний звук – на выступлении в какой-то читалке он крикнул посредине своего чтения, указав на стену:
– Остановите часы!
Своего «Доброго Филю» Рубцов завершил многозначительно:
Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть…
– Филя, что молчаливый?
– А о чем говорить?
Рубцов не был буддистом. Он не считал, что поэзия есть молчание. Просто-напросто время такое: а о чем говорить?
«Впервые я его (Рубцова. – И. Ф.) увидел в начале 60-х, когда он принес в редакцию “Юности” стихи “Я весь в мазуте, весь в тавоте, Зато работаю в тралфлоте!..”. Был он худенький, весь встопорщенный, готовый немедля защищаться от ожидавшихся обид, в потертом бушлатике, с шеей, обмотанной пестреньким шарфом, за что его и прозывали “Шарфик”. Но против ожиданий он встретил самый теплый прием от работавших в отделе Сергея Дрофенко, Олега Чухонцева, Юрия Ряшенцева, Натана Злотникова и меня, с радостью подмахнувшего в печать несколько его стихов. Однако если первое звонкое, лихое стихотворение проскочило цензуру без сучка и задоринки, то крошечный сатирический шедевр “Репортаж” о разбитном корреспонденте, сующем микрофон в рот смертельно усталому пахарю, блюстителям идеологии стал поперек горла, они уперлись рогом и ни за что не хотели его пропускать. Той же участи, по-моему, подверглось и другое горчайше очаровательное, почти фольклорное стихотворение “Добрый Филя”, которое впоследствии теми же безликими призраками аккуратно вычеркивалось из Колиных книг. А ведь в этих двух стихах Рубцов первым уловил то, что постепенно уже необратимо вызрело в России. Народу до блевотины обрыдло, что после стольких бесстыжих обманов в обещаниях “светлого будущего” с тем же опять и опять лезут в душу. И так отвратно выдавливать слова, которые хитрованам пригодятся для новых надувательств. А если скажешь то, что на самом деле думаешь, все равно ничему это уже не поможет… Словом, как ответил им всем Филя: “А об чем говорить?” <…> Через несколько лет после моей первой встречи с Рубцовым кто-то в ЦДЛ с нежной шутливостью, подойдя сзади, закрыл мне глаза ладонями. Это был мирно пьяненький Коля. Он раскрыл свой потрепанный бумажник и показал мне сложенный вчетверо машинописный листочек со стихотворением “Репортаж”, где стояла моя резолюция “В набор” и подпись.
– Это всегда со мной… А стих-то до сих пор не напечатали…»
Евтушенко пять лет спустя навестит его могилу.
Над могилою Коли Рубцова
теплый дождичек обложной,
и блестят изразцы леденцово
сквозь несладость погоды блажной.
Но так больно сверкают их краски,
будто смерть сыпанула в ответ
жизни-скряге за все недосластки
горсть своих запоздалых конфет.
Милый Коля, по прозвищу Шарфик,
никаких не терпевший удил,
наш земной извертевшийся шарик
недостаточно ты исходил.
Недоспорил, ночной обличитель,
безобидно вздымая кулак,
с комендантами общежитий,
с участковыми на углах.
Не допил ни кадуйского зелья,
ни останкинского пивка.
Милый дождичек, выдай под землю
ну хотя бы твои полглотка!
(«Над могилой Рубцова»)
Дело о спектакле
Двадцать четвертого февраля 1971 года заместитель министра культуры СССР К. Воронков пишет директору театра Н. Дупаку и главному режиссеру Ю. Любимову.
Вы обратились в Министерство культуры СССР с просьбой разрешить Московскому театру Драмы и комедии начать работу над спектаклем «Под кожей статуи Свободы» по пьесе Е. А. Евтушенко. Считаем возможным согласиться с Вашей просьбой и разрешить Вам в виде эксперимента (как об этом просил Ю. П. Любимов) начать работу над этим спектаклем с последующим представлением окончательного сценического варианта пьесы в Главное Управление культуры Моссовета и Управление театров Министерства культуры СССР.
Рекомендуем Вам – в процессе работы над пьесой и спектаклем – учесть замечания, высказанные Вам и Е. А. Евтушенко Министерством культуры СССР и Е. А. Фурцевой, мною и работниками Управления театров.
Фурцева как-то спросила Евтушенко по-женски искренне:
– Женя, ну объясните мне, ради Бога, что с вами? Вас печатают, пускают за границу. У вас есть все – талант, слава, деньги, машина, дача… У вас, кажется, счастливая семья. Ну почему вы все время пишете о страданиях, о недостатках, об очередях? Ну чего вам не хватает? А?
Прошел слух о том, что Евтушенко основывает журнал под названием то ли «Лестница», то ли «Мастерская» – как мастерскую молодых авторов. Источником слуха был он сам. Его надеждам не суждено было сбыться.
История проекта описана в басне «Волчий суд».
Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собранье
судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволенья
и к ним приволок, увязая в сугробах,
оленя.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи
один совершил это дело.
Дело было так. Давно. В 1962 году.
Валентину Катаеву, при условии ухода с поста главреда «Юности» с заменой на Бориса Полевого, пообещали главное кресло в «Литературной газете», но обманули: там сел Александр Чаковский. Катаев оскорбился.
Катаев, Аксенов, Вознесенский и Евтушенко пришли к П. Демичеву, секретарю по идеологии ЦК КПСС. Предложили идею нового журнала – «Лестница», в котором произведения молодых сопровождались бы анализом старших мастеров. Демичев благожелательно спросил: чьим органом будет издание? Сердитый Катаев ответил:
– А ничьим. Мы не хотим иметь дело ни с каким Союзом писателей.
Дело приостановилось. Частный журнал? На дворе не нэп.
Евтушенко уезжал в Латинскую Америку. Ему позвонили. Помощник Брежнева сообщил, что генсек просит оставить предложения перед предстоящим съездом писателей. У Евтушенко было два предложения: Федина (председателя СП СССР) заменить на Симонова и возвести ту самую «Лестницу». Вернувшись из поездки, Евтушенко изумленно узнал, что Брежнев поддержал его по обоим вопросам.
Его пригласил к себе В. Шауро, завотделом культуры ЦК КПСС. По поводу Федина сказал, что этого делать не надо.
– Это убьет старика!
А насчет «Лестницы» – полная поддержка.
Евтушенко прибежал к Катаеву: ура!
Все были в сборе. Они были в курсе. Катаев мрачно спросил:
– Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?
Катаев продолжал в той же тональности, двое других поддакивали, его аргументов не слушали. Евтушенко сказал, что в таком случае он будет один заниматься этим делом, без них и без их имен.
Новую заявку он принес назавтра Георгию Маркову, первому секретарю СП СССР. Тот маслено улыбнулся.
– Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? – В неубитых медведях Марков понимал: сибиряк как-никак. – За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич, и вот какое письмецо он мне оставил…
Тремя подписями – Аксенова, Вознесенского и Катаева – был заверен машинописный текст следующего содержания: мы, нижеподписавшиеся, ничего общего не имеем с инициативой Евтушенко.
«Лестница» рухнула, не возникнув.
Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с «некоторыми ровесниками». Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было. Аксенов точкой отсчета «расшвыривания» называет 1963 год. Знаменательная «Песня акына» Вознесенского (о ней мы скажем в своем месте) – ровесница «Волчьего суда», это 1971 год. Вот когда произошел публичный обмен любезностями и стала полуявью одна из самых заметных розней в отечественной словесности.
Как бы то ни было, если к шестидесятым относиться с календарных позиций, то 1971 год можно считать занавесом той эпохи.
Точкой невозврата.
В октябре Пабло Неруда получает Нобелевскую премию по литературе «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента». В Стокгольме автор «Всеобщей песни» сказал:
Каждое мое стихотворение стремится стать осязаемым предметом, каждая моя поэма старается быть полезным инструментом в работе, каждая моя песнь – знак единения в пространстве, где сходятся все пути. <…> верю, что долг поэта повелевает мне родниться не только с розой и симметрией, с восторженной любовью и безмерной тоской, но и с суровыми людскими делами, которые я сделал частью своей поэзии.
Это и кредо Евтушенко. Их связывало кровное родство, поразительное сходство самопонимания. Великая честь быть великим плохим поэтом.
«– Какие дураки, – усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты, где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью, – они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо непохоже на их лица».
Год, начавшийся гибелью Рубцова, кончился не менее тяжело. 17 декабря умер Твардовский. Точка невозврата. Бывают ли компенсации таких потерь? Никогда.
Через двадцать без малого лет Евтушенко скажет:
Твардовский был орешек непростой:
тяжелый телом
и тяжелый нравом.
Под крепостным литературным правом
он был
в медалях барских крепостной.
………………………………………
Но с мукой на монашеском лице
не покупался этот хуторянин,
отцовской раскулаченностью ранен
и распят
на молчанье об отце.
………………………………………
Но, Боже мой, как он любил того
мальчишку на войне незнаменитой
и тень отца,
не ставшую забытой,
вселившуюся в сына своего.
(«Главная глубинка»)
Поразительный вариант Гамлета.
На самом исходе 1971 года – не великая, но чистая радость. В Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина сыграли премьеру «Легенды об Уленшпигеле», для которой Евтушенко с композитором Андреем Петровым написали много песен. Работалось с воодушевлением, Уленшпигель – любимый герой в детстве, «Песню гезов», то есть песню нищих, автор стихов поет во весь голос в гостях у композитора, немилосердно фальшивя.
Но все же есть свобода,
но все же есть свобода,
хотя бы за свободу умирать!
Петров, однако, говорил:
Обычно я пишу мелодии плавные, мягкие, но здесь получился речитатив, потому что, сочиняя, я сознательно и бессознательно вспоминал авторское чтение. Там есть «Марш гезов» с таким рефреном: «Когда шагают гезы, шагают с нами слезы…» Евтушенко читал завораживающе, стихи произносил нервно, с эмоциональным зарядом на каждом слове. Это было скандированное чтение, даже с элементами исступления.
Петров потом написал музыку на «Заклинание» и «Нас в набитых трамваях болтает…», песни пошли по свету. В Москве во дворе на улице Готвальда в середине семидесятых белой масляной краской по асфальту было крупно написано всё от начала до конца блюзовое евтушенковское «Заклинание».
Весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне,
осенней ночью думай обо мне
и зимней ночью думай обо мне.
Пусть я не там с тобой, а где-то вне,
такой далекий, как в другой стране, —
на длинной и прохладной простыне
покойся, словно в море на спине,
отдавшись мягкой медленной волне,
со мной, как с морем, вся наедине.
Я не хочу, чтоб думала ты днем.
Пусть день перевернет все кверху дном,
окурит дымом и зальет вином,
заставит думать о совсем ином.
О чем захочешь, можешь думать днем,
а ночью – только обо мне одном.
Услышь сквозь паровозные свистки,
сквозь ветер, тучи рвущий на куски,
как надо мне, попавшему в тиски,
чтоб в комнате, где стены так узки,
ты жмурилась от счастья и тоски,
до боли сжав ладонями виски.
Молю тебя – в тишайшей тишине,
или под дождь, шумящий в вышине,
или под снег, мерцающий в окне,
уже во сне и все же не во сне —
весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне,
осенней ночью думай обо мне
и зимней ночью думай обо мне.
Если бы появился в семидесятых и продолжал писать дальше некий поэт Икс, равный тому, что делал в эту пору Евтушенко, общественность заговорила бы о большом новом явлении советской поэзии. Другое дело, что этому поэту Икс вменяли бы подражание поэту Евтушенко, еще недавно завоевавшему мир ошеломительными стихами о пролетевшей эпохе и теряющему былое очарование.
А Евтушенко – уже в Северном Вьетнаме. На крыльях успеха – в самое пекло. Декабрем 1971-го помечены эти стихи:
Грубей, чем любая дерюга,
прочней буйволиных спин
ведет на Сайгон дорога —
дорога номер один.
Он обращается к Маяковскому:
И я, твой наследник далекий,
хотел бы до поздних седин
остаться поэтом дороги —
дороги номер один.
(«Дорога номер один»)
Он все еще во власти ревромантики, от которой оставался практически пшик в самой советской реальности. На самом деле он выходит на дорогу разлучения с нехудшим, непустоголовым читателем, уставшим от пафоса. Кто не сомневается в его искренности? Статистики нет. Зрелище войны ранит, человеческое мужество поражает, и стихи не врут, даже если это продукция спецкора с лирой. Военные сводки. Он пишет на бегу, на ходу и на лету. Он встречает Рождество в Ханое, поминая Христа:
Мучеником не был он последним
в муках человеческой семьи.
Распят был он тридцатитрехлетним —
распинали месячных в Сонгми.
Чем он выше всех детей убитых,
тех, кто в душу смотрят молча нам,
этот – из всемирно знаменитых —
на стене собора мальчуган?
(«Рождество в Ханое»)
«Я писал эти строки, сидя в самолете Аэрофлота, летевшем из Ханоя в Москву. Была глубокая ночь. Все вокруг спали. Самолет шел ровно. Но как только я написал горько-саркастическую концовку в первом варианте: “Чем он лучше всех детей убитых, где-нибудь у пальм и у ракит – этот из всемирно знаменитых, все-таки счастливый вундеркинд?!” – самолет рухнул в воздушную яму. Стюардесса ударилась о металлический кухонный шкаф. Те, кто не привязался, взлетали и бухались головами о стены и потолки лайнера. Я немедленно убрал насмешливое “вундеркинд” и тут же написал новый, более деликатный вариант концовки. Самолет выровнялся…»
Это – его лаборатория. Стих не вынашивается – с неба падает. Свое истолкование пастернаковской максимы:
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
В тот час Евтушенко должен был ехать в Америку с выступлением в Медисон-сквер-гарден, 15 тысяч зрителей, чтобы рассказать об ужасах вьетнамской войны. Внезапно ему рубят эту гастроль: подписал слишком много писем в защиту диссидентов. Он сидит пьет в Центральном доме литераторов водку, вдруг – звонок на телефон в фойе, у дежурного администратора.
Брежнев:
– Успокойтесь ради Бога, поезжайте вы в эту вашу Америку.
Евтушенко был тем, что Брежневу осталось от Хрущева. Осколок XX съезда в тучнеющем теле разлагающейся системы. Они срослись, но симфонии не могло произойти априори. Определилось распределение функций, видимость единого организма.
Третьего февраля 1972 года советский поэт Евгений Евтушенко был принят в Овальном кабинете Белого дома президентом США Ричардом Никсоном. Во встрече участвовал Генри Киссинджер, советник президента по национальной безопасности. Поэт был одним из самых заметных в мире критиков вьетнамской войны и только что вернулся из Ханоя, им было о чем поговорить. «Он (Никсон. – И. Ф.) собирался с визитом в Москву и спросил меня, что, по моему мнению, хотели бы от него услышать советские люди, что стоило бы посмотреть в России. Я сказал, что лучше бы начать речь с воспоминания о встрече на Эльбе. Посоветовал посетить Пискаревское кладбище в Питере и Театр на Таганке в Москве».
Оказалось, Никсон не знал о количестве советских жертв на той войне и был поражен названной Евтушенко цифрой: 20 миллионов.
В ту поездку по Америке ему, сбив с ног, повредили два ребра альпинистскими ботинками в городе Сан-Пол, штат Миннесота, когда он читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге со снятыми канатами, – нападавшие оказались отпрысками бандеровцев, родившимися в США и Канаде. «Бей москалей!»
Это произошло, скажем так, в нагрузку к выходу в США увесистого евтушенковского однотомника «Краденые яблоки» (Stolen Apples, Published 1972 by Anchor Books, Doubleday, NY) в переводах Джона Апдайка, Лоуренса Ферлингетти, Джеффри Даттона и прочих первостатейных мастеров пера.
Драматург Александр Гладков (пьеса «Давным-давно», ставшая у Э. Рязанова «Гусарской балладой») заносит в дневник:
2 февраля
Вечером услышал по радио, что завтра в Вашингтоне президент Никсон примет Евтушенко.!!! И это после всех его опусов в «Правде» о войне во Вьетнаме. Или Никсон умен и широк, или мы тут поглупели. Это, конечно, огромный успех Евтушенко – такого медведя он еще не забивал. Он смело балансирует на невероятной высоте и может много выиграть, наживя кучу новых врагов.
14 мая
Женя Евтушенко разгуливает по городу в невероятного колера розовом костюме. Вывез из Америки.
Вывез оттуда он и большой цикл стихов, среди которых есть шедевры – «Гранд-Каньон», «Дом волка». Уитмен и Джек Лондон не зря были читаны в детстве-юности. Американские масштабы передались поэтическому дыханию. Физиология истории. Трудная речь.
Матка веков,
наизнанку вывернутая,
сфинкс,
чья загадка,
временем выветренная,
нами не выведанная,
канет.
Тело истории,
но не по главкам —
с маху разрубленное томагавком
вместе с кишками и калом.
(«Гранд-Каньон»)
Эхо Уитмена, но чувствуется и стиховое присутствие Бродского.
Цикл внутри цикла – «От желанья к желанью», густая эротика. Вот блюз по-русски:
Любите друг друга под душем,
любите друг друга под душем,
любите друг друга под душем
в дарованный Господом час,
как будто стоите под медом,
как будто стоите под медом,
как будто стоите под медом,
усталость смывающим с вас.
Это еще и курсивом выделено.
Поездка по США Евтушенко поначалу, с точки зрения Кремля, была безупречна. Посол СССР в США А. Добрынин сообщал о его успехах: собирает на свои поэтические вечера до десяти тысяч слушателей, такого Америка не знала. Пресса все это щедро освещает, печатает его вьетнамские стихи. Посол просит дать об этом информацию в советской прессе. Однако встал на дыбы сектор США международного отдела ЦК КПСС, потребовав отозвать Евтушенко из Америки, поскольку лидер компартии США Гэс Холл возмущен отказом Евтушенко встретиться с активисткой компартии Анджелой Дэвис. Добрынин информирует, что Евтушенко решил задержаться еще на месяц: в Москве, мол, не возражали. И улетел во Флориду. Союз писателей дал телеграмму Добрынину с отказом продлить командировку Евтушенко. В ЦК решили дело пока что замять – зачем нам невозвращенец? Когда вернется, разберемся. Грозные телеграммы с требованием немедленного возвращения шли за океан в мировое пространство попусту, не достигая Евтушенко: он мотался из города в город.
По возвращении из двухмесячного американского турне таможня арестовала его багаж – книги Троцкого, Бухарина, Бердяева, Шестова, Набокова, Алданова, Гумилёва, Мандельштама, Бунина («Окаянные дни»), Горького («Несвоевременные мысли»), 72 тома «Современных записок», сборник анекдотов «Говорит Ереван» – 124 нелегальные книги и даже фотографию, на которой поэт запечатлен с Никсоном. «Когда я пригрозил, что напишу ему (Никсону. – И. Ф.)об этом произволе, стали возвращать книги. Но постепенно – видимо, сами читали. “Замотали” две – повести Лидии Чуковской и анекдоты “армянского радио”».
Евтушенко позвонил Ф. Бобкову и был принят им. В разговоре коснулись Бродского.
– Зачем КГБ запретил выход его книги?
– Никто ничего не запрещал, это инициатива местного Союза писателей. А вообще – ваш Бродский давно подал прошение на отъезд, и ему разрешено выехать.
– Как? Насовсем?!
– Как захочет.
Евтушенко заговорил о том, что жизнь в чужой языковой среде, на чужбине, – трагедия для поэта. Что наши бюрократы отравят ему эти оставшиеся дни, этого нельзя допустить. Бобков пообещал облегчить положение Бродского. Уходя, Евтушенко спросил:
– Я могу рассказать ему о нашем разговоре?
– Ваше дело, но не советую.
В Москве ожидался Никсон. Это был первый официальный визит действующего президента США в Москву за всю историю отношений. Никсон и Брежнев подписывают массу исторически важных документов: Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО), Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), документ «Основы взаимоотношений между СССР и США»: Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения, Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники, Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.








