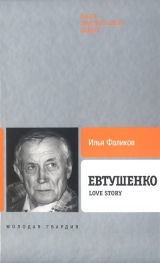
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц)
Древние ножницы между творцом и его созданием в советском варианте выглядят угнетающе. Не в этом ли один из резонов Евтушенко к тому, чтобы стать больше, чем поэт?
Да. О премиях. Нобелевскую этого года получил – Шолохов. «Тихий Дон» – слов нет, вещь грандиозная.
В 1961 году Евтушенко посетил Вёшенскую. Михаил Александрович принял его тепло и разговаривал самобытно.
– Хорошо, что приехал. Михаил Александрович давно за тобой следит. Ты у нас талантище. Бывает, конечно, тебя заносит. Ну, да это дело молодое. Что, брат, заели тебя наши гужееды за «Бабий Яр»? Михаил Александрович все знает. Ты не беспокойся – Михаил Александрович сам черносотенцев не любит…
Затем он внезапно спросил: а зачем ты напечатал «Бабий Яр»? Постучал по рабочему столу:
– Знаешь, что лежит в ящиках этого стола? Новые главы «Они сражались за Родину», да такие, что взрыву подобны! Но Михаил Александрович умен и никогда не даст в руки своих врагов оружие против себя.
Урок великого писателя был таков: не подставляйся.
Впрочем, Шолохов еще в 1954-м, на 2-м съезде писателей, высказался определенно насчет климата в стране и литературе:
Кстати, тут не раз говорили о «литературной обойме» – о пятерке или десятке ведущих писателей. А не пора ли, товарищи, нам рачительно, как бывалым солдатам, пересмотреть свой боеприпас? Кому не известно, что от длительного пребывания в обойме, особенно в дождь или слякотную погоду, именуемую оттепелью, патроны в обойме окисляются и ржавеют? Так вот, не пора ли нам освободить обойму от залежавшихся там патронов, а на смену им вставить новые патроны, посвежее? Слов нет, не стоит выбрасывать старые патроны, они еще пригодятся, но необходимо по-хозяйски протереть их щелочью, а если надо, то и песчанкой.
Военная терминология вполне уместна.
Родина не забывает о том, что гражданин Евтушенко Е. А. – лицо военнобязанное. Значит – ему предстоят военные сборы как минимум. С ним не миндальничают, но все-таки идут навстречу. В ПУРе (Политическое управление вооруженных сил СССР), запрещавшем исполнение военными людьми песни «Хотят ли русские войны» (пока ее не похвалил Хрущев), у него спрашивают: где хотите служить? Он отвечает: где угодно, только не на Кавказе. Его посылают в Тбилиси. Что и требовалось доказать.
Радиостанция «Голос Америки» всполашивает мировую общественность, не сильно ориентируясь в российской истории: вслед за Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым на Кавказ – с целью расправы – выслан поэт Евгений Евтушенко.
Там ему встречается хороший человек, настоящий полковник М. Головастиков, редактор армейской газеты «Ленинское знамя». Первым делом он повез рядового Евтушенко на Пушкинский перевал и получил в отдарок посвящение одноименного стихотворения. Остальные дары судьбы были пожестче: за то, что полковник представил этого рядового к званию, да еще майора, ему вскоре пришлось покинуть ряды родной армии. А в дни совместной службы они разъезжали по гарнизонам – Евтушенко читал стихи. Было дело – и с танков. Доходило до смешного. Однажды в редакцию позвонили из штаба Закавказского военного округа:
– Командующий округом генерал армии Стученко интересуется, не может ли рядовой Евтушенко прийти к нему сегодня на день рождения?
В военном округе сплошной День поэзии. Рассерженный нештатной ситуацией министр обороны Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский издал приказ об окончании сборов для поэта.
В общем, вернулся он оттуда живым-здоровым. Но случился очередной пленум ЦК ВЛКСМ. С. Павлов произвел филиппику:
– Еще неизвестно, в какую сторону повернут танки, с которых читал стихи Евтушенко!
Атмосфера сгущалась. Однако на дворе стоял золотой октябрь, 3-го числа – день рождения Есенина, всего-навсего его семидесятилетие, такой молодой. В Колонном зале собирается партийный актив города Москвы. Есенин уже разрешен – народной любви к поэту противостоять все-таки не по силам даже такой несокрушимой цитадели, как коммунистический Кремль. Тем более что фигурой Есенина норовят пользоваться в военных играх новейших западников и славянофилов.
Евтушенко является в Колонный зал с уже начатым текстом выступления, и оно было в рифму. Пока исходили красноречием другие ораторы, он дописывал свою речь на коленке, сидя на стуле у стола президиума.
Речь оказалась «Письмом Есенину» – стихотворением, из-за которого Всесоюзное телевидение впервые за всю свою историю прервало прямую трансляцию, изобразив на телеэкранах всего СССР: «Передача прервана по техническим причинам». После этого все литературные передачи в прямом эфире были отменены.
Говорили, что Павлов планировался на должность секретаря ЦК по идеологии после Ильичева, но Суслов якобы сказал: «Человек с такой пощечиной, как стихотворение Евтушенко, не может быть секретарем по идеологии».
Когда румяный комсомольский вождь
на нас,
поэтов,
кулаком грохочет
и хочет наши души мять, как воск,
и вылепить свое подобье хочет,
его слова, Есенин, не страшны,
но тяжко быть от этого веселым,
и мне не хочется,
поверь,
задрав штаны,
бежать вослед за этим комсомолом.
Это знала наизусть вся страна. Уже назавтра машинопись «Письма Есенину» на Кузнецком Мосту продавалась за трешку. Самиздат не дремал.
Москва шумит, везде говорят о Евтушенко, тревожатся за него.
29 октября 1965 года Шостакович пишет своему аспиранту и конфиденту, молодому композитору Б. Тищенко: «Каждое утро вместо утренней молитвы я перечитываю, вернее, произношу наизусть два стихотворения Евтушенко: “Сапоги” и “Карьера”. “Сапоги” – совесть, “Карьера” – мораль».
Главный комсомолец и его обличитель. Павлов и Евтушенко были почти ровесниками и думали на одном языке. «Думали» не означает «говорили».
Однажды они пересеклись на праздновании Нового года в ЦДЛ, где не чуждый искусству Павлов (родители – музыканты) был в обществе миловидной певицы Майи Кристалинской (вскоре она замечательно споет песню на евтушенковские стихи «В нашем городе дождь»), держался настороженно-напряженно, а в курилке наедине с Евтушенко признал, что поэт в том стихотворении был прав.
Собственно, открытая сатира по адресу румяного вождя мало чем отличалась от голого намека на Хрущева в «Сказке о русской игрушке». Жирный хан – много ли надо было проницательности, дабы расщелкать незатейливый код сказки?
Горбачев тоже относит себя к шестидесятникам, и в этом есть своя правда.
В конце 1960-х относительно молодые люди, состоящие во власти, скучковались в протестную группу – это была «комсомольская фронда»: Шелепин, Семичастный, Павлов и др. Брежнев нетравматично разогнал их. Павлова в 1968-м бросили на спорт («министр спорта»), а потом в десятиразрядные дипломаты.
Было дело, Евтушенко прилетел в Рангун. В аэропорту его ожидал человек с букетом цветов. Это был Павлов, советский посол в Бирме. Бирманские власти не давали визу поэту – посол пригласил его лично: в таких случаях отказов не бывает. Они обнялись. За ужином Евтушенко спросил, кто его заставил тиснуть в «Комсомолке» ту дрянь о хлестаковщине. Никто. Сам. Ошалел от власти.
За «Письмом Есенину» органически неизбежно последовало стихотворение «В ста верстах», посвященное опять прозаику – Георгию Семенову, близкому другу Юрия Казакова. Евтушенко как-то высказался в том смысле, что деление прозы на «городскую» и «деревенскую» искусственно в стране той классики, что создавалась дворянами, интеллигентами. Проблемы общие. «В ста верстах» как раз об одной из этих проблем. О том страшном человеческом одиночестве, когда души людские, заброшенные в немереном пространстве, где «есть село без женихов и невест – / три избушки-развалюхи, / в трех избушках три старухи», блуждают в непонимании: где они? У себя на родине? В плену? Последствия коллективизации невытравимы.
Евтушенко вспоминает тот, камаринский, размер, с которым уже работал когда-то – «Дворец», «Стенька Разин».
Свищут косы, подсекая без труда
за одной волной травы еще волну.
«Ну а где ты помирала и когда?»
«У плену, касатик милый, у плену».
И во взмахах то ли радость, то ли боль,
ну а, может быть, и то и то, вдвоем.
«А в каком плену, бабусь, в германском, что ль?»
«У своем, касатик милый, у своем».
…И летели мимо, боже их спаси! —
самолеты, что родились на Руси,
и брезгливо поджимали шасси
над травой зацвелых крыш на небеси…
Нет, работа поэта, как она ни одинока, не бывает абсолютно отдельной, вне контекста. Те же размеры, те же заботы – у совсем иных авторов с совсем иными судьбами. Был Станислав Красовицкий. Он примыкал к «группе Черткова». Сам Леонид Чертков отсидел свое в 1957–1962 годах за «антисоветскую пропаганду», в 1974-м эмигрировал во Францию. Красовицкий в начале шестидесятых ушел из стихотворчества в священники, уничтожил все написанное, но в памяти поколения осталось то, что очень похоже на евтушенковский «Дворец» и тогда же было написано:
А летят в небе гуси да кричат,
В красном небе гуси дикие кричат,
Сами розовые, красные до пят,
А одна так не гусыня – белоснежный сад…
А в окошке от Москвы до Костромы
Все меняется – меняемся и мы.
Еще 24 сентября 1965-го в Москву явился освобожденный из ссылки Бродский, несколько недель живет у Андрея Сергеева. В октябре Евтушенко позвал Бродского читать стихи в МГУ вместе с Ахмадулиной и Окуджавой.
«Я с ходу пригласил Бродского без всякого разрешения властей почитать стихи на моем авторском вечере в Коммунистической аудитории МГУ. Это было его первое публичное выступление перед несколькими сотнями слушателей, но он тоже нигде не упоминал об этом – по-видимому, чтобы у его западных издателей даже мысль не возникла, что их диссидент-автор морально мог позволить себе выступать в аудитории с таким именем».
Евгений Рейн рассказывает:
Когда он (Бродский. – И. Ф.)освободился из ссылки, он не в Ленинград приехал, а в Москву. Он пришел ко мне и говорит, что три месяца не мылся. Я позвонил Аксенову – тот говорит: «Приезжайте немедленно ко мне». Мы приехали. Иосиф пошел принимать ванну, а мы не знаем, что делать дальше. Я говорю: надо позвонить Евтушенко. Тот случайно снял трубку. Я все рассказал. Евтушенко в ответ: «Немедленно встречаемся. Я позвоню в “Арагви”, и нам дадут место». Приехали в «Арагви» – стоит огромная очередь, хвост человек на двести. Но вышел директор, и нас во главе с Евтушенко провели в отдельный зал. Сели. Но безумный Евтушенко говорит: «Поэт не должен сидеть отдельно от своего народа». Потащил нас в общий зал, где нет ни единого свободного места, но директор попросил – и все потеснились. Нам поставили столик «среди народа». Бродский был печальный, усталый и через час ушел. Понятно? В Ленинград он уехал через пятнадцать дней и все эти две недели постоянно встречался с Евтушенко. Тот и дома устроил банкет в его честь!.. Думаю, что Бродский Евтушенко не мог простить… За что?.. У Евтуха была изумительная библиотека по искусству, и там были очень дорогие и редчайшие книги. А любимый художник Бродского был тогда Брак, кубист. Он как-то пришел и сразу схватился за альбом Брака. Женя говорит: «Ты любишь Брака? Я тебе дарю», – и Бродский взял. Другой раз Женя ему говорит: «Ты очень плохо одет, у меня есть английский костюм, который я почти не носил, он на тебя…» Этого Бродский ему не простил.
Рейн – поэт, у него своя песня.
Евтушенко уточняет: «Мы встретились в грузинском ресторане “Арагви”. Любимец Ахматовой был одет слишком легко, поеживался от холода, и я инстинктивно снял пиджак и предложил ему. Он вдруг нервно залился краской: “Я не нуждаюсь в пиджаках с чужого плеча”».
Эта деталь – «залился краской» – совершенно достоверна для тех, кто видел лицо Бродского. Что не отменяет песни Рейна.
Евтушенко и Аксенов надумали помочь Бродскому напечататься у них в «Юности». Ведь членство в редколлегии давало возможность делать добрые дела. Так, в 1964 году Евтушенко, узнав о том, что юного Леню Губанова заточили в психушку, навестил его, и в «Юности» (№ 6) появился отрывок из поэмы «Полина» под названием «Художник», единственная прижизненная публикация Губанова в родном отечестве:
Холст 37 на 37,
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
и не от старости совсем.
Когда изжогой мучит дело,
и тянут краски теплой плотью,
уходят в ночь от жен и денег
на полнолуние полотен.
Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!
Забыв измены, сны, обеты.
И умирать из века в век
на голубых руках мольберта.
Публикация Бродского не произошла, чему есть разные объяснения. По версии Бродского:
Когда я только освободился, интеллигентные люди меня всячески, что называется, на щите носили. И Евтушенко выразил готовность поспособствовать моей публикации в «Юности», что в тот момент давало поэту как бы «зеленую улицу». Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворений 15–20, из которых он в итоге выбрал, по-моему, шесть или семь. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал, какие именно. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии «Юности» – как же его звали? А, черт с ним! Это не важно, потому что все равно пришлось бы сказать о нем, что подонок. Так зачем же по фамилии называть… Ну вот: звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них шесть стихотворений. И перечисляет их.
Надо сказать, подборка такого объема – вещь в те годы очень видная и почетная. Евтушенко опять-таки уточняет: «Аксенов и я – оба тогда члены редколлегии “Юности” – заявили редактору журнала Б. Полевому, что мы выйдем из редколлегии, если не будет напечатана составленная нами подборка из восьми стихов Бродского. Полевой поупирался, но согласился, попросив убрать одну строку из всех этих стихов, – по тем тяжким цензурным временам это было по-божески. Строка была такая: “мой веселый, мой пьющий народ”».
Бродский завершает свою версию:
А я ему в ответ говорю: «Вы знаете, все это очень мило, но меня такая подборка не устраивает, потому что уж больно “овца” получается». И попросил его вставить хотя бы еще одно стихотворение, – как сейчас помню, это было «Пророчество». Он чего-то там заверещал – дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю: «Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича!» Но он уперся. Тогда я говорю: «А идите вы с Евгением Александровичем… по такому-то адресу». Тем дело и кончилось.
Существует свидетельство Юрия Ряшенцева:
С Бродским я провел сорок минут. За это время мы сказали друг другу по три слова. <…> Иосиф принес стихи в журнал. Стихов было много. Надо было отобрать из них возможную подборку.
Мы сидели в пустом зале. Я читал. Он оглядывал стены с какой-то дежурной выставкой.
Чем дольше я читал, тем яснее мне становилось, что эти стихи у нас никогда не пойдут.
В них не было ничего антисоветского. Просто это была поэзия, отрицающая жизнь, которой жил журнал, да и все советские журналы того времени.
Мне, до неприличия, нравилось то, что я читал.
Я отобрал какие-то стихи, безо всякой надежды на то, что они пройдут редакционное сито.
Так я и предупредил Иосифа. Он посмотрел отобранное, улыбнулся, сказал, что хорошо бы, конечно, чтобы стихи появились в печати в таком составе. И на этом мы расстались.
Стихи, конечно, не прошли.
Первого ноября 1965 года скончался Дмитрий Алексеевич Поликарпов. Накануне Евтушенко по какому-то делу звонил ему. Секретарша пустила слезу:
– А вы еще ничего не знаете, Евгений Александрович? Дмитрий Алексеевич вчера как раз отошли. Когда я последний раз его навестила, он так мне и сказал: «Видно, отхожу. Передай жене, чтоб за эту неделю паек в распределителе не брала – не отработал».
Евтушенко пришел на похороны, писателей почти не было. Покойный был непрост. Это ему Сталин когда-то сказал: у меня нет для тебя других писателей. Это он, временно проводя некоторую опалу в ректорском кресле Литинститута, сильно хотел выгнать студента Евтушенко, но не выгнал. Это у него в служебном цековском сейфе рядом с бутылкой водки стояла старая виктрола (заводной, с ручкой, граммофон), на которой в редчайшие минуты расслабления он крутил пластинку Вертинского.
Пятого ноября погиб Урбанский, закадычный друг евтушенковской молодости. Евгений Урбанский был пластически совершенным образцом героя, атлетическим выходцем из революционного мифа, наглядной фигурой воплощения русской мечты о всеобщем счастье. Одухотворенная громадина. Аналог Маяковского, схожий и внешне с юношеским идеалом поколения. Кибальниковский памятник поэту-главарю не выдерживал сравнения. На него бы оглядывались на улице безотносительно к актерской славе. Гибель его была нелепой, но вряд ли случайной: он работал без каскадера. Он погиб за рулем летящего автомобиля, рухнувшего в песчаных барханах.
Урбанский Женька, черт зубастый,
меня ручищами сграбастай,
подняв, похмельного, с утра,
весь напряженный, исподлобный,
весь и горящий, и спаленный
уже до самого нутра.
……………………………
Так ты упал в пустыне, Женька,
как победитель, а не жертва,
и так же вдаль – наискосок —
тянулись руки к совершенству —
к недостижимому блаженству,
хватая пальцами песок…
(«Памяти Урбанского»)
Евтушенко всегда писал – о себе. Это прочитывалось и в «Казни Стеньки Разина»: «Стенька, Стенька…» Ну а здесь, с Урбанским, сам Бог велел: и имя одно.
Кто-то уходил насовсем, кто-то оставался – надолго или ненадолго, здесьили уже там,то есть не здесь, то есть не в своей стране. Олег Целков уедет через 11 лет, а пока он – здесь.
После нескольких изгонов из разных вузов в разных городах его взял в театральный институт на свой курс Николай Акимов, но Целков не задержался в Питере, вернулся в Москву.
Его уже успели оценить поэты – Назым Хикмет и Семен Кирсанов, которых привел к нему Евтушенко.
«Назым любил и поддерживал молодых, официально непризнанных художников <…> однажды, году в 55-м, они сидели на берегу канала Москва – Волга в Тушине, и Назым иронически показал ему глазами на две тени, маячившие в некотором вежливом отдалении.
– Кто это? – непонимающе спросил Целков.
– Следят, брат… – пожал плечами Назым.
– За вами – за лауреатом Премии Мира? Почему? – был ошеломлен Целков.
– Один следит за тем, чтобы меня никто не обидел… А второй за тем, чтобы я не обидел никого… Так-то, брат…»
Неприкасаемых воистину нет.
Целков показался Ренато Гуттузо и Давиду Сикейросу, Луи Арагон дал сюрреалистический для СССР совет: «Скажите этому парню, что ему следует ехать в Париж», Пабло Неруда прислал восклицательное письмо. Имя разрасталось в сторону Запада, оставаясь неподвижно-невеликим на родине. Художник стал попивать.
В 1956-м два его маленьких натюрморта попали в Москве на выставку молодых художников. В газетах их отругали. Через девять лет, на склоне 1965-го, его поклонники и друзья – физики-атомщики – предложили сделать персональную выставку в Доме культуры института им. Курчатова. Через несколько дней ее враз прихлопнули откуда-то сверху. Художника пригласили на обсуждение, где устроители матерью клялись больше никогда этого формалиста не выставлять. Его они заранее предупредили не обращать никакого внимания на то, что они там несут.
Целков потом рассказывал:
– Мой отец, рядовой член партии, очень верил во все коммунистические идеи, он был замечательным, чистым человеком. За свой партбилет жизнь бы отдал. Так вот, приходит к нему однажды милиционер и спрашивает: «Где работает ваш сын?» – «А что, мой сын ларек обокрал?» – «Нет, не обокрал, – говорит милиционер, – но у нас все работают». – «Так мой сын, – объясняет отец, – работает с утра до вечера». – «Но ведь он должен на что-то жить», – не отступает настырный страж порядка. «А я его кормлю», – не сдается отец. Такой между ними вышел разговор.
А однажды Евгений Евтушенко приехал ко мне с двумя друзьями, знакомит отца: «Николай Иванович, это члены ЦК Итальянской компартии». Мой папа привык видеть членов ЦК только на гигантских фотографиях, как богов, а тут вошли два скромных человека, один смущенно достал из кармана бутылку водки. Я принес из кухни селедку, мы разлили водку, выпили. Показалось мало, и навеселе мы двинулись уже в ресторан. Возвращаюсь домой, а отец говорит: «Слушай, сынок, ты знаешь, где я был? В КГБ! Только вы захлопнули дверь, звонок. Кто был у вас, Николай Иванович? Не знаю, говорю, друг моего сына Евтушенко привел двух членов ЦК. А что, это не члены ЦК? Да нет, говорят, члены, члены. А часто такие к вам ходят? Да, частенько бывают, отвечаю. А те: но ведь здесь Тушино, военные заводы. Отец возразил: так что же теперь моему сыну делать, если вы тут военных заводов понастроили?








