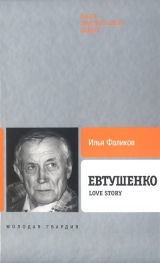
Текст книги "Евтушенко: Love story"
Автор книги: Илья Фаликов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 49 страниц)
Но недавно
в итальянском городке Перуджа,
в совсем непохожей на избу муниципальной галерее
я увидел особенного Христа,
из которого будто бы вынули кости…
Без малейшего намека на плоть или дух,
Христос беспомощно,
вяло свисал,
верней, свисала его оболочка, лишенная тела,
с плеча усталого ученика,
как будто боксерское полотенце
или словно большая тряпичная кукла,
из которой кукольник вынул руку…
На пересказывание сюжета провоцирует форма поэмы, очень близкая к прозе, но делать этого не стоит. Конечно же перуджинский Христос возникает не зря. Нейтронная бомба – это то самое оружие, в котором заключена «гуманнейшая» идея уничтожения людей при сохранении всего остального, в частности вещичек или произведений искусства. В начале восьмидесятых этот факт поразил воображение человечества. Было бы странно отсутствие евтушенковской реакции.
В таких обстоятельствах в сознании человека прокручивается вся его жизнь, у Евтушенко в поэме – история его семьи, детство, огромное пространство от Сибири до Белоруссии с выходом, естественным для него, – на весь земшар. Там будут и бирюзовая сережка, подсмотренная у Тарасова, и интернациональный парад женских ног, и подростковое граффити нейтронной бомбы с протестом «Остановите нейтронную бомбу и прочие бомбы!», и неожиданное одобрение потери роли Христа в фильме Пазолини: «И слова богу… / Сказать по правде, мне всегда казалось, что место Христа – / в избе», и групповой портрет американской эмигрантской тусовки с центральной фигурой миллионерского мажордома Эдика, и застарелая ревность к «диссидентам одежды» – стилягам, да и неодобрение диссидентства как такового. Вызов? Да, и он был принят. Эдик ответит, и другие не отмолчатся. Интереснее другое. Поэма – о матери. О материнстве. О женском начале, дающем жизнь, которая под угрозой. Белорусская бабка Ганна (по линии Зинаиды Ермолаевны, сестра ее отца), найденная автором в сельце Хомичи, – образ того же ряда, и тут уже недалеко до Богородицы. Давнишнее впечатление, полученное в Таормине, оборачивается иным видением.
Это летит не ангел
над шоссе Перуджа – Ассизи:
это летит,
облака загребая рукавами,
старенькая кожанка мамы
с кусочком утреннего солнца
в дырке от мопровского значка,
а на руках участников Марша мира
качается не деревянная богоматерь,
а бабка Ганна из партизанского Полесья
с мопровскими значками ожогов
на высохшей желтой груди.
Бабку Ганну несут
подростки с фабрики «Перуджина»,
где они,
как скульпторы,
шлепают по глыбам теплого шоколада,
и бабка Ганна их спрашивает:
«А можете зробить
петушков на палочке для усих моих унуков?»
Бабку Ганну несут
рабочие с фабрики «Понти»,
сотни раз обвившие шар земной
золотыми нитями спагетти,
а бабка Ганна им пальцем грозит:
«У Хомичах наших
я шо-то такой вермишели
не сустракала…»
Бабку Ганну несут
студенты университета Перуджи,
изучающие Кафку,
структуру молекул
и кварки,
а бабка Ганна знает не Кафку,
а лишь огородную кадку
и про кварки, наверно, думает,
что это шкварки.
Бабку Ганну несут
и Толстой
и Ганди,
и превращается непротивление —
в сопротивленье.
Бабку Ганну несет Иисус
в пробитых гвоздями ладонях,
и она его раны,
шепча,
заговаривает по-полесски.
Бабка Ганна покачивается
над людьми
и веками
в руках Эйнштейна
и Нильса Бора
и страшный атомный гриб
не хочет
класть
в свою ивовую корзину.
А за бабкой Ганной
ползут по планете
ее белые,
черные,
желтые и шоколадные внуки,
и каждый сжимает в руках
картофелину земного шара,
и бабке Ганне кажется,
что все они —
Явтушенки.
А у поворота шоссе Перуджа – Ассизи
стоит газетный киоск
с Рижского вокзала,
где мама продает
послезавтрашние газеты,
в которых напечатано,
что отныне и навсегда
отменяется война.
Поэму «Мама и нейтронная бомба» читатель найдет в седьмом номере «Нового мира» за 1982 год.
Третье сентября 1982 года, «Литературная Россия», П. Ульяшов:
…Эту поэму я вначале слышал в ЦДЛ в исполнении автора… Рано утром я пробегаю мимо Рижского вокзала. На площади в газетном киоске худощавая и, против ожидания, моложавая женщина продает газеты. Над окошечком в табличке фамилия «Евтушенко З. Е.».
Восьмого сентября 1982 года «ЛГ» дает два мнения о поэме «Мама и нейтронная бомба».
Адольф Урбан:
– А если это проза?
Геннадий Красников:
– А если нет?
Остальная жизнь – которая вне стиха – идет своим чередом.
Сценарий «Детского сада» опубликован в мартовском номере журнала «Искусство кино» за 1982 год. Без кино он себя сейчас не видит.
Семнадцатого марта в «Литгазете» напечатан материал Евтушенко «Работа над фильмом – это путешествие. Федерико Феллини, режиссер и писатель».
«Журнал “Иностранная литература” сделал прекрасный подарок нашим читателям, опубликовав в 3-х номерах книгу Федерико Феллини “Делать фильм” в отличном переводе Ф. Двин. Маленький роман-эссе, где главный герой – кино. От имени ЛГ я обратился к режиссеру с письменными вопросами».
В газете помещен парный фотоснимок обнявшихся Феллини и Евтушенко. Подпись: «Этот снимок сделан в Чинечитта на съемках фильма “Джульетта и духи” в 1964 году. При просмотре материала я сказал Феллини, что на его месте я бы выбросил один слишком уж красивый кадр – женское лицо, полузатененное кружевной занавеской. Феллини согласился, но потом, как выяснилось, кадр оставил. Через 15 лет я спросил его почему. Феллини развел руками: “Человек больше всего боится лишиться своих недостатков”».
«Феллини сам построил свой корабль и сам стал его капитаном, мужественно проходя между Сциллой коммерции и Харибдой снобизма. Он принадлежит к немногим в странах Запада режиссерам, которые не уподобляются тем капитанам, кому все равно, кто их нанимает и какой груз они везут. Корабль Феллини нередко блуждал в миражах, но крепкие руки профессионала, лежащие на штурвале, неизменно выравнивали курс от ложных маяков в сторону настоящего искусства. <…>
Книга Феллини “Делать фильм” – блестящая проза как таковая, а вовсе не мемуары и не руководство к кинопроизводству. Маленький роман-эссе, где главный герой – кино. Стереоскопически выпуклые рассказы, которым мог бы позавидовать любой профессиональный писатель. Тончайший талант увидеть тайну мира даже в пасхальном яйце, лежащем на кружевной салфеточке. Вымытые дождем воображения предметы и образы детства, казалось бы, неминуемо запыленные временем. Влюбленность в людей, в запахи, в краски, заставляющая задуматься о том, что лишенный дара любви никогда не смог бы воскресить силой искусства этих людей, запахи, краски. Погружение в глубь психологии творчества, как в батискафе, когда в иллюминаторе колышутся смутные водоросли замыслов и проплывают причудливые донные рыбы предчувствий…
Во время чтения этой книги я несколько раз – особенно в понравившихся местах – нервно ерзал: какого писателя мы потеряли! Но почему потеряли? Ведь книга есть… Она и побудила меня обратиться к режиссеру с письменными вопросами, уточняющими замысел этого непростого, как и сам автор, произведения. Феллини ответил не сразу, но с подкупающей серьезностью и глубиной.
Наши несколько встреч проходили с довольно большими временными интервалами, и, честно говоря, я кое-что подзабыл. А вот Феллини не забыл, и, наверно, это свойство незабывания людей и есть неиссякаемый источник его творчества.
Е. Е.Твоя книга завершается тем, что к тебе подходит девочка и просит что-нибудь написать на клочке бумаги. Ты берешь в руки бумажку и вдруг видишь, что она вся испещрена надписями. Тебе негде писать, и ты еле-еле находишь местечко, где вписываешь: “Я попытаюсь…”
История человеческой мысли подобна такому сплошь исписанному листку. Иногда кажется, что нет уже места, чтобы вписать свое слово, которое что-то добавит ко всему остальному.
Является ли, по-твоему, сфера мысли неким замкнутым пространством, где вписать свое можно лишь за счет устранения прежнего, или этот листок обладает волшебным свойством саморасширяться? Что означает на этом листке феллиниевская надпись в твоем собственном понимании?
Ф. Ф.Кто-то сказал, что если человек выражает через сновидения самую сокровенную, неисследованную часть самого себя, то человечество выражает себя через искусство. Если такой взгляд на творчество приемлем, то отпадают разговоры об ограниченности творчества: художник всегда может отыскать для себя чистый уголок на том листке, который ты рассматриваешь метафорически.
Художественное творчество – это не что иное, как сновиденческая деятельность человечества. Может ли истощиться, иметь какие-то границы бессознательное? Могут ли истощиться сновидения? Эта деятельность мозга спящего человека носит автоматический, непроизвольный характер. (Тут я не согласен с Феллини. Сновидения – это самый реалистический кинематограф. И реализм бессознательного, автоматического не существует. – Е. Е.)
Но у художника эта деятельность сочетается с изобразительными приемами, с так называемой символикой. Художник отдает себе отчет в том, что творить – значит “упорядочивать” нечто уже существующее, проецировать это на восприятие других людей.
Творчество представляет собой переход от хаоса к космосу, от недифференцированного, запутанного, неуловимого – к чему-то, обретшему прекрасную, совершенную форму, от бессознательного – к сознанию. Вот почему мне кажется, что в художнике ощущение творчества как процесса сильнее, чем ощущение его как конечной цели. <…>
Е. Е. Ты почти избегаешь в этой книге разговора о том, какую роль сыграла в твоем формировании литература. И все-таки какие книги для тебя были самыми значительными в детстве, в ранней юности?
Ф. Ф. Попробую вспомнить. Итак, “Пиноккио”, “Фортунелло”, “Джабурраска”, “Остров сокровищ”, Эдгар По, “Арчибальд и Петронилла”, Жюль Верн (правда, у него я пропускал целые главы, а иногда читал только начало и конец), Сименон (мы с ним стали друзьями). Потом, хотя нам и вдалбливали их в школе, – Гомер, Катулл, Гораций… Нравился мне и “Анабазис” Ксенофонта, где солдаты на привалах “ели сливки и пили вино, опершись на длинные копья”.
Позднее пришли русские писатели: Гоголь, Чехов, Гончаров… “Смерть Ивана Ильича” Толстого – что за поразительная вещь! А однажды – я уже был взрослым – один мой друг-писатель привез мне “Превращение” Кафки. “Проснувшись однажды утром после тревожного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое”. “Бессознательное”, которое у Достоевского было объектом тревожного и захватывающего исследования и установления диагноза, здесь становилось предметом повествования, как в забытых мирах, легендах.
Совсем иное я находил в американском романе. Стейнбек, Фолкнер, Сароян: наконец-то настоящая жизнь, наполненная приключениями, пульсирующая. Никакой парадности, никаких мундиров, коллективных ритуалов, триумфально-воинственной риторики, а подлинные человеческие чувства, повседневная борьба. Это была подлинная жизнь, так отличавшаяся от мрачного витализма фашистских иерархов, прыгавших в своей черной униформе сквозь огненные кольца…
Е. Е.Веришь ли ты в возможность скрупулезной экранизации как только в экранизацию “по мотивам”? Не приходила ли тебе в голову мысль экранизировать “Ад” Данте?
Ф. Ф.“Ад” Данте? Кто только мне не предлагал экранизировать его, и всякий раз, когда я отказывался, лица заказчиков вытягивались в сурово осуждающей гримасе: плохо, очень плохо, непростительно, что я отверг такое почетное предложение…
А вообще предложение заманчивое: я бы с удовольствием сделал часовой фильм, опираясь на Синьорелли, Джотто, Босха, рисунки душевнобольных. Получился бы этакий бедный, тесный, неудобный, перекошенный, плоский адик. Но продюсерам требуется Доре: клубы дыма, красивые голые задницы и вполне научно-фантастические драконы.
Произведение искусства рождается в своей единственной выразительной форме. Все экранизации, все переложения я считаю чудовищными, нелепыми, уродливыми.
(Не перебарщивает ли Феллини? Ведь он сам снял “Сатирикон” по Петронию. Но во многих конкретных примерах он – увы! – прав… – Е. Е.)
Считаю, что кино не нуждается в литературе – ему нужны лишь свои авторы-сценаристы, выражающие собственные идеи через ритмы и размеры, присущие лишь кинематографу. Кино – автономное искусство, и его нельзя превращать в иллюстрацию. Что берется из книг? Какие-либо ситуации. Но ситуации сами по себе не имеют никакого значения. Главное – чувство, с которым они показаны, фантазия, атмосфера, свет. Интерпретации – кинематографическая и литературная – одних и тех же фактов не имеют между собой ничего общего. Это два совершенно разных способа самовыражения. <…>
Е. Е.В своей книге ты настойчиво подчеркиваешь, что никогда не встречал полностью взрослых и что все взрослые – это на самом деле дети. Мне тоже кажется, что, если человек полностью не закостеневает, его формирование может быть бесконечным… А что бы ты посоветовал в таком случае детям? Не становиться взрослыми?
Ф. Ф. Прежде всего я бы постарался им привить любопытство и научил бы их ничего не бояться. Остерегайтесь спугивать или глушить в ребенке любопытство; это – прекрасное орудие защиты и исследования, это – чувство, которое надо сохранять во что бы то ни стало. <…> Ни разу не видел, чтобы родитель спрашивал у ребенка, каким представляется ему кот или дождь. Что ему снилось ночью и почему он этого боится. <…> Фильм, которого я, к сожалению, не сделал, да и сделать его невозможно, это история сотни детей двух-трехлетнего возраста, живущих в огромном густонаселенном доме на окраине большого города.
Я бы показал жизнь этого большого дома, увиденную и придуманную детьми, – с любовными историями, с ненавистью и несчастьями, и все это на тех же лестницах или в садике перед домом. <…>
Поддавшись очарованию феллиниевской задумки, я подошел к своему трехлетнему сыну Саше и спросил его: “Что такое кот?” И вдруг я заметил, что глаза моего мальчика обратились с вопросом к окружающим взрослым, и один из них начал объяснять ему то, что должен был объяснить он сам, и, возможно, каким-то особенным, наивно-мудрым способом».
Пятнадцатого-шестнадцатого ноября 1982 года Евтушенко написал «Хранительницу очага».
Собрав еле-еле с дорог
расшвырянного себя,
я переступаю порог
страны под названьем «семья».
Пусть нету прощения мне,
здесь буду я понят, прощен,
и стыдно мне в этой стране
за все, из чего я пришел.
Набитый опилками лев,
зубами вцепляясь в пальто,
сдирает его, повелев
стать в угол, и знает – за что.
Заштопанный грустный жираф
облизывает меня,
губами таща за рукав
в пещеру, где спят сыновья.
И в газовых синих очах
кухонной московской плиты
недремлющий вечный очаг
и вечная женщина – ты.
Ворочает уголья лет
в золе золотой кочерга,
и вызолочен силуэт
хранительницы очага.
Очерчена золотом грудь.
Ребенок сосет глубоко…
Всем бомбам тебя не спугнуть,
когда ты даешь молоко.
С годами все больше пуглив
и даже запуган подчас
когда-то счастливый отлив
твоих фиолетовых глаз.
Итак, фиалковые глаза стали фиолетовыми. Что ж, всё течет, всё меняется.
Происходит и нечто историческое.
Двадцать третьего марта 1982 года во время визита Брежнева в Ташкент на самолетостроительном заводе на него обрушились мостки, полные людей. У Брежнева была сломана ключица, которая так и не срослась. Здоровье Брежнева было окончательно подорвано. 7 ноября Брежнев последний раз появился на публике. Стоя на трибуне мавзолея, он в течение нескольких часов принимал военный парад на Красной площади, однако его недужная дряхлость бросалась в глаза даже на официальной съемке.
Л. И. Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на государственной даче «Заречье-6». Тело было обнаружено охраной в девять часов утра. Первым из политиков на место смерти прибыл Андропов. О смерти Брежнева СМИ сообщили лишь через сутки, 11 ноября в десять часов утра. При погружении гроба в землю раздался громкий стук на всю страну. Началась эра генеральных похорон.
1983 год. Юбилейный июль. Евгению Евтушенко пятьдесят. Официально – полвека, фактически – побольше, но это неважно. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Концерт в спорткомплексе «Олимпийский». Гигантский объем зала заполнили 12 тысяч зрителей, и что примечательно – коллег практически не было. Кроме двух-трех русских поэтов, четырех поэтов из Испании и Зои Богуславской, жены Андрея Вознесенского.
Открыл действо солидный и красноречивый Чингиз Айтматов, его плохо слушали – плохо было слышно: долго что-то не ладилось с микрофоном. Евтушенко работал три часа, несколько раз менял насквозь пропотевшие рубашки. Мама сидела в первом ряду.
Отдышавшись от «Олимпийского», он отправляется в Абхазию. Там его встречают как вельможу.
Двадцать второго июля газета «Советская Абхазия» сообщает:
…В эти дни Евгений Евтушенко у нас, в Абхазии. Недавно он побывал в Новом Афоне, затем совершил поездку в колхоз имени XXIV партсъезда села Лыхны Гудаутского района, осмотрел новостройки и исторические памятники села, встретился с тружениками этого передового хозяйства.
На встрече Евгения Евтушенко с тружениками колхоза имени XXIV партсъезда присутствовали кандидат в члены бюро ЦК КП Грузии, первый секретарь Абхазского обкома партии Р. Бутба, первый заместитель председателя Совета министров Абхазской АССР В. Цугба, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии Ю. Мосашвили, заведующий отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома партии В. Авидзба, секретари Гудаутского РК КП Грузии К. Озган, Ю. Табуцадзе, Ю. Папба, директор музея Дружбы народов АН Грузинской ССР Т. Бадурашвили, известные поэты и писатели И. Абашидзе, Б. Шинкуба, И. Амирэджиби, В. Алпенидзе, А. Сулакаури, композитор С. Мирианашвили.
На следующий день Е. Евтушенко чествовали труженики Цебельдского животноводческого совхоза Гульрипшского района. В просторном зале 1-й средней школы состоялся большой вечер поэта.
Тепло приветствовали поэта секретарь Абхазского ГК партии Р. Бутба, заведующий отделом культуры Гульрипшского райисполкома Г. Коршия, рабочая Цебельского совхоза Н. Кухалейшвили, педагог А. Гурунян, поэты В. Соколов, Ш. Акобия, И. Тарба. М. Шаханов.
Затем состоялся концерт художественной самодеятельности, на котором звучали абхазские, грузинские, русские, армянские, украинские, эстонские песни, стихи Е. Евтушенко и др. поэтов.
Участники вечера осмотрели место раскопок древнего Цибилиума…
О славной истории главной крепости древней Апсилии рассказывали руководители археологической экспедиции кандидат исторических наук Ю. Воронов, О. Бгажба.
В ходе осмотра было высказано пожелание об усилении внимания к сохранению и популяризации уникальных памятников Цебельды и организации на их базе современного историко-архивного музея-заповедника.
На встрече в Цебельде присутствовали первый заместитель председателя Совета министров Абхазской АССР В. Цугба, заведующие отделами Абхазского обкома КП Грузии В. Авидзба и Д. Губаз, секретари Гульрипшского РК КП Грузии Г. Начкебия и Э. Сурменелян, первый секретарь Ванского РК КП Грузии Н. Андриадзе, министр пищевой промышленности Грузинской ССР А. Концелидзе, директор республиканского музея Дружбы народов Т. Бадурашвили, заместитель председателя Совета по грузинской литературе при Союзе писателей СССР X. Гагуа, известные поэты и писатели К. Каладзе, М. Ласурия, И. Амирэджиби, В. Алпенидзе, К. Ломиа, И. Тарба, Г. Каландия и др., издатели, переводчики, ученые и поэты из Англии и Швеции.
Государственный поэт. Государственный размах торжества. Пир горой. Юбилеи надо отмечать на Кавказе.
Но и работать надо.
Двадцать четвертое сентября 1983 года, «Московская правда»:
Двадцать первого сентября, среда. У Большого театра и на Красной площади проведены съемки сцен из нового художественного фильма Евтушенко.
…антураж – картонная стена здания, сбитый немецкий бомбардировщик, пушки, снаряды, винтовки.
…у Василия Блаженного ждут, когда солнце осветит место съемки.
«Наша работа подходит к концу, но эти сцены будут в фильме первыми…»
Женя – ученик 6-го класса Сережа Гусак. Бабушка – табельщица Дворца спорта в Лужниках Г. Стаханова.
«…принял участие в съемках известный австрийский актер К. Брандауэр. Он знаком москвичам по лентам “Мефистофель” И. Сабо и “Жан Кристоф” Ф. Вильде».
В ноябре – первая премьера фильма: в зиминском кинотеатре «Россия». Вторая премьера – в иркутском Дворце спорта в январе 1984-го. Между Зимой и Иркутском – поездки: Италия и Китай. В Венецию на фестиваль «Поэты и Земля» в рамках биеннале он привозит Нику Турбину. «Золотой лев». Ослепительный знак несчастья в руках счастливой девочки.
В мае он покажет «Детский сад» в Ереване.
В поездках и кинозаботах стихи происходили нечасто. Поэма «Бедная родственница» оказалась по-своему рекордной – в смысле маленького объема. Сам сюжет – возникновение на выпивоне киноэлиты некой старушки из Орла, на самом деле учительницы инглиша, с сумками в руках, – сам сюжет (написанный, впрочем, прекрасно) стал лишь поводом для автора разразиться многословной рефлексией на сей счет, и поэма заслуженно потерялась в списке его эпоса.
Евтушенко вполне мог умещаться в коротких вещицах, где густо концентрировалась вся проблематика тех дней его жизни.
Наверно, с течением дней
я стану еще одней.
Наверно, с течением лет
пойму, что меня уже нет.
Наверно, с теченьем веков
забудут, кто был я таков.
Но лишь бы с течением дней
не жить бы стыдней и стыдней.
Но лишь б с течением лет
двуликим не стать, как валет.
И лишь бы с теченьем веков
не знать на могиле плевков!..
По существу, сказано всё. Однако эпос тянет к себе, и в апрельской поездке по Латинской Америке при посещении Международной книжной выставки-ярмарки возникает замысел поэмы, которую он назовет «Фуку!».
Что это такое – «фуку»? Табу на имя. Позор, забвенье, что-то вроде украинского «Ганьба!», если ставить восклицательный знак. Словцо привезено в Латинскую Америку из Африки вместе с «черным мясом». Сама поэма там и начинается: Евтушенко можно смело назвать латиноамериканским поэтом не только по количеству написанного там, но и по духу карнавала, по ритмике и щедрости палитры. Повод к поэме – евтушенковский променад по Санто-Доминго, где праздник жизни происходит на фоне ужасающей нищеты и детского голода. Всего того, что русскому поэту его поколения известно со времен войны.
Был для кого-то эстрадным и модным —
самосознанье осталось голодным.
Перед всемирной нуждою проклятой,
как перед страшной разверзшейся бездной,
вы,
кто считает, что я – богатый,
если б вы знали —
какой я бедный.
Кто эти «вы»? Оппоненты. Почему они адресат его поэмы? С кем спорит «бедный поэт»? Похоже, все та же интеллигенция. Установка Евтушенко такова: вам не нужен мой пафос, вы не верите мне, моему социализму и патриотизму, а потому получайте все это в огромных размерах. Выразитель времени давно и бесповоротно идет поперек времени, и его гражданская продукция становится на самом деле особой зоной поэзии чистой. Богатством его стиха, словаря и исполнительской техники может утолиться лишь знаток. Он повторяет прежние приемы, повышая их уровень. Теперь проза, внедренная в стихи, безупречно написана: это действительно избранная проза Евтушенко, эти лаконичные новеллы, в которых действуют генералиссимус Франко и команданте Че; некий аферист с пацаном, надувший поэта, и нищая старуха, умело разламывающая краюху хлеба; неудавшийся художник Гитлер и Гюнтер Грасс – великолепный буйвол с очками на носу; сопливые русские фашисты и Берия, коему нравятся слегка толстые женские ноги; предатель молодогвардейцев, напивающийся в собственном баре, и сам Фадеев, молодо-седой, истощенно красивый; Пиночет – провинциал с влажной ладонью и бывшая женщина-полицейский, ушедшая в учительницы Магдалена; Сикейрос и колымский бульдозерист Сарапулькин, созидающий из валунов свой будущий склеп – личную пирамиду…
Есть тут и бункер Сомосы, где кресло пробито сандинистсткой пулей, и дырочку расковыривает пальчиком младенец, есть и пароход посередине Амазонки между Бразилией и Эквадором, и на обоих берегах стоят военные люди, не знающие, в каких отношениях состоят их страны: надо ли что-то делать, наблюдая за пожаром на пароходе и гибелью людей? Это их проблема. Не евтушенковская. Он пафосно гнет свою линию, прекрасно видя изнанку вещей:
Заманчив проект социального рая,
но полная стыдь,
всех в мире детишек усыновляя,
своих запустить.
Глобальность порой
шовинизма спесивей.
Я так ли живу?
Обнять человечество —
это красивей,
чем просто жену.
Тем не менее он не покидает проповеднической кафедры. Это эпос, состоящий из декламативного стиха и сдержанной прозы. «Фуку!» симфонична, и финал всей поэмы – высокая декламация, вряд ли достигающая широких масс по причине скрытых в самом стихе чисто стиховых достоинств, не столько изощренных, сколько необходимых здесь и сейчас. Маяковский, Пабло Неруда, Уитмен присутствуют при сем.
Последнее слово мне рано еще говорить —
говорю я почти напоследок,
как полуисчезнувший предок,
таща в междувременьи тело.
Я —
не оставлявшей объедков эпохи
случайный огрызок, объедок.
История мной поперхнулась,
меня не догрызла, не съела.
Почти напоследок:
я —
эвакуации точный и прочный безжалостный слепок,
и чтобы узнать меня,
вовсе не надобно бирки.
Я слеплен в пурге
буферами вагонных скрежещущих сцепок,
как будто ладонями ржавыми
Транссибирки.
Почти напоследок:
я в «чертовой коже» ходил,
будто ада наследник.
Штанина любая
гремела при стуже
промерзлой трубой водосточной,
и «чертова кожа» к моей приросла,
и не слезла,
и в драках спасала
хребет позвоночный,
бессрочный.
Почти напоследок:
однажды я плакал
в тени пришоссейных замызганных веток,
прижавшись башкою
к запретному, красному с прожелтью
знаку,
и все, что пихали в меня
на демьяновых чьих-то банкетах,
меня
выворачивало
наизнанку.
Почти напоследок:
эпоха на мне поплясала —
от грязных сапог до балеток.
Я был не на сцене —
был сценой в крови эпохальной и рвоте,
и то, что казалось не кровью, —
а жаждой подмостков,
подсветок,—
я не сомневаюсь —
когда-нибудь подвигом вы назовете.
Почти напоследок:
я – сорванный глас всех безгласных,
я – слабенький след всех бесследных,
я – полуразвеянный пепел
сожженного кем-то романа.
В испуганных чинных передних
я – всех подворотен посредник,
исчадие нар,
вошебойки,
барака,
толкучки,
шалмана.
Почти напоследок:
я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять
ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эполетах,
в следах от ладоней чужих на плечах
с милицейски учтивым
«пройдемте!».
Почти напоследок:
я – всем временам однолеток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.
Я,
словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«фуку!» прохриплю перед смертью
поддельно бессмертным тиранам.
Почти напоследок:
поэт,
как монета петровская,
сделался редок.
Он даже пугает
соседей по шару земному,
соседок.
Но договорюсь я с потомками —
так или эдак —
почти откровенно.
Почти умирая.
Почти напоследок.
Гавана – Санто-Доминго – Гуернавака – Лима – Манагуа – Каракас – Венеция – Леондинг – станция Зима – Гульрипш – Переделкино, 1963–1985.Помета под поэмой – часть ее поэтики. Если этим стихам не верить, их нет. Но они есть.








