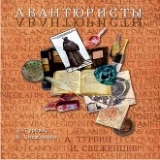
Текст книги "Авантюристы (СИ)"
Автор книги: Игорь Свеженцев
Соавторы: Андрей Турбин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
Глава четвертая
НЕ ДО ЖИРУ, БЫТЬ БЫ ЖИВУ
«А горе тут как тут!.. Гнилая дверь скрипит
И отворяется. Спокойствия рачитель
Вступает с важностью в мундирном сюртуке.
„Потише, – говорит, – вы здесь не в кабаке…“»
(В. Л. Пушкин)
Чуть свет явились, подпирая друг дружку плечами, пухлые, прыщавые, стриженые «капульчиком» несовершеннолетние отпрыски вдовы Завынкиной – близнецы Феофил и Ослябя. Потея и краснея, слегка срывающимся фальцетом, в котором, однако, уже слышались нотки будущего гонора, они поведали непреклонную волю купчихи: Аглая Тихоновна велела жильцу съезжать сегодня же, иначе она посылает за полицией.
Нарышкин долго и неучтиво таращился на обоих купчиков, соображая – не двоится ли у него в глазах. От неудобного сна в кресле затекла спина и шея. В голову будто кто-то налил свинца. Минувшее стало понемногу всплывать из затуманенного сознания, и постепенно Нарышкин восстановил хронологию прошедшей ночи.
– Съезжать будете? Али за квартальным посылать? – спросило «сросшееся плечами» существо в дверях. – Что маменьке передать?
– Сынков – что пеньков… – буркнул Сергей, тщетно пытаясь найти разницу между близнецами. – Передайте вашей маменьке, – сонно помаргивая и намериваясь сотворить большой матерный загиб, начал он. – Передайте вашей матери…
Однако в эту минуту приоткрылась дверь в спальню, и оттуда показалось встревоженное лицо Катерины.
Нарышкин захлопнул рот и проглотил окончание фразы.
– Ступайте, – пробурчал он близнецам, – съеду… Пусть успокоится мамаша ваша, черти бы ее прибрали. А теперь – брысь отсюда!
Существо, шумно сопя и топоча всеми четырьмя ногами, поспешно убралось восвояси.
– Вы уж простите нас, Сергей Валерианович, кабы знали мы, что Вы через наше горе такие гонения терпеть станете, нипочем бы не пошли сюда, – Катерина пустила слезу, скорбно поджав красиво очерченные губы.
«Хороша! – в который раз, подумал Нарышкин. – Однако и впрямь, что-то делать надо. Проклятой вдове, хотя лишний шум и не нужен, но в этом случае лучше все-таки убраться от греха подальше…».
– Буди отца, Катерина, – он кивнул на Степана, свернувшегося калачиком на полу у выложенной голландской плиткою печки.
Вскоре Терентий принес из дворницкой продукты и быстро соорудил нехитрый завтрак.
– Аглая Тихоновна шибко ругаются, – вздохнул Терентий, собирая на стол. – Велели и мне, чтоб с якоря снимался! Выметайся, мол, вместе со своим барином, говорит. Что ж делать-то будем, Сергей Валерианович? – он печально посмотрел по сторонам, вздохнул и достал из котомки бутыль хлебного. – Последняя осталась… Изволите видеть! А квартирку-то жаль, хорошая была квартирка.
– Брось, Терентий, причитать, – цыкнул на него Нарышкин. – Пусть старая ведьма подавится конурой своей. Ничего, что-нибудь придумаем! Ну, налетай, соколы, – он кивнул, приглашая к столу всю компанию.
– Давай, Степан, буйны головы на место поставим! А то моя где-то далече обретается.
– Сергей Валерианович, а как же насчет уговора давешнего… неужто, запамятовали? – Степан вопрошающе посмотрел на барина.
– Какой уговор?
– Ну, как же, давеча… ведь сговорились мы с Вами, – Степан заерзал на стуле, покосившись на Терентия и Катерину.
– А-а-а… – протянул Нарышкин. – Как же, помню. Я тебе десятую часть обещал.
Степан едва не подавился куском вареного картофеля.
– Как же, помилуйте… мы же так не уговаривались!
– Ладно, шучу я! – засмеялся Нарышкин. Его голова возвращалась на насиженное место – хлебный пенник подействовал. – Уговор есть уговор! Все одно шкуру еще неубитого медведя делим… Сколько там у нас капиталу осталось, Терентий?
Дядька склонился над ухом Нарышкина и шепнул:
– Сотенная, сударь… Ну еще «беленькая» у меня припрятана. Все что имеем…
– Не густо! Сто двадцать пять! Черт! – Нарышкин почесал вихры. – А сколько мы должны-то?
– Извольте. За квартиру сто пятьдесят, да за дрова осьмнадцать. Водовозу я отдал, прачке тож, винной лавке заплатил, а то там грозились не отпускать. Итого, получается… получается опять же сто пятьдесят… с маленьким хвостиком. – Терентий посмотрел на барина взглядом, в котором явственно читалось сострадание.
Нарышкин вскочил, заходил из угла в угол, как делал всегда, когда испытывал сильное возбуждение.
– Черт бы побрал все эти «маленькие хвостики»! Отдать весь долг вдове мы не сможем! У нас ничего не останется, так? Она, поди, будет довольна уже тем, что я съеду. С другой стороны, не отдать совсем – значит себя обесчестить! Скажи-ка, дядька Терентий, можем ли мы поступиться дворянской честью и не заплатить вдове?
– Воля ваша, Сергей Валерианович, – Терентий пожал плечами.
– С другой стороны, если не дать ей совсем ничего, пожалуй, все-таки она может позвать квартального, так, Терентий?
– Воля ее, – кивнул головой Терентий, убирая со стола посуду.
– А в нашем положении квартальный нам без надобности, так, Степа?
– Точно так! – быстро согласился Степан.
– Сделаем вот как: дадим этой старой каналье рублей тридцать. С нее хватит, тем более что она своим вчерашним поведением опорочила купеческое сословие. Будет рада и этому. Что у нас остается? Восемнадцать за дрова и тридцать хозяйке, в остатке, если не ошибаюсь… пятьдесят два… да еще четвертной… выходит – семьдесят семь рублей. Все равно маловато!
Нарышкин вздохнул, продолжая расхаживать по квартире. Вся горемычная компания внимательно следила за его перемещениями, поворачивая головы из стороны в сторону по мере движения барина – от окна к входной двери, от кресла – к печи с изразцами.
– Семьдесят семь рублей – это даже как-то не звучит. Округлим эту сумму до семидесяти. Получается в остатке – семь рублей! Вот на них, на эти семь рублей я и буду думать, где нам достать деньги на поездку, – лицо Нарышкина озарилось широкой улыбкой. – Ты вот что, Терентий, голубчик, ступай в лавку и принеси нам чего-нибудь на эту мелочь. Там, я помню, было кагорское в сорок копеек ценой. Так ты захвати бутылок… пару-тройку. Дрянь винцо, конечно, ну да чего уж там… И возьми, пожалуй, конфектов каких-нибудь Катерине, или орехов… Да, и еще захвати бутылку Шато-Лафита. Оно там в целковый. Не пить же ей эту бурду за сорок копеек, в самом деле…
– Ну к чему Вы… зачем это, Сергей Валерианович? – Катерина вспыхнула румянцем.
– Бросьте, Катенька, мы тут с Вашим папашей такое дело затеваем – на великие тыщи! Что ж нам теперь из-за лишнего рубля скопидомиться? – подмигнул девушке Нарышкин.
Терентий вернулся довольно быстро, волоча с собой корзину провизии.
– Худо, сударь мой Сергей Валерианович, – запыхавшись, сообщил он. – Аглая Тихоновна все ж таки вызвала полицию. Внизу они, с жильцами беседуют. Жильцы тоже шибко Вами недовольны, шумят. Сейчас подниматься будут. У черного хода человек уже поставлен. Меня впустил, а выпускать, говорит, никого не велено.
– Ах, черт! – Нарышкин с веселой злостью окинул взглядом комнату. Подавленный Степан обреченно втянул голову в плечи.
– Что же нам теперь делать, Сергей Валерианович? – Катерина с мольбой в глазах схватила Нарышкина за рукав.
– Я тут с утра на всякий случай собрал кое-что, – сказал Терентий, кивнув на туго набитый большой дорожный саквояж.
– Венгерку мою захвати, потом переоденусь, – Нарышкин вновь быстро зашагал по квартире, бегло оглядывая ее. – Книги… Черт с ними, с книгами, с коврами тоже… пусть подавится, их все равно моль сожрала…
Его взгляд упал на висевшую на стене медвежью шкуру с прикрепленными на ней крест-накрест турецкими саблями и парой старинных пистолетов.
Со словами «Ну нет, этого я ей не оставлю!» Нарышкин сдернул шкуру со стены, закатал в нее свой арсенал и передал Степану, который с гадливым ужасом отворотив голову, взял шкуру в охапку.
Один из пистолетов Нарышкин оставил при себе. Повертев его так и этак, хмыкнул:
– Смотри-ка, заряжен. Отчего бы это? Терентий, ты не знаешь?
– Как не знать! Вы третьего дня по мухам стрелять изволили. Вон на стене отметины остались, – Терентий показал на издырявленную стену.
– Точно! Вспомнил! – хлопнул себя по лбу Нарышкин.
– Может, пойдем уже, голубчик, батюшка Сергей Валерианович, – с дрожью в голосе, отворачивая от шкуры лицо, попросил Степан.
– Присядем на дорожку! Терентий, открывай кагорское. Хлебнем за отъезд.
– О, господи! – вырвалось у Степана. – Как Вы только, сударь, можете в такой-то час…
Катерина выглядела много спокойнее своего отца. Хотя и в ее лице угадывался затаенный страх.
– Катенька, возьмите конфекту, – улыбнулся Нарышкин, сунув ей кулек.
– Благодарю Вас, – тихо проговорила девушка.
– А что, Терентий, ход на крышу открыт? – поинтересовался Нарышкин, делая большой глоток из бутыли.
– Открыт, сударь мой, вчера как раз трубочисты приходили, сегодня, сказывали, тоже придут, так я и не запирал.
– Отлично, отлично, – Нарышкин еще отхлебнул из бутыли.
– Ну что, Степа! Вот и начинается наша с тобой авантюра! Я чувствую душевный подъем! Эх, засиделся я в этой коморке. На волю пора! Выпей вина, Степан, нас ждет дальняя дорога!
– Ей богу, Сергей Валерианович, как Вы можете… в этакой-то момент! Пойдемте скорее уж, а то будет нам не дальняя дорога, а казенный дом!
– Поднимаются сюда! – крикнул Терентий, выглянув из двери.
– Ну что ж, – Нарышкин встал, держа в одной руке заряженный пистолет, а в другой наполовину пустую бутыль кагорского.
– Прощай, вдовья клетка! – с пафосом воскликнул он. – Лезьте на крышу, я вас прикрою.
Гул голосов внизу слышался все отчетливее.
– Вы что это задумали… не гневите бога, Сергей Валерианович, – оглядываясь на пистолет и бледнея, произнес Степан.
Первым с неожиданной легкостью вскарабкался по шаткой лестнице, ведущей на чердак, дядька Терентий. Он откинул крышку люка, принял саквояж из рук Степана и подал свою мозолистую клешню Катерине. Та легко вспорхнула наверх. Однако Нарышкин успел мельком заглянуть под юбку.
– Хороша крестница у моего покойного управляющего, – вновь отметил он про себя.
Голоса приближались. Теперь они были уже на третьем этаже. Из общего гула выделялся поросячий визг разгневанной вдовы.
Степан, кряхтя и морщась, с трудом втащил шкуру в отверстие люка:
– Сергей Валерианович, быстрее! Что же вы!?
Нарышкин сделал долгий глоток, расплылся в хмельной улыбке, а затем быстро поднял пистолет и нацелил его в окно, находящееся как раз над лестничной клеткой.
– Эх-ма! Весело, как на ярмарке! – воскликнул он и нажал курок. Раздался оглушительный грохот, послышался звон разбитого стекла. Истошный крик «Убивают!» потонул в шуме, гаме, воплях и топоте стремительно убегающей вниз толпы.
Нарышкин бросил в этажный проем допитую бутылку кагорского, присоединив ее звон к общей какофонии, слегка пошатываясь, вскарабкался на чердак, захлопнул крышку люка и навалил на нее какую-то оказавшуюся под рукой тяжелую колоду. На чердаке пахло сыростью, голубиным пометом, всюду были развешаны сохнущие тряпки…
– Что же Вы это? Зачем? – Степан перекрестил вспотевший лоб. – Господи, шуму-то сколько! Что ж теперь будет! Убили кого?
– Не распускай сопли, Степа! Никого я не убил! Попугал только немного… Давайте выбираться отсюда, – Нарышкин подтолкнул Степана к ржавой лесенке, выводящей на крышу.
Они вылезли наверх через слуховое окно и обмерли от вида открывшейся красоты. Повсюду, насколько хватало взгляда, перед ними расстилалось море крыш, целые лабиринты дворов, улиц, переулков, печных труб, балюстрад, затейливых коньков, эркеров и прочих архитектурных изысков. Впереди за чередой крыш в дымке ясного весеннего дня сверкала золотом утыканная лесом корабельных мачт Нева.
Ослепительно сиял шпиль Петропавловской крепости, за ним таяли в золоте острова, чуть левее у стрелки Васильевского острова густели корабельные снасти, а совсем вдалеке, где-то у кромки горизонта, скорее угадывалось, чем виделось бледное зеркало Финского залива.
– Господи, как красиво, – вырвалось у Катерины. – Папа, Вы только гляньте!
Степан, на секунду подняв голову, хмуро посмотрел по сторонам, буркнул себе под нос:
– Не убиться бы! Крыша вона какая крутая. Ты, дуреха, башкой-то по сторонам меньше верти… того и гляди вниз засвистишь.
– Красотища! – воскликнул Нарышкин, поддерживая Катерину под руку и помогая ей перелезть на соседнюю крышу. – А вон слева, видите – это Исаакий! Степан, видишь Исаакий! – широким жестом указал он, едва не сбросив Степана с крыши.
– Вижу! – крикнул Степан, хватаясь за печную трубу. – Вы, сударь, того, поосторожнее. Кабы Вы меня вниз не сверзили.
Так путешествовали они примерно с полчаса. Перелезая с крыши на крышу, благо дома тянулись сплошной застройкой, и попасть с одного на другой не составляло особого труда.
Несколько раз они меняли направление, так как улица в этом месте обрывалась, и принуждены были двигаться в сторону, обходя колодцы дворов. Нарышкин радовался, как ребенок, уверяя, что это обязательно собьет с толку их преследователей, если, конечно, они вздумают кинуться в погоню. Пару раз он соскальзывал, но успевал зацепиться за что-нибудь к ужасу всей компании, пока наконец не выронил из руки пистолет, который полетел по скату крыши и с омерзительным грохотом исчез в водосточной трубе. Но и это происшествие нисколько не расстроило Нарышкина. Он был весел и оживлен. Повстречав на одной из крыш перепачканного сажей трубочиста, барин пожелал выпить с ним на брудершафт немного вина. Однако перепуганный трубочист бросился бежать с невероятной прытью и шустро ввинтился в одно из чердачных окон, прежде чем Нарышкин успел распечатать бутылку.
Наконец сплошная вереница крыш оборвалась возле канала, и ходу дальше не было ни влево, ни вправо.
– Привал! – объявил Нарышкин. – Место мне нравится. Вид преотличнейший. Здесь и пообедаем. А то у меня желудок уже реквием наигрывает.
Дом, на крыше которого они находились, был ниже остальных. У края его рос одинокий клен, возвышаясь несколько над крышей и создавая естественную сень. Здесь, в тени клена, крыша, нагревшаяся от солнца, была прохладнее.
– Райские кущи! – заявил Нарышкин, опускаясь на кровлю. – Доставай провизию, дядька Терентий. Степан, раскатывай шкуру. Здесь нас никто не потревожит. Разве только коты да, пожалуй, еще трубочисты. Только они нас сами почему-то чураются…
Катенька почти беззаботно засмеялась, вспомнив удирающего чистильщика дымоходов и предоставляя Нарышкину редкую за последнее время возможность полюбоваться ее прелестной улыбкой.
Она сняла с головы набивной платок, расстелила его на медвежьей шкуре вместо скатерти и, слегка смутившись, уложила тугую, тяжелую косу на затылке.
Отобедав, все пришли в хорошее расположение духа, и даже Степан пару раз хмыкнул в растрепанную бороду.
Возблагодарили Господа Бога и Терентия. Дядьку за то, что корзина оказалась куда как не пустой, а всевышнего за то, что удалось-таки вкусить ее содержимое. Ватага блаженствовала.
Внизу грохотали экипажи, слышался нудный речитатив продавца сбитня, звон посуды, гул пьяных голосов, аккорды растерзанной гармошки из нижних этажей, где, судя по всему, находился трактир. Компания сидела на теплой крыше и потягивала винцо. Непьющий Терентий булькал мутным квасом, Катерина робко кропила губы искристым Шато-Лафитом, стараясь избегать пристального взгляда отца.
– А и то верно – хорошо, – утирая губы, огляделся Терентий, – и до Бога совсем недалече. Вон он, Боженька-то, за облачком хоронится, – дядька ткнул пальцем куда-то поверх крыш.
– Тебя послушать, так к Богу те же трубочисты ближе всего, – Нарышкин расплылся в благостной улыбке, наблюдая, как Катенька осторожно теребит розовыми губками бокал вина.
– Ну, нет уж, сударь! Этим до Бога куда как далеко. Когда рожа в саже, где уж тут бога углядеть. Вон они как от людей шарахаются. По мне, так ближе простого матроса никому к Боженьке не подобраться.
– Это почему же?
– А потому! Ведь знаете, как оно бывает? Вот, к примеру, ежели в шторм, да по обледенелым вантам на грот-мачту полезешь, на самую что ни на есть верхотень, а мачта вся ходуном ходит, море внизу так прямо кипмя-кипит, и ветер в снастях гудит страшным гудом, тут и сам еле-еле жив, из последних сил за выбленки уцепляешься. Вот когда Бога вспомнишь и углядишь самолично.
– И что же ты, углядывал? – слегка скривил губы Степан.
– Может, углядывал, а может, и нет. Про то сам знаю. Ему там, поди, виднее, кому открыться, а кому и шиш с маслом.
– А что, дядька Терентий, правда ли я слышал, что раньше, когда корабль строили, непременно пару-другую краденых бревен употребляли? – Нарышкин, весело сощурившись, оглядел крепкую фигуру старого моряка.
– Ну, это когда раньше? – пожал плечами Терентий. – При Петре Алексеевиче тебя самого бы за эти краденые бревна на стружку пустили, – Терентий достал короткую глиняную трубку и с удовольствием запыхтел ею. – Не знаю, сударь, про краденые бревна, а вот перед тем как мачту ставить, под шпор монету кладут и заговор заговаривают: «Господи, упаси сей корабль, чтобы от бурь и непогоды и всего такого прочего…» – это чтоб хорошо плавалось.
– Да, пора и нам в дорогу трогаться, а то вот так всю жисть и просидел бы на теплой попе, кабы не дела… – философски подытожил Степан и высморкался.
– Ладно, что мы имеем? – Нарышкин зевнул и наморщил лоб.
Терентий достал деньги и сделал нехитрый подсчет:
– Сотенная, красная и еще восемь целковых. Извольте, сударь, глянуть.
Сударь глянул, сгреб деньги, задумался. Затем придвинул к себе саквояж, раскрыл его и вывалил содержимое на крышу. Основательно перетряхнув вещи, он стал укладывать самое, по его мнению, необходимое, а именно: смену белья, плащ, венгерку, пару туфель, пузырь кельнской воды и небольшой несессер. Подумав, он бросил в основательно похудевший саквояж пистолет и кривой, богато украшенный турецкий кинжал.
Степан перекрестился и покачал головой:
– Вы уж не гневайтесь, Сергей Валерианович, но кабы я знал, что Вы этаким башибузуком окажитесь…
– Не стал бы связываться, – усмехаясь, закончил фразу Нарышкин. – Ну, так ведь еще не поздно, Степан Афанасьич. Мы можем расторгнуть сделку.
– Ну, нет уж, – буркнул Степан. – Уговор есть уговор.
– Не знаю, судари мои, какие у вас там уговоры, – вмешался дядька Терентий. – А только что с вещами-то станем делать? – он кивнул на остающуюся кучу пожитков.
– А вот что. Ты их снеси, продай. Глядишь, что-нибудь выручишь. Шкуру продай тож… Жаль, конечно, как-никак трофей, да ничего не поделаешь, нам она сейчас только в обузу. И вот тебе еще десять рублей на первое время – наймись на работу, квартиру мне пригляди. А я съезжу в имение, вернусь вскорости и тебя разыщу.
– Как же так, помилуйте, сударь мой, – Терентий скроил удивленную и обиженную физиономию, часто заморгал ресницами. – За что ж, батюшка, такая немилость мне выпала!? Я без вас здесь не останусь! Мне еще маменька ваша, когда жива была, наказ давала за вами присматривать. На кого же это я вас оставлю!? На него? На этого баклана? – дядька ткнул пальцем в сторону Степана. – А может, он шильник какой ни есть!? Вы его без году неделя знаете, а уж туда же – уговоры уговаривать. Нет, батюшка, не гневайтесь, я Вас не оставлю.
– Это кто шильник? – вскинулся Степан, сжав кулаки. – Да ты сам-то кто есть? Матрос – в штаны натрес…
– А ну-ка тихо мне! – прикрикнул на обоих Нарышкин. – А не то – пущу с крыши в раз. Шут с тобой, Терентий, вместе так вместе! Все одно, лишние вещи надо продать, – он кивнул на остающиеся пожитки. – Нам они в дороге без надобности… И сабли тоже. Сделаем так, – Нарышкин огляделся. – Ты, Терентий, Степан и Катерина идете продавать мое барахло на Сенную площадь. Она вон как раз неподалеку. Я иду в оружейную лавку и продам сабли.
Степан покачал головой.
– Не в обиду будь сказано, Сергей Валерьяныч, а что коли Вы возьмете себе, да и уедете, а нас грешных здесь оставите…
– Ну, ты и впрямь шильник! Где это видано, чтоб Нарышкины свое слово нарушали? Ладно, хорошо, ты пойдешь со мной, а Терентий пойдет с Катериной на Сенную.
Тут снова не выдержал дядька:
– Не гневайтесь, батюшка Сергей Валерьяныч, но я Вас с этим выжигой не оставлю.
– Нет, ну что ты будешь делать!!! – взорвался Нарышкин. – Так и будем друг за дружкой всюду толпой хороводиться. Нет уж, Терентий, делай как сказано, а не то, ты меня знаешь…
Артель каких-то оборванцев, разбившая бивуак у корней клена, была ошарашена, когда сверху, ломая сучья и чертыхаясь, на их головы низвергнулся коренастый барин с турецкими саблями под мышкой, за ним рябой рыжебородый субъект с медвежьей шкурой, следом перепачканная сажей смазливая девица и пожилой мужик, по виду бывший дворник, с узлом и саквояжем.
Не смотря на то, что утро началось скверно, день, пожалуй, получился не таким уж и плохим. На Сенную не пошли.
Большую часть вещей удалось сбыть за углом в трактире, куда Степан сообразил нырнуть, когда вся компания спустилась с крыши. Трактирщик, хитроватый малый из новгородцев, сразу прикинув стоимость барского белья, почти не торговался, когда Степан назвал свою цену, он просто взял да и снизил ее вдвое, затем отвел Степана в закут, еще раз осмотрел вещи и выложил деньги, опять слегка округлив сумму в свою пользу.
Нарышкин, ожидая конца сделки, доверил стеречь сабли дядьке Терентию, а сам заглянул в трактир. Ознакомившись с «картой вин», он хмыкнул довольно громко:
– Эге, да тут по-благородному все устроено!
Выбрал вино, заявленное как «МОЗОЛЬСКОЕ»[1]1
«МОЗОЛЬСКОЕ» – искаженное Мозельское, сорт белого полусладкого немецкого вина, делается большей частью из недозрелого винограда.
[Закрыть] Название это страшно его порадовало.
Он выпил, с неподдельным интересом рассмотрел осадок на дне бокала и долго раскатисто хохотал, хлопая себя по бокам под неодобрительные и косые взгляды посетителей – каких-то лакеев и мелких купчиков.
Когда оба вышли из трактира, Степан, несмотря на скоро обделанную сделку, был мрачнее тучи, заявив, что и раньше считал всех новгородцев свиньями, а теперь и вовсе в этом убедился. К слову вспомнил, что не зря их в народе прозвали «гущееды». Попутно досталось также «ряпушникам» – тверичам и «кособрюхим», то бишь, рязанцам.
Нарышкин, шедший следом за ним, раскрасневшийся то ли от смеха, то ли от винных паров, напротив, был в самом добром расположении духа. Он время от времени разражался приступами буйного хохота, припоминая название столь запомнившегося ему напитка.
– Мозольское… ой не могу! – трясся он. – Надо же, полторы рубли бутылка! Тебе не смешно, Степа?
Степан не ответил на вопрос, продолжая костерить жителей российских губерний и волостей, добрался уже до «соломатников» – ливенцев, но тут его остановил дядька Терентий, заявив, что земляков крыть не позволит.
Продвигаясь вдоль канала, они дошли до оружейной лавки, куда Нарышкин ввалился со шкурой и саблями, слегка перепугав хозяина.
Однако тот вскоре признал в Нарышкине своего давнего знакомца и с удовольствием принял и шкуру, и клинки, сознавая, сколь невелика выставленная за них цена. Оставался еще один пистолет, но его Сергей решил оставить при себе. Хозяин выпил с Нарышкиным здесь же в лавке по рюмке хорошего французского коньяку, завершив, таким образом, сделку к обоюдному удовольствию. Коньяк вогнал нашего героя в совершенную благость. Это выразилось в том, что Нарышкин, едва выйдя из оружейной, тут же ввинтился в соседнюю лавку, где купил яркий набивной платок и небольшой дамский несессер[2]2
несессер – происходит от франц. necessaire, что буквально переводится, как необходимый, это дорожный футляр или небольшой чемодан с предметами туалета
[Закрыть], в который умудрился втолкнуть бутыль кельнской воды[3]3
кельнская вода – одеколон, eau de Cologne (фр)
[Закрыть]. Все это он преподнес, припадая на одно колено, вспыхнувшей, как маков цвет, Катерине, к явному удовольствию праздных зевак и небольшой собачьей своры, тут же огласившей округу громким лаем.
– Пойдемте, Сергей Валерьяныч, пойдемте от греха, – пробурчал Степан, помогая барину подняться. – Нам, сударь, на вокзал теперь надобно.
До вокзала докатили, взяв «живейного» извозчика[4]4
«живейный» извозчик – легковой, городской, дрожечный, разгонный, для отличия от ломового, рабочего.
[Закрыть], с которым Терентий долго рядился, пытаясь сбить цену, в то время как безучастный Нарышкин, позевывая, флегматично изучал вывески на фасадах. Огромный рыдван, который сам извозчик льстиво именовал коляской, отличался от обычной телеги только наличием крыльев и четырех кусков железа, имитирующих низкие рессоры.
На Сергея Валериановича езда подействовала усыпляюще, и он храпел всю дорогу, навалившись всем телом на Терентия, который, впрочем, проявил поистине трогательную заботу о своем барине. Подоткнул ему под голову венгерку и всю дорогу до вокзала в полголоса напевал какую-то матросскую песню, своей заунывностью напоминающую колыбельную.
У вокзала Нарышкин долго приходил в себя, возвращаясь в действительность из страны пьяного Морфея, а посему продолжительное время отказывался выходить из экипажа, чем сильно нервировал извозчика и Степана.
Несколько раз пересчитывали деньги и препирались с Нарышкиным, который в порыве человеколюбия заявил, что все должны ехать в первом классе, при условии, что он как особа дворянского звания поведет паровоз сам. Терентий, метнувшийся покупать билеты, вернулся, разводя руками: «Уже не продают! Касс заперт».
Но здесь неожиданно подфартило. Подошел прилично одетый, пышноусый господин и, елейно улыбаясь, предложил билеты до Москвы, как раз четыре штуки. («Сам, вместе с прислугой собирался ехать, да вот, извольте видеть, задерживают срочные дела-с»).
Таким образом, билеты были куплены: Нарышкину – во втором, а всем остальным в третьем классе. Поезда до Москвы ходили два раза в день – утром и вечером, и компания как раз успевала на вечерний поезд.
В оставшееся время до отхода поезда они побродили по Невскому, после чего Нарышкину непременно захотелось в Лавру. Пришлось снова взять извозчика, который довез их до некрополя. В стенах монастыря Нарышкин сделался серьезен и сентиментален. Он бродил меж могил, вздыхая и пытаясь припомнить строки популярных элегий.
На всех остальных тоже снизошла печаль. Катерина всплакнула, и только Степан, осматривая пышные надгробия, прикидывал вслух, во сколько такие памятники обходятся.
Пока бродили в Лавре, завечерело, от могил потянуло холодком, надгробия стали отбрасывать длинные замысловатые тени.
Спохватившись, снова изловили извозчика и погнали на вокзал. И едва-едва успели к отходу поезда. Давали третий звонок.
– Зайдите в вагон! На амбаркадере[5]5
амбаркадер – фр. место, откуда пассажиры садятся в вагоны, на железных дорогах; то же, что дебаркадер
[Закрыть] па-а-аберегись! – зычно кричал кондуктор.
Степан и Катерина, никогда дотоле не путешествовавшие по «чугунке», пришли в сильный трепет, когда похожий на огромный самовар паровоз, весь в облаках сиреневого (в вечернем сумраке) пара, перед тем как тронуться, издал пронзительный свист. Наконец разместились, расселись, поезд с грохотом двинулся, затем пошел быстрее и быстрее, и вот уже в окнах замелькали дома, церкви, загородные поселки, а потом уже потянулись болота и бесконечное однообразие лесов. Степан поначалу все охал, удивляясь, как это можно, чтоб вагон ехал по рельсам без лошади, пытаясь рассуждать на эту тему. Однако вскоре его бунтующий разум смолк, усыпленный мерным перестуком колес.
Сгустились сумерки, и золотой солнечный мячик, скакавший между несущихся мимо вагона деревьев, пляшущий на поверхности болот, озер и речушек, канул за горизонт. В вагоне зажгли тусклый фонарь, и он, покачиваясь в махорочном тумане, выхватывал из полумрака руки, ноги, лапти, мешки, кошелки.
Потом была остановка. Кондуктор, контролер и сторож долго бродили по сонному вагону, перелезая через завалы вещей, проверяли билеты – длинные бумажные хартии с пропечатанными на них названиями станций.
Затем снова пронзительный свисток, пробуждающий от самого летаргического сна, шум, пар, движение, перестук колес, и вот уже за окнами снова несутся темные массы деревьев, и дрожит плывущий над лесом, ломаный пятак ущербной луны.
Во втором классе было меньше народу, диваны мягче, да и воздух не такой терпкий. Однако Нарышкин отчаянно скучал. Рядом ехало семейство, состоящее из благообразного господина, читающего «Северную пчелу», его тучной, дородной жены, которая, обливаясь потом, без конца обмахивала себя веером, регулярно повторяя Bon Dieu, и упитанного мальчика лет семи, который, сидя на краю дивана, тупо пялился в окошко и нес какую-то ахинею, мешая русские и французские слова. Нарышкин мучился, испытывая борение между хорошим воспитанием и желанием как можно шире зевнуть. Победило второе, более естественное, желание. Благообразный господин отложил «пчелу» и попытался завязать разговор о преимуществе Европейских железных дорог, которые, в отличие от нашей, устроены не так скверно, да и поезда по ним ходят быстрее, на что Нарышкин не без сарказма ответил, что в наших вагонах есть, по крайней мере, ватерклозет, и этим пресек все дальнейшие попытки сблизится в общении.
Минула ночь, но день также не принес ничего интересного за исключением зрелища горящей деревни на горизонте.
В Вышнем Волочке, когда поезд долго стоял, загружаясь углем, вся компания собралась в станционном буфете, где Нарышкин с мрачной злобой нарезался под сурдинку, и Степану с Терентием пришлось в буквальном смысле втаскивать его в вагон, прибегнув к помощи кондуктора и двух контролеров.
Всю дальнейшую дорогу до Москвы Сергей Валерианович спал в купе один. Почтенное семейство, весьма смущенное видом его расхристанного могучего тела, а также убоявшееся богатырского храпа, перебралось в дальний конец вагона на освободившиеся места. Наконец в разгаре следующего дня поезд прибыл в Москву.








