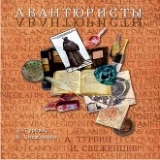
Текст книги "Авантюристы (СИ)"
Автор книги: Игорь Свеженцев
Соавторы: Андрей Турбин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Андрей Турбин, Игорь Свеженцев
АВАНТЮРИСТЫ
Романъ
Часть первая
РАЗБОЙНИЧИЙ КЛАД
Глава первая
ДОБРЫЙ БАРИН
«Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим –
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри».
(П. А. Федотов)
«Конечно, многим не по вкусу,
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Иисусу,
Но, право, добрый молодец!»
(А. И. Полежаев)
– А вот леденчики, конфекты сахарныя, коврижки галантския, жамочки медовыя, зело свежайшия! Как куснешь – враз уснешь, а как вскочишь, опять захочешь!
– Пирожков сведайте, барин! Пирожки с вязигой, с икоркой страханской, не изволите ли?
– А вот сбитень первостатейный! Не угодно ли, баринок?
– Спробуйте, сбитень у нас гламнейший, инбирной – козырной!
Барин смеется, машет рукой, достает лаковую тавлинку, запускает в нее щепоть и с удовольствием заряжает в обе, нюхает ядреный турецкий табак – тюмбеку. Оглушительно чихает, в голубых глазах его дрожат слезы, затем обнажает в улыбке крепкие, белые, словно молодая редька, зубы и вновь выступает вперед слегка косолапой, но уверенной походкой. Весь из себя плотный, вихрастый. На голове картуз, сидящий, однако, несколько набекрень. Крепкая фигура вдета в легкий, немного мешковато сидящий на ней гороховый сюртук с нехитрой, слегка потертой бархатной оторочкой.
Хороший барин, простой, и, по всему видать, нежадный: нищенке убогой копеечку кинул, не побрезговал. У немца-оружейника старый штуцер взял, в руках повертел, приценился.
Покалякал о чем-то с полутрезвым шкипером видавшей виды, изрядно потрепанной шхуны, пока, наконец, не торгуясь, купил у того ржавый увесистый старинный секстант.
Что и говорить, презанятный барин: уже не молодой, но, что называется, в расцвете лет.
Сергею Валериановичу Нарышкину – а именно так зовут доброго барина, отставного поручика – всегда нравилось приходить сюда, в порт на Стрелку Васильевского острова. Ему доставляло удовольствие потолкаться на шумной разноголосой ярмарке, что бурлила, клокотала в тесном пространстве между причалами и зданием биржи.
Над водой мерно колыхались рощи корабельных мачт с причудливо переплетенной паутиной снастей. Бушприты кораблей, наваливаясь на гранитные блоки невской набережной, утыкались в горы тюков, бочек и ящиков с выгруженным товаром.
Не только купцы, но и матросы вели здесь бойкую торговлю разнообразной добычей своих заморских «набегов». Предлагали недорого купить норвежскую сельдь и лобстеров, настоящие парижские духи и вина Шампани, моржовую кость и коралловые бусы, дамасские клинки и последние оружейные новинки германских «кухенрейтеров». Тут можно было прицениться к срамным акварелям из страны восходящего солнца или полакомиться ягодами, собранными по берегам комариных озер трудолюбивыми чухонцами.
Словом, здесь было на что посмотреть.
Свежий ветер гонял по мутно-голубому небу перья облаков и разводил крупную зыбь на Невском рейде, где кивали мачтами десятки лайб. Между ними неспешно скользили прогулочные катера, взад-вперед сновали юркие лодчонки перевозчиков. У причалов степенно швартовались громоздкие плавучие садки с живой рыбой и пузатые баржи с дровами, кирпичом, тесом и белым мрамором. Неспешно, дымя трубой, прошлепал лопастями гребных колес пароход, идущий по расписанию в Кронштадт, стремительно пронеслась по направлению к Адмиралтейству вся в жемчужных брызгах пены красавица-яхта.
Нарышкин сладко зевнул, удовлетворенно оглядывая панораму Невы, Монферанов собор, Дворцовую набережную и сверкающую иглу Петропавловского шпиля, с удовольствием вдохнул сырой запах большой реки, мокрой парусины, просмоленного такелажа, и самого этого белесого Петербургского воздуха.
Он потолкался еще немного среди народа, зачем не зная сам, сторговал у хитрована-купчины в засаленной суконной чуйке отрез материи, но потом передумал. Купил у рябой новгородской бабы поджаристую сайку и, переложив сверток с секстантом под мышку, с аппетитом съел ее. После чего, насвистывая модную арию, взял перевозчика за четыре копейки – через Неву до Дворцовой набережной; перед этим, однако, оглядев судно, на котором предполагал пуститься вплавь.
– Как называется сия чудесная гондола? – осведомился он у перевозчика – нескладного губастого малого в грязноватой валяной шапке и мерлушковой поддевке.
Малый долго напряженно смотрел куда-то в небо, слегка поводя губами, не издавая, однако, ни звука. В прозрачных глазах его пробегали облака. Затем, наконец сообразив смысл вопроса, ковырнул в носу и ответил с легким почтением:
– Известно, барин, как называется…
Надолго теперь уже умолкнув, он принялся считать поданные ему копейки, разглядывая каждую и так, и эдак на ладони.
Барин еще раз с сомнением оглядел утлый челн.
– Должно быть, не один год сооружал ты свой ковчег? Как называется эта лохань – камяга? Долбленка? Ты смотри все же, не вздумай меня выкупать!
С этими словами он влез-таки в лодку, изрядно раскачав ее.
– Нешто мы без понятия? – прошлепал губами перевозчик. – Как же можно, чтоб выкупать?!
Малый положил деньги за щеку и порывистыми гребками направил лодку к Дворцовой набережной. На середине реки, однако, все же выкупал, окатив Нарышкина с ног до головы холодной невской водой. На что благовоспитанный с виду барин немедленно обнаружил недюжинное знакомство с богатым простонародным русским лексиконом, предъявив незадачливому гондольеру такой матерный загиб, что тот, краснея, округлил бесцветные глаза, и опять беззвучно зашлепал губами.
Наконец пристали к Дворцовой. Нарышкин как смог выжал мокрое платье и отвесил хорошего тумака доморощенному Харону, отчего у того зазвенело во рту. Хотел даже отнять четыре копейки, но перевозчик крепко сжимал челюсти, молча свистел носом и хмуро глядел себе под ноги.
Помрачневший разом барин пробурчал что-то о подмоченной репутации, выругал напоследок лодочника и отпустил его наконец восвояси.
На променаде Дворцовой набережной майский ветер, казавшийся дотоле приятным, неожиданно обжег тело под вымокшим сюртуком.
Нарышкин поежился, оглядел свой разом увядший костюм. Настроение его падало с каждым порывом ветра.
– Ну как в таком виде показаться на Невском? Пожалуй, станут еще насмешничать! Черт, да и зябко! Зайти, что ли, выпить рюмку водки?
Эта мысль несколько согрела нашего героя, он бодрее зашагал вдоль набережной и даже скроил физиономию молодой даме, которая волочила за собой коротко стриженного пуделька.
Дама вздернула носик, надула губками презрительное «фи», отворотила личико и потащила упирающегося пуделя далее.
Сергей ускорил шаг… и едва успел увернуться от стремительно несущейся цугом запряженной четверки вороных красавцев. Черная карета промчалась мимо, едва не задев его. Лица кучера Нарышкин разглядеть не успел… На окнах экипажа – темные шторы. Герба на дверце, кажется, нет… Лакеев на запятках тоже не видать… («Ишь ты, а катит, будто важная персона!»)
Нарышкин в очередной уже раз выругался:
– Вот ведь несется окаянный! Чешет по Невскому так, точно он один в целом свете!
«Добрый барин» с ненавистью посмотрел вслед удаляющемуся экипажу… День начинался скверно. Сергей хмуро поежился, прошел немного далее по проспекту, нырнул под Эрмитажную арку и двинулся вдоль Зимней канавки.
Здесь уже не так дуло, и можно было перевести едва ли не закоченевший дух, подумать, куда направить стопы.
…Внезапно озябший герой наш был окликнут неким щеголем, который, поигрывая дорогой тростью, неспешно фланировал по направлению к Неве.
– Сергей, Сережа! Нарышкин, ты ли это?!
– Левушка? Трещинский! Неужто ты? Вот так встреча!
Нарышкин немедля заключил щеголя в дружеские объятия, из которых тот некоторое время пытался высвободиться, выронив из рук трость.
– Экий ты, брат, однако, мокрый! Ты что же это купаться надумал, – отстранившись, проговорил Трещинский, оглядывая облепленную промокшим сукном крепкую фигуру приятеля. – Все такой же ведмедь! Здоровый, чертяка!
Трещинский поднял слетевший на мостовую цилиндр.
– Да тут вышла одна оказия! – оправдывался Нарышкин. – Перевозчик, каналья, едва не потопил… Лева, «товарищ в битвах поседелый», ты-то какими судьбами?
Трещинский выдержал эффектную паузу, во время которой друг его, отступив несколько назад, смог полюбоваться новеньким, что называется «с иголочки» элегантным фраком «От Ворта» и широким открытым плащом с бобровой оторочкой.
– Однако, каким ты, Лева, коварщиком заделался! – с легкой завистью причмокнул Нарышкин, удовлетворившись осмотром статного франта.
– Да уж, не то что ты, гунька кабацкая! – засмеялся Трещинский и покровительственно хлопнул приятеля по плечу.
– Кстати, почему бы нам не отметить встречу и не хлопнуть по рюмашке кларета? Сейчас адмиральский час, а я вчера большой шлем в покер сорвал, так что угощаю. Тем более, что ты, mon ami, выглядишь почти как утопленник! Я тут, Сережа, одну недурную штофную лавку неподалеку знаю… Ну, двинем? – приятель мягко, но настойчиво подхватил Нарышкина под мокрый локоть и устремился вперед.
– Ты знал, чем меня взять, старый негодяй, – только и смог сказать Сергей.
«Недурной штофной лавкой» оказался «Демутов трактир» на Мойке, и хотя заведение действительно находилось недалеко, Нарышкину показалось, что пришлось-таки порядком протащиться до этой, пожалуй, самой известной Петербургской гостиницы. Извозчиков по дороге не попалось ни одного, только ломовые, а разговор со старым приятелем без рюмки как-то не клеился. Кроме того, небо неожиданно, как часто случается в граде Петра, подернулось мутной поволокой. Из нее стал сеяться мелкий, но холодный не по времени и противный дождик, так что и без того продрогший Сергей с плохо скрываемой завистью смотрел на сухой плащ приятеля.
Наконец дотопали до места. Усатый швейцар на входе неодобрительно покосился на утративший формы партикулярный сюртук Нарышкина. Сергей тихо выругался про себя.
– Вот понесла нелегкая, – подумал он. – Сидел бы сейчас дома, в тепле, пил пшеничную…
– Ничего, Сережа, не тушуйся своим видом, поднимемся ко мне. Я ведь тут в четвертом этаже комнаты снимаю.
– Что ж ты сразу не сказал, дурака валял!
– Так ведь ты, пожалуй, не пошел бы?
– Высоко забрался! – неодобрительно посопел Нарышкин, когда они поднимались по широкой каменной лестнице.
– Наводнений боюсь! – коротко усмехнулся Трещинский.
– Я в том смысле, что ты, поди, уж до титулярного дослужился?
– Бери выше! – с удовольствием произнес Левушка, устремив вверх холеный указательный палец с перстнем, на котором тревожно сверкнул кровавого цвета камушек.
– Неужели коллежский асессор? – присвистнул Нарышкин.
– Советник, – поправил Левушка. – А что, не по зубам кус?
Левушка рассмеялся и громко, по-хозяйски постучал тростью в дверь номера.
Открыл дверь пожилой тучный лакей в богатой ливрее, наполовину состоявший, казалось, из лысины и огромных бакенбард, напыщенный и важный, как генерал-губернатор.
– Это мой Алексис! – сообщил Трещинский.
Алексис театрально поклонился, колыхнув развесистыми баками.
– Распорядись, голубчик, насчет обеда. Да, и чтобы эти канальи не вздумали подавать всякую chavogne, ты уж проследи.
– Что, Сережа, будешь пить?
– Водку, – коротко сообщил Нарышкин. По губам Алексиса пробежала едва заметная дрожь ухмылки.
– Конечно, как я мог позабыть! – широко улыбнулся Трещинский.
– Ну, входи, брат, не церемонься!
Номер, который снимал Левушка, оказался хорошо и со вкусом обставленными апартаментами, состоящими из трех не очень больших, однако довольно вместительных комнат. Здесь располагались удобные кресла, камин с экраном, украшенным затейливой китайской резьбой; под потолок вытянулось зеркало в массивной раме, имелась фисгармония, зелень в кадках, ковры, а на стенах картины а-ля Вернет. В книжном шкафу тускло поблескивали позолотой дорогих переплетов массивные фолианты. Стопки книг возвышались на полу у стен…
– Вот, это моя холостяцкая нора! – Левушка, помахивая рукой, указал на гостиную. – Обжиться толком не успел, извини, я ведь только недавно из Лондона. Кое-что даже не распаковал еще. К лету, надеюсь, сниму что-нибудь поприличнее. Пожалуй, что и женюсь, чем черт не шутит. Есть у меня на примете одна статс-дама…
– И почем же?
– Кто почем? – не совсем понял Трещинский.
– Почем хоромы твои, говорю? – Нарышкин кивнул в сторону фисгармонии.
– Радужную бумажку ассигнацией выкладывать приходится, с полуулыбкой вздохнул Левушка.
– Сто рублей? В месяц?
– В неделю!
– Ну да! – Нарышкин, в который раз присвистнул.
– И, кроме того, по три рубли за воду, – с деланным негодованием пожаловался Трещинский.
– Ай-яй-яй! Тогда непременно женись.
В глазах у Нарышкина заплясали злые искорки.
– А ты знаешь, ведь тут в десятом номере литератор Пушкин проживал, – сказал почему-то Левушка.
– Пушкин? – Нарышкин принялся разглядывать фикус. – Пушкин, это хорошо… А вот со мной в одном доме, Лева, на Мещанской улице жил купец Сила Тимофеевич Завынкин. В стихах он, правда, не силен был, зато на Пасху, говорят, мог за один присест съесть четверть пуда икры и выпить полведра пшеничной водки. Да только как-то раз поросенком молодым понатужился – кость в горле и застряла…Так он, раб божий, и помре, царствие ему небесное!
На этом месте разговор был прерван. В дверь осторожно втиснулась физиономия Алексиса:
– Там, сударь, Вас спрашивают. Ну, этот… который немчин. Третий раз на дню заходят. Что прикажете передать?
Левушка поморщился:
– Экий, настырный, однако! Погоди, я к нему выйду. Все одно ведь не отстанет!
Трещинский вышел в переднюю и некоторое время не возвращался. Сергей с тоской оглядывал обстановку «норы». В животе неприятно ворчало.
Левушка вернулся, посмеиваясь. Представь себе, какой дурень этот немец – мой визитер! – Уже неделю ходит за мной по пятам, просит уступить ему одно редкое издание «Илиады». Этот сумасшедший колбасник просто бредит античной Грецией! Мечтает, знаешь ли, разыскать легендарную Трою…Ах, Итака, ах Гектор, ах Телемак! – Трещинский подкатил глаза к потолку и скривил рот ижицей. – Должно быть, он и нужду справляет, не расставаясь с томиком Гомера…Однако, при этом скуп как старый еврей. А за копейку так и вовсе – отца родного продаст… – Левушка усмехнулся. – Какой все-таки болван этот Генрих Шлиман! Черта лысого он найдет, а не свою Трою!
Посмеиваясь и похрустывая костяшками тонких пальцев, он прошелся по комнате.
– Книги, я гляжу, у тебя… Дорогие, поди! – Нарышкин кивнул на стопки с фолиантами. – Почитываешь?
– Скорее, коллекционирую. У меня тут есть Апулей. Можно сказать, уникальное издание… Записки Герберштейна и Олеария… Ну, да тебя, друг мой, все это, пожалуй, не заинтересует…
– Нет, отчего же очень любопытно! – Сергей с трудом подавил зевок.
Трещинский усмехнулся краешками тонких губ. Положение спасло явление Алексиса, который вместе с коридорным внес плотно уставленные всяческой снедью подносы.
– «Ну, вот уж полдень, в светлой зале
Весельем круглый стол накрыт,
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит…»,
– с притворным пафосом продекламировал Левушка и хлопнул в ладоши.
– Нуте-с, усаживайся, Сережа, к камельку да сними свой сюртук, пусть просохнет.
– Смотри-ка, действительно щи, – одобрительно крякнул Нарышкин, но потянулся к прозрачному, запотевшему графину. – А это что тут такое? Что это, Алексис?
– Водка на смородиновом листу, извольте-с испробовать, – важно тряхнув баками, ответствовал лакей.
– Прекрасно, – потер ладони Нарышкин. – Ну, что? Запорошим память, как у нас говорят.
– Листовка здесь изумительно хороша. Отведай, Сережа, не побрезгуй.
Лакей с помощью коридорного подвинул стол ближе к огню. В бутылках сразу засверкал лафит, заиграло, заискрилось клико.
– Что у нас тут еще? Чем разговляться будем? – наливая рюмочку Нарышкину, осведомился Левушка.
– Растбиф, – осанисто и с ударением на «а» произнес Алексис, указав на блюдо, – паштет Страсбургский, стюдень свиной, балычок макарьевский, сельдь в сметане, грибки маринованные…
– А что это так… амбре, – Нарышкин, слегка поморщившись, потянул ноздрями воздух.
– Сыр Лимбургский, острый! – чинно объявил Алексис.
– Убери, пожалуй. Резковат, – кивнул на тарелку с сыром Трещинский. Он сунул коридорному монетку и отослал обоих.
– Ты уж меня, Лева, извини… – Нарышкин порывисто взял рюмку и метнул ее содержимое себе в рот. – Ждать нет никакой возможности, – добавил он сдавленным голосом. – Хороша и впрямь. Пожалуй, и повторить можно…
Выпили, теперь уже по всем правилам, за встречу старинных приятелей. Нарышкин – листовую, а Лева – бокал лафиту, после чего приналегли на еду. Собственно, усердствовал один Нарышкин, он уписывал за обе щеки и ростбиф, и паштет, и студень; ел так, как едят проголодавшиеся люди с хорошим аппетитом и явной склонностью к эпикурейству. Трещинский же, напротив, вяло клюнул того, сего и, наконец, придвинув кресло ближе к огню, достал сигару.
– Чем изволишь заниматься? – спросил он, томно вытягиваясь и выпуская ароматное облако дыма.
– Балбесничаю, – жуя, ответил Нарышкин. Он налил себе еще рюмку, благостно жмурясь, ткнул вилкой в сельдь, поднес к носу, понюхал, как нюхал дотоле табак. Выпил, закусил, крякнул от удовольствия и полез за грибками.
– Ведмедь, – засмеялся Левушка. – Никакого изящества! Манеры у тебя все те же, друг мой.
– Так ты, говоришь, жениться надумал? Что ж, хорошее дело. Чай, много приданого дадут? – набивая рот грибами и пропуская шпильку мимо ушей, спросил Нарышкин.
– Ну, я думаю, тысченку-другую душ, дадут… – Трещинский, выпуская облака дыма, казалось, задумчиво смотрел на огонь. – К тому же именье да лес строевой…
– Силен! – констатировал Нарышкин и навалил себе паштету. – А я, Лева, в отставку вышел. Надоело хуже редьки. Теперь, вот, бью баклуши. Ну, за твое здоровье, господин коллежский советник!
– А ты жениться не собираешься, Сережа? – все так же глядя в огонь, спросил Трещинский.
Нарышкин едва не подавился балыком.
– Ну уж нет, добродзею, мне еще в петлю рановато. Я, любезный пан, еще пожить хочу! Сперваначалу, после того, как в отставку вышел, тоска начала одолевать. Покойной жизни захотелось. Сопли распустил… чуть было предложение не сделал одной бельфам. Все обхожденье строил. Бланманже, понимаешь, и все такое. Спасибо, Бог отвел! – Нарышкин размашисто перекрестился. – Видение мне было, Левушка. Как сейчас вижу – будто спустился ко мне ангел о двух крылах, весь из себя, как водится, белый и даже как бы немного светится. Словно ему, Лева, свечу негасимую кто в зад вставил. И вещает он мне это так, знаешь, повелительно. Что, говорит, раб божий Сергей Валерианович, никак ты, дурень этакий, жизнь свою младую, непутевую решил узами брака повязать?
Нарышкин приязненно покосился на графин с водкой:
– Уж, больно листовая хороша… не обманул камердинер твой.
– Ну и что же дальше-то? – смеясь, спросил Трещинский.
– А дальше он мне и говорит, ангел, значит: брось ты эту затею, Сергей Валерианович, не губи себя раньше времени, поживи еще малость как нормальный человек. А коли тебе, друг сердешный, неймется, так поезжай к актрискам или других каких барышень подешевле ангажируй. Авось и перебесишься. А жениться тебе, говорит, никак нельзя, потому как ветры у тебя еще в голове, да и не по карману. Сказал так и упорхнул в окошко. И нашло тут на меня просветление. Нет, думаю, шалишь! Сережа Нарышкин голыми руками взять себя не позволит. И вот хожу я с тех пор, Лева, холостой и благостный. Так-то вот! Ну, давай за тебя, гостеприимный хозяин!
– Ведмедь! Сущий ведмедь! – Трещинский, отсмеявшись, утер шелковым платком выступившие слезы. – Ох, и позабавил, брат, рассмешил до коликов! Плесни и мне, пожалуй.
– В имение давно не заглядывал? – спросил Левушка, внимательно глядя в бокал.
– Года три как не был, – Сергей посерьезнел и нахмурился. – Конечно, надо бы съездить, могилу родителей навестить… Свинья я, свинья!
– Доход-то есть от твоих угодий? – поинтересовался Трещинский.
– Какой там доход! – отмахнулся Нарышкин. – По правде сказать, едва концы с концами свожу. Поди, и дом уже развалился, и хозяйство в упадке. Управляющий, каналья, должно быть, ворует без хозяйского пригляда…
– Так ты продай имение, – усмехнулся Левушка. – Единым махом и дела свои поправишь. Земли у тебя, брат, изрядно. Можно получить хорошую цену!
– Как «продай»? – не понял Сергей и удивленно посмотрел на приятеля. – Кому?
– А хотя бы и мне! – Трещинский был абсолютно серьезен. – Предлагаю тебе продать его мне. А уж я тебя, Серж, не обижу, дам хороших денег!
– Постой, да тебе-то оно к чему? Ты ведь все больше по заграницам обретаешься…
– Ну, как знать, может и сгодится. – Левушка хитровато прищурился. – Лишний клок земли еще никому не мешал. При надлежащей постановке аграрного дела на западный манер, думается мне, можно и из твоих угодий прок извлечь…
– Нет, брат, что-то ты финтишь! – недоверчиво поежился Нарышкин, изучающе глядя на приятеля.
– Ну так продашь? – напирал Левушка.
– Нет, Лева, не выйдет, – серьезно сказал Сергей. – Это ведь не просто клок земли! А как же могила моих стариков? Они ведь в этой самой земле лежат… И потом, там ведь детство мое сопливое прошло, юность… первая влюбленность… в Вареньку Оленину! – Нарышкин улыбнулся и хлопнул себя по лбу. – Как же я по ней страдал! Боже, какой я тогда дурень был, ты даже не представляешь!
– Отчего же, – ухмыльнулся Левушка, – нетрудно представить.
– Я ведь из-за нее даже стреляться хотел с одним заезжим гусаром, – пропустив колкость приятеля мимо ушей, воскликнул Нарышкин. – Хорош был бы я на той дуэли! Мне ведь тогда едва пятнадцать исполнилось, а гусар почти вдвое старше был! Ведь он, пожалуй, нашпиговал бы меня свинцом, как рождественского гуся – черносливом. – Сергей весело рассмеялся.
– Значит, не продашь? – задумчиво пробормотал Трещинский и залпом осушил свой бокал. – Что ж, так я и думал…
Возникла неловкая пауза. Стало слышно, как борется со стеклом упорная весенняя муха.
– Ну ладно, делу время, а потехе час, теперь и ты меня позабавь, – Нарышкин плеснул лафиту в бокал Трещинского и, отстранив опустевший графин, налил себе клико в кофейную чашку. – Ведь мы с тобой, Лева, когда с Кавказа в Петербург возвратились да промотались хорошенько, бедны были оба, как канцелярские крысы… И вдруг, о чудо! Мой приятель, с которым мы вместе всю кампанию за царя и Отечество пулям не кланялись, теперь в таком завидном положении пребывает! – Нарышкин залпом проглотил вино. – Какую все-таки ты дрянь, Лева, потребляешь! Вели за водкой послать. Не могу я этот киндербальзам выносить…
– Будет, Сережа, – усмехнулся Трещинский – Тебе и ведра мало.
– И все-таки, Левушка, поделись секретом, как же ты так быстро до советника допрыгнул, за какие такие заслуги в этаких чинах обретаешься?
Трещинский, уже слегка раскрасневшийся от вина и жара камина, повертел бокал в ладонях.
– Ну что же, Серж, кому бы другому нипочем не сказал, однако тебе расскажу. История эта весьма нетривиальна, однако мне бы не хотелось злоупотреблять твоей… толерантностью…
– Хватит, Лева, trop beo coup, так кажется, говорят французы. Переходи к делу и дай мне хотя бы коньяку, что ли? Есть у тебя коньяк?
Коньяк нашелся, Трещинский отпил из бокала и вполголоса продолжил рассказ:
– Ты, Сережа, разумеется, немного знаком с историей моей бедной Родины, я имею в виду Польшу. Такие фамилии, как Вишневецкие, Конецпольские, Чарторыжские, Калиновские, тебе все-таки о чем-то говорят? Не правда ли?
– Ну, допустим, – Нарышкин отхлебнул коньяку.
– А ты знаешь, что, пожалуй, каждый поляк в душе желал бы видеть Польшу независимой, великой державой, как это некогда и было – «от можа до можа», и есть такие, которые готовы употребить для этого все имеющиеся средства. А средства, я скажу тебе, есть и немалые. Хотя бы у потомков тех знаменитых фамилий, которые я тут тебе только что называл.
– Лева, это же заговор какой-то?! – Нарышкину стало как-то не по себе.
– Не спеши делать выводы, мой друг, я же понимаю, что плетью обуха не перешибешь. Да и, если помнишь, я в прошлом – русский офицер, присягу давал. …Вышло так, что случилось мне быть наездом в Кракове. Были у меня там кой-какие дела… – Левушка многозначительно усмехнулся. – И вот, вообрази себе, совершенно неожиданно меня навестили поверенные одного моего дальнего родственника и сказали, что он желает меня видеть. Для меня это была неожиданность, так как я полагал, что родни у меня уже нет ни по эту, ни по ту сторону границы. Любопытный оказался старикан, этот мой родственник! Из породы книжных червей… Собирал уникальные документы, рукописи… – Левушка слегка кивнул головой на стопки книжных раритетов и продолжал.
– Я постарался приглянуться старику, показал, что наши взгляды на судьбу Польши во многом сходятся, и тот вскоре проникся ко мне доверием. Более того, он предложил использовать часть своих фамильных драгоценностей в деле освобождения нашей Родины, – здесь Трещинский сделал эффектную паузу и залпом выпил коньяку.
– И ты согласился? – Нарышкин даже слегка протрезвел.
– Разумеется, мой друг. А как бы ты поступил на моем месте? Такого богатства, которым мне предложил распоряжаться старик Калиновский, я отродясь в руках не держал. У меня, разумеется, был план употребить эти средства исключительно на политические цели и, конечно же, с пользой для моего бедного отечества, но тут старикан благополучно почил в бозе, будучи, вероятно, уверенным, что дело всей его жизни в надежных руках. Стоит ли говорить, что я тут же бросил всю эту затею с освобождением Польши, – Трещинский зашелся суховатым недобрым смехом. – Не суди меня строго, друг мой. Я очень сильно нуждался в деньгах. Тебе ли не знать. И тут вдруг такой куш! Я думаю, многие на моем месте поступили бы точно так же. Золото и камни я продал отчасти там же, в Кракове, отчасти в Москве. Разумеется, кое-что я потерял на этом, но все же это были деньги, притом деньги для меня весьма приличные. Как оказалось, с этими средствами я могу добиться очень многого. Я расплатился с кредиторами, купил приличный выезд, оплатил несколько банкетов и приобрел влиятельных друзей. Вскоре, друг мой, я был удивлен, видя, как быстро находятся нужные связи и покровители обоего пола, и, веришь ли, я стал стремительно продвигаться по службе. Вот как круто во всех смыслах изменилась моя жизнь.
– Вот, значит, как. Раз – и в дамках! – Нарышкин встал и подошел к окну.
– Разумеется, Серж, я надеюсь на твою порядочность, – с легкой усмешкой проговорил Левушка.
– В моей порядочности, господин Трещинский, Вы можете не сомневаться, – Сергей вгляделся в белесую муть по ту сторону стекла. На душе у него стало муторно – о ли от выпитого коньяка, то ли от услышанного рассказа. Цинизм Левушки неприятно коробил, однако стремительность взлета его вверх по лестнице, ведущей к достатку, вызывала зависть. И хотя вообще-то Сергей считал себя человеком независтливым, теперь он испытывал именно это чувство.
– Значит, вот оно как богатство достается…
– Да какое там богатство! Взлетевши этак вот вверх, мне теперь все новые и новые расходы требуются. Те деньги (Трещинский сделал ударение на «те») уже закончились.
– Ну, так ты же, верно, служишь где-нибудь? Поди, хорошее жалование получаешь?
– Нет, брат ты мой, после того, как я мое неожиданное наследство в руках погрел, мне теперь нелегко сюртуки в кабинетах протирать да бумаги казенные перекладывать. Душа иного простора требует, а выше титулярного мне не подняться. И так не по возрасту чин. Начнут еще чего доброго интересоваться… Я ведь для них – выскочка, полячишка, – Трещинский криво усмехнулся.
Нарышкин отметил про себя, что напускная барственность уже порядком слетела с его приятеля.
«Ну и поделом, я ведь тебя за язык не тянул», – подумал он.
– Разумеется, Сережа, существуют такие понятия, как «честь», «достоинство» и тому подобные вещи, но в этой стране, где все покупается и продается, где общество состоит из рангов, нумеров и классов, человеку в моем положении подняться вверх можно только либо воруя, либо угодничая и давая взятки! – Трещинский разволновался и говорил уже в полный голос.
– Можно еще удачно жениться …
– Да, черт возьми, и жениться! – Трещинский почти кричал. – Я не стал бы говорить с тобою об этом, открывать тебе душу, если бы не знал тебя как человека в целом порядочного!
– Подлить еще коньяку? – осторожно поинтересовался Нарышкин.
– Подлей, пожалуй! – Левушка схватил бокал и нервно заходил по квартире.
– Да, я немного поднялся в этой табели о рангах… и понял, что задыхаюсь среди чинопочитания и раболепства.
– Эк тебя понесло, Лева! Ты уж лучше умерь ажиотацию.
– Нарышкин, как ты не понимаешь, мир – он шире, чем казенный коридор. А мы сидим здесь, в этих болотах, и думаем, что жизнь укладывается в четырнадцать чиновничьих классов! А что мы видим, Сережа? Серость, чуланы, вот эти каморки, (Трещинский пнул ногой кресло), плац-парады, скуку во всем и вот эту морось на улице!
– Тебе и впрямь жениться пора. При такой хандре только хорошее приданое поможет. Хотя, конечно, насчет каморки это ты погорячился. Ты моей конуры не видал…
– К черту все! В Париж… вот место! Folies Dramatigues, бульвары, Люксембургский сад… Ты бывал в саду? А какие актрисы, bon Dyeu! Не чета здешним Петербургским курицам! – Левушка брезгливо поморщился. – А в Лондоне ты бывал? Нет? Напрасно… Это, скажу я тебе, брат Нарышкин, город! Я туда, кстати, ездил не так давно за одним весьма любопытным документом… – Трещинский странно ухмыльнулся и, прищурившись, посмотрел на Сергея. – Документ этот – мемуары одного англичанина. В годы царствования Ивана Грозного ему довелось быть послом в Московию…
– Дела давно минувших дней, – запивая очередной зевок, откликнулся Нарышкин.
– Это верно… С той поры много воды утекло. Однако англичанин этот оставил после себя один очень интересный список.
– И что в нем такого интересного?
Трещинский сходил в соседнюю комнату, пробыл там некоторое время и вернулся, держа в руках стопку пожелтевших исписанных листков. Аккуратно перетасовал их, находя нужную страницу.
– Ты ведь, насколько я помню, не силен в английском?
Нарышкин мрачно кивнул.
– Стало быть, тебе придется верить мне на слово!
Левушка осторожно повел по листкам холеным длинным перстом:
– Это, Сережа, список авторов и книг из библиотеки Ивана Грозного!
Сие сообщение, сделанное Трещинским с весьма многозначительным видом, никакого видимого эффекта на Нарышкина не произвело.
– Ну и что? – хмыкнул он. – Я, положим, ученых книжек прочел не так много, но, помнится мне, слышал, что царская библиотека сгорела дотла. Так что ли? Какой толк в этом списке?








