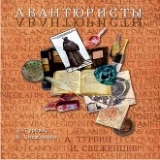
Текст книги "Авантюристы (СИ)"
Автор книги: Игорь Свеженцев
Соавторы: Андрей Турбин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– Все хватит паясничать. Сам же видишь, ничего путного не выходит. Играй-ка ты, Антоша, императора. У него текста больше всех, а на роли этих балбесов-любовников найми кого-нибудь из своих старых знакомых. Небось, тут у вас полно безработных актеров. Да, и еще про кордебалет не забудь, без него на сцене скука смертная. Ты уж возьми пару рабынь поавантажнее. Ну, и этих, как их… «дурифоров» тоже парочку прихвати. Все поживее выйдет!
На следующий день Рубинов привел нужных людей. На роли героев-любовников он пригласил комическую пару – господ Хондрика и Жихарку. Оба комика оказались на редкость глупыми, потрепанного вида субъектами с бегающими глазами и недельной щетиной на обрюзгших физиономиях. В свое время они подвизались в балагане грека Каприотиди, но были вынуждены уйти из-за расхождения во мнениях на оплату актерского ремесла. Так, по крайней мере, объяснил положение вещей Антон-Аскольд. На деле же одного взгляда на этот дуэт было достаточно, чтобы понять г-на Каприотиди. Нарышкин, бегло осмотрев комическую пару, тихо матернулся и отозвал Рубинова в сторонку.
– Как же ты, Аскольд, собираешься этаких пивогрызов на серьезные роли брать, ежели их даже из балагана выперли?!
– Так балаган же шутовской, а мы их на трагедию берем. Может быть, их потому из комедии и того… удалили, что в них таланты трагиков зарыты-с!
– Видно, глубоко зарыты, – внимательнее оглядев комический дуэт, заметил Сергей. – Пожалуй, что не дороешься! Вон, брагой от обоих аж за версту несет!
– Ну, сударь, я бы на вашем месте не больно-то привередничал, – тихо сказал Антон-Аскольд. – У Вас, извините-с, у самого амбре того-с… будь здоров!
– Ладно, поступай, как знаешь, – Сергей поморщился и махнул рукой. – Лишь бы ничего не сперли да слова помнили.
Жихарка и Хондрик, получив свои роли, преступили к репетициям. Рабынь за умеренную плату согласились играть две опрятные, тугие, крепко сколоченные барышни – Полина и Глафира. Обе работали в вышеупомянутом балагане Каприотиди наездницами-амазонками под сценическими именами «Афродита» и «Венера». На роль стражников-дорифоров взяли трех дюжих ребят из пожарной команды, этим заодно решили и вопрос безопасности в момент гибели империи.
Начались бесконечные читки, репетиции, выстраивание мизансцен и разбор эпизодов. Аскольд-Антон требовал строгого следования тексту до буквы. Получалось не всегда. Особенно у Хондрика с Жихаркой. Двое страдающих непроходящим похмельем паяцев никак не могли заучить свои монологи дословно. А поскольку суфлера не предполагалось, Аскольд нервничал и не раз срывался на крик:
– Ну простой же текст! Неужели невозможно запомнить!
«Моя любовь, моя отрада!
Чего еще от жизни надо?
Лишь быть с тобою вечно рядом,
ласкать тебя рукой и взглядом…»
– Ну, господа, это ведь проще пареной репы! Или вот этот кусок, я к вам, господин Жихарев, обращаюсь! – Аскольд порывисто вскакивал и, размахивая рукописью, выбегал на сцену.
«С тобой, моя императрица,
Греховной страстью насладиться
Я пущенной стрелой спешу.
И вот уже грешу… грешу!»
– Последние слова нужно произносить с чувством! – кричал бывший антрепренер. – Вы, Жихарев, должны передать всю силу своего вожделения! Империя погрязла в сладострастии, а у вас рожа кислая, будто вы лимон сожрали-с. Посмотрите, какая у нас императрица! Вы должны вожделеть ее всю – с головы до ног! А вы, извините, стоите, как обухом ударенный!
Катерина при этих словах смущалась и краснела, как маков цвет. Степан шипел и ерзал, будто на сковороде, но обязанности жреца проявлять до времени свое раздражение не позволяли.
К началу второй недели репетиций дело худо-бедно пошло на лад. Тексты кое-как заучили, отработали выходы на сцену и последовательность действий, правда, двигались все несколько хаотично, часто натыкаясь друг на друга. Аскольд извелся.
– Ну что вы ходите, как деревянные! Кто так преклоняется?! Вы, сударыни, как будто грибы ломаете, – кричал он рабыням. – Это вам не жеребцов своих объезжать, это театр, тут грация нужна-с!
Нарышкин же втянулся в процесс настолько, что, казалось, позабыл, для чего вся эта круговерть затевается. Поиски банды Трещинского отошли на второй план, теперь сам спектакль занимал все его помыслы, и даже жажда отомстить «проклятому полячишке» поутихла. Со своей ролью он справился быстро, благо она была без слов. Сергей картинно всаживал деревянный кинжал в бок Степану-Архелоху, задиристо бился на мечах с пожарниками-дорифорами и трагически мычал под пытками палача-Терентия. Господин Тер-Хачатрян зачастил на репетиции, подолгу в глубокой задумчивости просиживая в зале. Вскоре к нему стали присоединяться два таких же низкорослых небритых субьекта – Турокул и Жырокул. В отличие от пучеглазого Ромы, его телохранители, наоборот, почти не имели глаз. То есть, глаза, конечно, были, но они сидели так глубоко в своих щелях-амбразурах, что их цвет и выражение можно было скорее угадать, чем увидеть. Вся троица незваных зрителей с нескрываемым вожделением следила как за обеими рабынями, так и за императрицей.
– Не хватало еще, чтобы он сюда весь свой хазарский каганат притащил! – кипятился «Гроза морей». – У меня руки чешутся выкинуть этих, …как бишь их… Протокола и Дырокола в окошко!
– Не стоит того-с, – успокаивал Аскольд. – Притащат полицию. Закон-то на их территории. Нам преждевременный скандал без надобности-с!
К положенному сроку непьющий маляр Тихон Никифорович, руководимый Нарышкиным, намалевал на огромном полотне некое подобие исторического пейзажа. На горизонте, над синим пятном Босфора мирно кудрявился вулканчик а-ля Везувий. Половину холста занимала белокаменная изба с куполами и античным портиком – храм Софии. Позади нее из яркой зелени торчали разлинованные «под кирпич» щербатые зубцы Константинопольских стен, а также несколько гражданских построек, которые архитектурой своей более всего напоминали вокзальный сортир. Сравнение это пришло Нарышкину на ум, когда он в последний раз критически осматривал задник. Оно показалось не очень лестным, особенно для столицы Византийской империи, и Сергей хотел, было, все переделать, однако компаньоны сумели заверить его, что дома – «как живые» и для трагедии подходят в самый раз. Михеич сколотил, а непьющий Тихон Никифорович разрисовал «рамы перспективного письма» – деревянные щиты, изображающие густые кущи южной растительности. За ними актеры могли укрыться в ожидании своего выхода на сцену. Нарышкин оглядел декорацию и собственноручно довершил ее, изобразив на заднем плане, под вулканом, группу праздношатающихся зевак.
Рома декорации одобрил, сказав, что похоже на Баку, но посоветовал для пущей достоверности добавить в пейзаж шашлычную.
Объявление в газете и расклеенные по всему городу афиши сделали свое дело. По Нижнему поползли слухи о небывалой откровенности новой постановки. Поговаривали, что этот пройдоха Рубинов сумел взять «в разделку» какого-то неизвестного мецената, и тот отвалил кучу денег на италийскую артистку, отличающуюся весьма свободным поведением и в жизни, и на сцене. Сам Аскольд эти слухи только подогревал. На расспросы отвечал уклончиво, делая многозначительное лицо, откровенных разговоров со старыми знакомыми избегал, в обществе (трактире, где обычно сиживали служители сцены) не появлялся, но что самое подозрительное – был трезв и пил теперь только, разве что, оршад и квас. В воздухе запахло сенсацией.
Незадолго до премьеры уставший до невозможности Сергей решил-таки еще раз навестить запойного капитана «кавурого». Он добрел к нему на Третью Пожарскую поздним вечером после репетиции. В комнате капитана было пусто и подозрительно чисто. Пахло хлором. Коридорный, давешний знакомец Нарышкина, на вопрос о постояльце только скорбно опустил голову и отложил веник.
– Убрался Василь Игнатич, царствие ему небесное… Тому уж, как пять ден…
– Куда убрался? – не понял Сергей. – Далеко?
– Дальше некуда, на тот свет преставился, вот как!
– … Как это случилось? – нахмурился «Гроза морей».
Коридорный развел руками: – Понятия не умею, как такое сталось. Навроде, как в себя человек стал возвертаться. Личность побрил начисто… Чаю спросил… Часу это было уж к полуночи… Я усыпать стал… Слышу по кровельке – топ, топ… ходят. Ну, думаю, опять полез Василь Игнатич луну глядеть. Она тот день и впрямь здоровущая была… Вдруг – крик евойный, и внизу под домом – хрясь! Выбег я на улицу, глянул, а ен сверзился с крыши, значит, и уж лежит в полной бездыханности. Только ногой – дрыг, дрыг и помер!
– Вот оно что… – пробормотал Сергей. – Стало быть, несчастный случай…
– Может и так… А может, и подмогли ему.
Коридорный понизил голос до шепота: – Василь Игнатич и допреж сам между себой беседы вел. И в энтот раз тож. Ну, думаю, опять Синяя бабушка пожаловала…ан нет. Слышу, отвечает ему кто-то на два голоса. А уж потом слышу: люк скрипнул, на крышу… топ, топ. Я еще смекаю себе: густовато что-то Василь Игнатьич топает. Навроде, как на четырех ногах…
– И кто же ему помог?
Коридорный с тревогой оглянулся по сторонам и, округляя глаза, прошептал:
– Ясное дело, кто! Не иначе, как черти за ним с луны явились!
За день до премьеры Нарышкин с подачи Аскольда назначил генеральную репетицию на сцене и в костюмах. Наняли мужичонку, который должен был открывать-закрывать занавес и в нужный момент зажечь особые лампы с красными стеклами, чтобы багровые сполохи ознаменовали окончательную гибель империи.
Облачились в тоги и туники. В целом актеры смотрелись неплохо, но больше походили не на римлян, а на посетителей сандуновских бань, завернутых в простыни. Сандалии, сработанные Федором, также грации не прибавляли.
– Провалимся, ну точно провалимся. Освистают, как пить дать! – нервничал Нарышкин. – Куда вся материя девалась? Ведь договаривались атласу и парчи взять, кучу денег отвалили. Аршин – аж четырнадцать рублей! А у нас актеры в поскони щеголяют! Я этому Шмулику второе обрезание сделаю – под самый корень!
Однако же, когда из гримерной появилась «императрица Варения», Нарышкин воспрял духом. Катя в ромейском наряде была чертовски хороша! Аскольд поколдовал над ее прической и возвел на голове девушки какие то невозможные вавилоны. Пышные волосы, поднятые наверх, открывали взору лебединую шею и выгодно оттеняли без того красивое лицо, делая его, по меньшей мере, благородным. Уроки Рубинова не прошли даром, в осанке «императрицы» появилась царственность, в движениях плавность, в голосе – чувственная женственность. Наряд Катерины потрясал еще больше. Он открывал плечи, полуобнажал грудь, а разрезы по бокам платья давали возможность лицезреть стройные ноги девушки.
– Нет, не императрица… Богиня! – только и смог промолвить Сергей, увидев такую неземную красоту.
А когда преображенная Катенька произнесла свой монолог:
«Томленьем трепетным томима,
Ах, отчего я не любима?
И почему не в царской власти
Призвать к себе любовь и счастье?
О, как же горек мой удел!
Возлюбленный не захотел
Делить со мной сегодня ложе.
Я вся горю теперь. О, боже!»,
Нарышкин подумал: «Мы теперь, пожалуй, можем вообще не играть, успех спектакля обеспечен! Это уже не театр в Нижнем, это точно византийский „Порнай“ какой то! Чудо, как хороша!».
Он еще раз оглядел царственную фигуру девушки и дернул себя за вихры.
– Черт побери, а ведь я все-таки люблю ее!
Глава седьмая
КАРБОНАРИИ НА ПОДМОСТКАХ
«Утомились мы; вальс африканский
Тоже вышел топорен и вял,
Но явилась в рубахе крестьянской
Петипа – театр застонал».
(Н. А. Некрасов)
В ночь перед премьерой Нарышкин спал плохо. Пробовал гнать от себя дурные мысли с помощью пузатой зеленого стекла бутыли Нижегородской водки, но мысли продолжали упорно пролезать в курчавую голову мятежного раба. Мнилось Сергею, что доморощенные актеры перед публикой непременно стушуются, перезабудут текст или будут произносить свои монологи без должного чувства.
– Осрамимся. Непременно осрамимся, – думал он, ворочаясь в бессоннице с боку на бок. Тяжелый сон явился только под утро. Знакомая Тень царя неслышно возникла из-за портьеры и замерла у изголовья постели Сергея. Иоанн Васильевич многозначительно молчал, поковыривая в носу тонким перстом, и грозно сверкал очами.
«Давненько не видались», – подумал Сергей.
– Почто ты, батюшка, всякий раз меня стращаешь? Не смерд я тебе, не холоп, а человек сам себе вольный, – взмолился он, холодея от собственной храбрости.
– Не ты ли, мил человек, будешь Зензевей Адарович Маркобрун? – вежливо осведомился царь Иван, с любопытством разглядывая Нарышкина.
– Никак нет-с, – извернулся тот, чувствуя, что покрывается липким потом. – Не могу знать, о чем речешь, государь!
– Верно ли сие? – допытывался царь, нехорошо улыбаясь и все больше пуча глаза на ерзающего в кровати Нарышкина.
Сергей покраснел до самых корней волос и неожиданно для самого себя, путаясь в одеялах, пал в ноги самодержца.
– Согрешил, батюшка, прости мя! Змий прельстил и диавол наущил скоморошествовать! Паки опотчевался зелием нерастворенным, сиречь зеленым вином, поелику пиан сделался! («Зачем я несу всю эту тарабарщину? – подумал Сергей. – Сколько можно оправдываться перед этим извергом?»)
Царь, однако, покачал головой и брезгливо улыбнулся:
– Каков бражник! Вот так проспался с похмелья ано самому себе сором. Борода и усъ весь в блевотине, а от гузна и до ног весь в говнехъ, валяется на улице яко свинья! Смотрите-тко на него! Горе, да и только! Покайся, скоморох! Прибегни к богу, да простит и помилует тебя, яко благ и человеколюбец…
С этими словами царь Иван протопал через комнату и, боднув челом стену, исчез в ней. Некоторое время оттуда доносилось его бормотание, но вскоре все стихло, и свет божий ударил Нарышкину в лицо. Оказалось, это Терентий распахнул портьеры.
– Вставайте, батюшка Сергей Валерианович, час пробил! Пора за дело приниматься. Спектакля нынче у нас.
Нарышкин поднялся, привел себя в порядок, все еще содрогаясь от воспоминаний о своем ночном визитере, проглотил легкий завтрак, и время понеслось для него с угрожающей скоростью.
С утра у кассы старого театра толпился народ. К полудню все места были проданы. Партер пустили по цене от одного до двух рублей, место на галерее – полтина. Ложи, как и обещал Нарышкин, пошли по три рубля. Рома из жадности за гривенник разрешил пускать на галерку без мест. В итоге сборы составили чуть более пятисот рублей. Господа Турокул и Жырокул были тут как тут, у кассы, и, постреливая во все стороны из темных бойниц своих нагловатых раскосых глаз, осуществляли надзор за продажей билетов. Увидев их, «Гроза морей» сорвался:
– Эй ты…как тебя…Частокол! – подозвал он крайнего и, не вступая в дальнейшие переговоры, дал ему отменного пинка под зад. Второй соглядатай, получив сходный пинок, вслед за первым, кубарем выкатился из дверей театра.
– Зарэжем! – злобно пообещал Турокул, пытаясь подняться с пыльной мостовой.
– Кэк сабака! – согласился Жырокул и, потирая ушибленный крестец, погрозил Нарышкину поросшим черной шерстью кулаком…
– Не густо, – «Гроза морей» подсчитал выручку. – Если учесть, что двести рубликов заплатили Роме, еще двадцать – его процент от сборов, около двух сотен отвалили на костюмы, афиши, оркестр и прочую дребедень, не считая оплату сценического усердия Жихарки, Хондрика, рабынь и господ из пожарной команды, нам выходит едва ли пятьдесят рублей на всю компанию! Не выгодное это дело – искусство. Одни расходы и треволнения.
– А вы как думали, сударь? – Антон-Аскольд тяжело вздохнул. – Всю жизнь крутишься, как белка в колесе, а толку – пшик-с!
Наскоро пообедали в трактире неподалеку. Никому кусок не лез в горло, все заметно волновались. Хорошо было бы снять напряжение рюмочкой-другой, но Сергей в день премьеры объявил сухой закон.
И сам же его нарушил. В похоронках за кулисами «Гроза морей» зарыл бутылку белой и намеревался раздавить ее непосредственно в момент представления.
Часам к трем на сцене расставили лавки-ложа, повесили размалеванный «византичностью» задник и заправили маслом лампы. В четыре начали гримироваться.
Сергея вымазали сажей с ног до головы. Негр из него получился весьма колоритный – черный, как сапог. Сажу смешивали с постным маслом, и теперь мускулы Нарышкина поигрывали бликами в неверном свете рампы.
– Мной только детей пугать, – сказал доморощенный эфиоп, сверкнув бельмами в зеркало. – В таком виде меня не то что Трещинский, мама бы родная не узнала.
Черный раб вышел что надо, и даже хмурый с утра Рубинов удовлетворенно крякнул, оглядев Сергея. Неожиданно обнаружилось одно досадное обстоятельство. В сцене истязания мятежного раба Фобия необходимо было, чтобы он предстал перед публикой окровавленным. Сделать это надо было незаметно для зрителей. Плоская фляга с густым церковным вином, имитирующим кровь замученного эфиопа, которую Сергей припас специально для этой цели, никак не хотела держаться под набедренной повязкой и все время норовила выскользнуть.
– Проклятье! – выругался «Гроза морей». – Как же быть? Может выйти некрасиво, если она во время спектакля выпадет!
Порешили передать сосуд с «кровью мятежного раба» г-ну Жихареву. Непосредственно во время экзекуции черный раб подползал к правой кулисе, из-за которой Жихарка (по сценарию находящийся где-то в бегах) должен был обильно полить г-на Эфиопа багровым кагором. Хондрик (которого, как оказалось, зовут Сидор Филиппович) проявил к фляге неожиданный интерес и предложил даже самолично пришить к тунике Жихарева потайной карман, однако на его рвение внимания не обратили. Все были изрядно взволнованы.
К шести часам Сергей занял наблюдательный пост у прожженной в занавесе небольшой дыры и принялся высматривать своего недруга. Волнение свое он слегка погасил, сделав несколько приличных глотков из отрытой в кулисах бутылки. Тем временем к театру потекла публика. Вначале возник разночинный люд: мелкие чиновники, приказчики модных магазинов, гимназисты старших классов, купеческие сынки и мещане. Особняком явилась большая группа офицеров, бывших несколько навеселе. Зрители поавантажней стали прибывать позднее. Это были тучные носители известных купеческих фамилий и городская знать в лице начальствующих особ и представителей местного дворянства. Даже Его превосходительство господин Губернатор с женой оказали честь премьерному показу пьесы Аскольда Рубинова.
Сам автор от такого блеска орденов, эполет и фрачных манишек сидел за кулисами ни жив, ни мертв.
Нарышкин все глаза проглядел, но ни в партере, ни на галерке подлеца Левушку не заметил. В ложах, сплошь занятых сиятельными особами, Трещинского тоже не наблюдалось. Оставалась только слабая надежда на две крайних ложи, обзор которых из дыры в занавесе был затруднен.
Часы пробили семь. Шум в зрительном зале стал стихать. Служители пригасили лампы; занавес, разделившись, пополз в разные стороны, оркестр из своей ямы заиграл нечто, долженствующее означать увертюру. Представление началось.
Пока рабыни и стражники дефилировали по сцене, изображая дворцовую суету, зрители еще переговаривались. Офицеры довольно бесцеремонно лорнировали дам как по ту, так и по эту сторону оркестровой ямы. Дамы по эту сторону краснели в полумраке и шумно обмахивались веерами. Но когда Аскольд-Антон, потакая низменным вкусам толпы, стал нараспев перечислять похотливые похождения тирана Клавдия, публика все же заинтересовалась происходящим.
На фразе «вакханок в бане обнажать и там их долго ублажать» кто-то из офицеров хамски заржал.
Аскольд старался изо всех сил. Он метался по сцене, как буйнопомешанный, вдохновенно демонстрируя падеж нравов. При этом он слегка переборщил, когда принялся хватать рабынь за мягкие места, поскольку вскоре получил от Глафиры увесистую оплеуху, разнесшуюся на весь зал, одобрительно загудевший. На галерке раздались аплодисменты. Затем Клавдий в изнеможении повалился на ложе, но тут же вскочил и, вздымая руки к небу, поклялся Вседержителем перетопить в крови всех своих противников и пересовратить всех их жен. Под конец своего сольного выступления, когда он, явно импровизируя, пнул ногой одного из пожарных, зал, кажется, окончательно поверил в то, что нравы в Византийской империи пали ниже некуда. И только поверженный брандмейстер довольно громко, так, что слышно было в первых рядах, прошипел вослед удаляющемуся тирану: – Ты мне, паскуда, за энто ответишь!
Явление несколько смущенной императрицы зал встретил вздохом восхищения. Все тот же хамский офицерский голос отметил: «Сладка чертовка!».
Каждый поворот тела Катерины, когда обнажались стройные ножки или открывалась грудь, галерка встречала гулом одобрения. Точка кипения случилась в момент, когда Кориандр (Жихарка) неожиданно сымпровизировал и принялся с увлечением лобызать колени императрицы. Офицерское собрание в зале застонало. Нарышкин сопел и бороздил взглядом пол.
– Что с этим болваном Жихаревым? – негодовал Аскольд, пытаясь отдышаться за кулисами после своей мощной эскапады по сцене. – Что он делает? Зачем он прилип к ее коленям? Он же, как будто куриную булдыжку гложет!
Пока Архилох строчил свой донос, а император приказывал заточить любовников в темницу, публика отходила от потрясения, обсуждая достоинства заезжей примы. На галерке переговаривались:
– Это тебе не наши – плоскогрудые да чахоточные. Тут порода сразу видна. Да-с.
– Что ты! На винограде взращена. Одно слово – тальянка!
– А по-русски-то чешет, как по писаному.
– За такие деньги, как ей платят, я бы и по-китайскому заговорил.
Сцена заточения Варении в темницу вызвала у особенно впечатлительных дамочек чувственные припадки. Эпизод с освобождением арестованных – одобрительный свист гимназистов. Вызволяя Кориандра и Катерину, черный раб вел себя весьма джентльменски и даже прошептал на ухо императрице: «Держитесь, Катенька!»
Когда же Передокл (Хондрик), вовсю жестикулируя, послал черного раба Фобия куда-то в сторону рисованного задника поднимать «восстание Спартака», на почетных местах заволновались. Губернатор направил в ложу к полицмейстеру человека с вопросом, читал ли он текст данного произведения, прежде чем разрешить его к постановке.
Пока Варения и Хондрик выясняли свои сложные драматические отношения, пока Кориандр травил ядом соперника и подбрасывал змею-анаконду, то бишь бывшую пожарную кишку, базилевсу, в ложе у полицмейстера шло срочное совещание. С одной стороны, падение Византийской империи – это факт, но зачем эти комедианты к нему обратились? Нет ли тут вольнодумства? Что ответить губернатору? И почему Аскольд-Антону потребовались дополнительные доводы, чтобы ускорить разрешение пьесы к постановке? (О взятке в размере четвертного билета речь, разумеется, не шла.) Нет ли тут подвоха? В конце концов, полицмейстер решил во время антракта срочно просмотреть текст пьесы и, уже исходя из прочитанного, делать выводы. Но, как оказалось, дальнейшие события потребовали незамедлительной реакции нижегородских властей.
На авансцену, стеная, вышел укушенный пожарной кишкой император. Прозревший от яда тиран перед смертью осознал всю глубину своего падения и стал направо и налево изобличать имперские порядки. Публика притихла. Было слышно, как шипят масляные лампы. Окончание своего монолога Аскольд произносил в гробовой тишине.
«Доколе сильный и богатый
Будут терзать ромейский люд?
Ужо приходит час расплаты,
Неправедных владык сметут!»
…В этом месте, увлеченный своими обличениями, Аскольд весьма необдуманно потряс перстом в направлении губернаторской ложи. (Позже он уверял, что сделал это не намерено.)
«Я правил грозно и жестоко,
Посеял гнев, усилил гнет.
Отягощенная пороком,
Моя империя падет!
Я властолюбию в угоду
Ступал к престолу по гробам.
Я не облегчил жизнь народу
И вольную не дал рабам!»
Завершив декламацию, Аскольд многозначительно пошевелил накладными бровями, окинул взором зал, чтобы оценить произведенный эффект, и почувствовал неладное. Зрители замерли на своих местах. У полицмейстера по губам бродила нехорошая улыбка. Губернатор в своей ложе привстал, подался тучным корпусом в сторону сцены, да так и оцепенел. И тут до тирана Клавдия с некоторым опозданием наконец дошло, что, обличая пороки Византийской империи, он только что запустил увесистый камень в огород империи Российской, и его монолог нельзя расценивать иначе, как открытое политическое выступление против существующего режима. В этом месте Аскольду стало плохо, в глазах его помутилось, он попятился и с глухим стуком рухнул на деревянное ложе. Стражники-пожарные, следуя ранее полученным инструкциям, тут же подхватили павшего тирана вместе со скамьей и отволокли за кулисы.
Нарышкин, чей выход следовал дальше по ходу действия пьесы, так никого и не высмотрел в крайних ложах. К этому времени он допил свою бутылку и чувствовал некоторый нутряной подъем. Сцена истязания выглядела весьма реалистично. Сергей живо изображал мучения, старательно мычал и подвывал под ударами. Но когда один из пожарников довольно ощутимо пнул его ногой (видимо, отыгрываясь за обиду, нанесенную императором), Сергей не выдержал и шепотом обматерил зарвавшегося экзекутора. Наставало время окропить себя из фляжки церковным вином. Отчего-то смущенный Жихарка, торопливо облизнув губы, в полумраке кулис вылил на Сергея все ее содержимое. «Гроза морей» перекрестился. Усердно подвывая и мыча, он поднялся и, пошатываясь, вернулся на сцену. Реакция зала последовала незамедлительно. По передним рядам, словно подгоняемый легким ветром, пронесся смешок. Он усиливался по мере передвижения Нарышкина по сцене. Когда же черный раб Фобий расправил плечи и в ожесточении затряс цепями, хохотал весь зрительный зал.
Сергей придвинулся ближе к рампе, и, подслеповато щурясь, в недоумении оглядел себя. Тут только он заметил, что весь с головы до ног густо измазан небесно-голубого цвета краской. Как раз той, что красили небо над «Босфором»… С полведра этой жидкости оставалось еще у непьющего маляра Тихона Никифоровича. Краска была куплена с запасом… И зеленая, и красная, и голубая…
Нарышкин растерянно оглянулся и посмотрел за ближайшую кулису, ища глазами г-на Жихарку, но не нашел его там. За кулисой был только Аскольд, который в отчаянии заламывал руки и топтал крепкими, но лишенными изящества сандалиями Федора сорванный с головы лавровый венок.
«Вино из фляги вылакали, пакостники, и плеснули туда краски… Хотели, должно быть, красной, да видать ошиблись впотьмах», – понял мятежный раб, продолжая искать глазами в полутемных кулисах бывшую комическую пару.
Зал продолжал сотрясаться от смеха.
– Какой актер погибает во мне! – с тоской подумал Нарышкин, одновременно понимая, что нужно срочно что-то предпринять.
– Что ржете, сволочи! – сказал он, как ему казалось, про себя, однако вышло вслух, причем достаточно громко, так, что услышали в ложах.
Он отступил в глубь сцены, сорвал с ближайшего кресла кусок материи, скомкал его и принялся яростно утираться. Вместе с краской с могучего торса «эфиопа» стала ползти сажа.
Театр дрожал от громовых раскатов хохота. Сергей в сердцах сплюнул и понял, что спектакль уже не спасти. Неожиданно в нем шевельнулась некая стихийная сила. Он шагнул к заднику и, бряцая колодезной цепью, которая играла роль оков, на холсте, прямо на стене Софии Константинопольской, полуаршинными буквами решительно стал писать прощальный манифест черного раба Фобия, который начинался призывом: «Долой императора-тирана!». Написать он успел немного.
Едва на белокаменном портике «Византийской святыни» одна за одной появились грязно-голубые буквы «И М П Е Р А…», хохот стих, и наступившую тишину зрительного зала прорезал истошный вопль губернатора: «Прек-ра-тить!!!»
Тут же со своих мест вскочило несколько полицейских чинов и людей в штатском платье. Зал зашумел.
Раздались крики: «Взять! Немедля! Всех!». Общую какофонию звуков перекрыл чей то женский визг: «Хватай негру!».
Полицейские ринулись на сцену. Нарышкин, который увлекся искусством каллиграфии, был бесцеремонно схвачен двумя господами «при исполнении». Толстые и неповоротливые квартальные надзиратели, привыкшие иметь дело только с пьяными приказчиками да разными босяками, не ожидали отпора от ряженого эфиопа. Грязно-голубой, маслянистый негр выскользнул из власть предержащих рук и с размаху засветил одному из полицейских в ухо. Тот без звука отлетел назад и, сверкнув в воздухе чищенными до блеска голенищами, со всего размаху загремел в оркестровую яму. Второй полицейский получил в зубы и, увлекая за собой пару горящих ламп, последовал вслед за первым. Расплескавшееся масло загорелось, огонь перекинулся на занавес, который вспыхнул, как порох, и через мгновение пламя уже пошло драть колосники над сценой. В зал повалил густой дым, зрители, визжа, крича, и сбивая друг друга с ног, кинулись к выходу.
– Дэржи эта сабак! – донесся крик из директорской ложи, в которой находился восточный человек Роман Фахрутдинович Мосьпан – Тер-Хачатрян.
– Зарэзать! – орал Турокул. – Кишка выпустыть!
– Казныть, кэк баран! – вторил ему Жырокул.
Внезапно Сергей увидел в одной из крайних лож освещенное зловещим заревом пламени, ухмыляющееся лицо Трещинского.
– А-а-а! Вот ты где, подлец!!! – заорал Нарышкин, подбежал к краю сцены, с силой оттолкнувшись, прыгнул и повис, ухватившись руками за перила полукруглого, резного балкона ложи. Он попытался подтянуться, но умащенные постным маслом пальцы соскальзывали. Из-за перил к нему наклонилось ненавистное холеное лицо. На секунду Сергею показалось, что Трещинский напуган.
– А я тебя недооценил, Сережа! – покусывая губы, пробормотал Левушка. – Надобно было разделаться с тобой еще в имении.
– Подлец! Отдай клад, он не твой! – изо всех сил стараясь удержаться, прорычал Нарышкин.
Лицо Трещинского исказила брезгливая гримаса, он легко ударил по пальцам Сергея веером, и Нарышкин, чертыхаясь, соскользнул вниз. Его тотчас схватили чьи-то руки, но он вырвался и, раздавая затрещины направо и налево, ринулся назад на сцену, а затем вниз, к черному ходу, на бегу увлекая перепуганную насмерть актерскую компанию за собой.
– Сматываем удочки! Все за мной живо! – Сергей подхватил на руки остолбеневшую Катерину и понесся вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки…
…Случайный прохожий лотошник, которого потом не раз допрашивала полиция, божился, что все так и было, как он ранее и «сообчал»: из дверей запасного хода в бывший театр Крымова выскочил «чорт» с белой женщиной на плече. Бросил ее в пролетку. За ним высыпали трое ряженых мужиков и тоже попрыгали в повозку. «Чорт» сбрыкнул возницу с места, хлестнул лошадей, и вся бесовская «канпания» помчалась вниз к пристаням. Лотошник истово крестился и советовал прибить его на месте, «ежели сбрехнул чево по пьяной своей олаберности».








