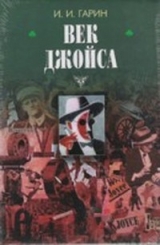
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 64 страниц)
** Джордж Рассел, характеризуя в одном из писем поведение молодого Джойса, бросил фразу: "Он горд, как Люцифер".
По свидетельству самого Йитса о встрече с Джеймсом Джойсом, произошедшей в октябре 1902-го, юноша держался вызывающе…
…рассказы Йитса о встрече доносят немало его ярких фраз: "Вы слишком стары, чтобы я мог чем-нибудь вам помочь" (Йитсу было 37 лет); "Я прочту вам свои стихи, раз вы просите, но мнение ваше мне совершенно безразлично"; и наконец, в связи с обращеньем Йитса к народным темам и диалекту: "Вы быстро опускаетесь". Не изменил он этой манеры и в дальнейшем.
Часть II. ДЖОЙС
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА
– Какого вы мнения об ирландском национальном характере?
– Самого отрицательного, я этот характер знаю по себе.
Из интервью Д. Джойса
ДЖОЙС – НОРЕ БАРНАКЛЬ
Мой ум отвергает все существующее социальное устройство и христианство; мне в равной мере претят моя семья, принятые добродетели, социальная иерархия и религиозные доктрины. Как, посуди сама, могу я любить свою семью, заурядные мещанские устои которой были подорваны пагубными привычками транжиры-отца, мною унаследованными. Теперь я понимаю, что мою мать медленно убивало дурное обращение отца, годы нужды, мой откровенный цинизм. Я смотрел на ее лицо, когда она лежала в гробу, – серое, изможденное от рака лицо, – и думал, что передо мною лицо жертвы, и я проклинал ту систему, которая сделала из нее жертву. Нас было семнадцать человек в семье*. Но мои братья и сестры – ничто для меня. Только один брат способен меня понять.
* Из пятнадцати детей Джона Джойса и Мэй Мерри выжило десять.
Я обрек себя на нищенское существование, зато не уронил себя в собственных глазах. По иерархическим меркам я всего лишь бездельник. Я уже трижды принимался за медицину, пытался заниматься правом, музыкой. В жизни я испытываю невероятные трудности, но они меня нисколько не заботят. Я враг людской угодливости и низости. Неужели ты не видишь, что за всеми моими уловками скрывается простодушие?
ИЗ ДНЕВНИКА
Мать укладывает мои новые, купленные у старьевщика вещи. Она говорит: молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь! Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа.
Он ушел по гораздо более прозаическим причинам: отец пропивал доставшееся ему солидное состояние в дублинских пивных, семья беднела и часто переезжала во все более бедные квартиры, счета не оплачивались месяцами… Он ушел, чтобы не видеть это медленное опускание на дно…
Он ушел, чтобы совершить свою собственную "одиссею" – и совершил ее: за недолгую жизнь поменял 200 адресов, номеров захудалых гостиниц. "В своем добровольном изгнании он метался по Европе – Лондон, Париж, Триест, Цюрих, Пола, Рим, снова Цюрих… Но и за дублинский период своей жизни – с 1882 по 1912 г., когда он последний раз посетил родной город, Джойс сменил около 20 адресов".
В детстве Джойс восхищался отцом, которого знал буквально весь Дублин. Повзрослев, он стал тяготиться им, а позже и стесняться. Однако его смерть пережил мучительно. Не меньшей сложностью отличались его отношения со старшим братом, который был отчасти его литературным секретарем. У Станислава было литературное дарование, конечно, не сопоставимое с талантом брата. Естественно, что он всегда находился в тени Джеймса, или, как он называл брата, Джима. Переносить это Станиславу было не очень легко. Если он и не завидовал славе брата, то все же ревновал его к успеху, к друзьям. Вопреки воле Джойса, Станислав не раз выступал его критиком, причем отнюдь не всегда лицеприятным. Так, он не принял некоторые эпизоды "Улисса", а "Поминки по Финнегану" считал книгой не просто неудачной, но свидетельствующей о "размягчении мозгов брата". Станислав оставил бесценные дневники, в которых запечатлел образ Джеймса Джойса. Вот одно из его наблюдений: "Думаю, что со временем Джим станет для Ирландии тем же, чем Руссо для Франции… Джим умел располагать к себе людей, но по сути своей не был милым и приятным человеком… Вот он сидит на коврике у камина, обхватив руками колени, чуть закинув голову назад, на его вытянутом лице пляшут отблески пламени, а потому оно кажется лицом индейца – жестоким, непреклонным. Если вы сделаете Джиму любезность, не ждите любезности в ответ…".
Вряд ли Джеймс страдал комплексом Эдипа – при всей амбивалентности отношений с отцом он любил его, находя в себе таланты и недостатки кутилы и бражника: "Я ведь и сам грешник, даже недостатки его мне нравились". "Сотни страниц, дюжины персонажей в моих книгах пришли от него".
Благодаря отцу, еще не успевшему пропить состояние, Джеймс получил приличное образование, вначале в закрытом пансионе Клонгоуз Вуд, затем в лучшей иезуитской школе страны Бельведер-Колледж, в которой окончательно оформил свой лойоловский склад ума и из которой вынес нонконформистское отношение к христианству.
С. Хоружий:
Джеймс учился блестяще, завоевав прочную славу первого ученика… Помимо славы, он регулярно завоевывал и нечто более весомое – награды на ежегодных национальных экзаменах. Наградами служили солидные суммы, равные пенсии отца за несколько месяцев (ко времени учебы его в Бельведере состояние отца успело растаять); и очень понятно, что дома, еще больше, чем в школе, за ним утвердилось особое, исключительное положение. Это неизбежно влияло на формирование характера, хотя неизвестно, что было причиною и что следствием: похоже, ему всегда были свойственны сильные, выраженные черты личности. И очень рано в этих чертах замечалось, по словам его брата, "нечто холодное и эгоистическое", ноты высокомерия и превосходства, а порой дерзости и вызова, желание – и умение – манипулировать обстоятельствами и людьми в свою пользу. В его отношении ко всем институтам, уставам, правилам, к общепринятым взглядам преобладали негативные мотивы: несогласие, неприятие, отчуждение… Но, разумеется, психологический портрет не был столь однозначен. Джойс всегда проявлял способность к доброте и участию, не был скуп и расчетлив, тянулся к дружбе, к доверительным отношениям и унаследовал от отца классическую ирландскую общительность и говорливость (а вскоре и склонность сопровождать беседу рюмкою). Однако его говорливость редко выносила наружу наиболее важное, личное, глубинное.
Главные отличительные черты личности Джеймса Джойса: нонконформизм, нигилизм, эпатажность.
Личность Джойса интересна не только сама по себе, но как главный ключ к его творчеству: Улисс и Поминки – зеркала психики их автора, его мироощущения, отношения к жизни, причудливости, эксцентричности, странности, инакости, уникальности. Можно сказать, что особенности творчества Джойса точные отражения его внутреннего мира, устройства его сознания, его интровертированности, маниакальности, пограничности, творческого экстремизма. Джойс не экспериментировал – Джойс самореализовывался, изображал свое внутреннее устройство!
Даже смех Джойса подобен "черной дыре", огромная масса которой не дает прорваться наружу фандиозной эксцентрически-смеховой стихии. То, что именуют отсутствием общности со своим читателем, правильнее назвать психическим несовпадением фаз. Люди, подобные С. Хоружему, потому и являются фанатиками Джойса, что их фазы совпадают, как совпадают фазы Джойса, Хлебникова, Белого и т. д. Видимо, сам Джойс не до конца осознавал собственную уникальность, удивляясь недоступности своих текстов, словообразований, шуток; он даже обижался на читателей и критиков, не улавливающих его юмора.
С. Хоружий:
Перед нами явно не нарочитый эффект, а органическая черта авторской личности: инаковость смеха, смеховая отъединенность.
Такою же чертой, быть может, еще резче, заметней выраженной, был наделен и Хлебников: оба художника – люди с иным смехом, смеющиеся не так и не тому же что все… Естественно вспоминаются здесь и другие фигуры, оставившие в искусстве слова заметный след и тоже отличавшиеся – уже не обязательно в смехе – инаковостью и странностью, как бы печатью иного мира. Андрей Белый, казавшийся пришельцем из космоса, о ком после уж долгих лет близости Александр Блок, не самый тоже обыкновенный из смертных, записал: "все такой же – гениальный, странный". Ремизов – как и Джойс, парижский изгнанник и полуослепший фанатик слова, – с густой причудой, с комплексами обиды и изгойства, не так уж далекими от джойсовых комплексов предательства и измены. А дальше вглубь – Гоголь, "кикимора с инфернальным смехом", как выразился тот же Ремизов, Свифт, "бежавший в чащу безумия", как сказал Стивен Дедал… Но весь сей синклит "это-логически инаковых" – это ведь джойсова родня и в другом – в литературе, в поэтике, в отношении к слову! Все это субъекты со странностями – они суть речетворцы, маги и пленники языка…
Джойс до такой степени ощущал собственный модернизм, что относился к древностям только как к праху истории, в лучшем случае – строительному материалу, "сору" по Ахматовой. Собственно, его эстетика – это эстетика такого "сора": даже пирамиды разрушаются, "сор" же вечен. "Сор" и есть жизнь. "Рим мне напоминает человека, промышляющего тем, что показывает желающим труп своей бабушки" – в этом афоризме суть категорического императива модернизма, вечная переоценка всех ценностей, вечное движение и обновление, ничтожество Рима пред "сором".
Джойс отличался ядовитым, язвительным, предельно ироничным умом, превращавшим в скандал мельчайшие события собственной жизни и отношения с людьми. В сочетании с крайней степенью откровенности и безоглядности в отношении приличий эти качества превращали людей, попадавших в его духовную окрестность, в фотески, свифтовские по силе карикатуры, в раблезианские пародии. Важнейшим ключом к творчеству Джойса является фотескная гипертрофия, свойство видеть мир в его балаганном, сатирическом ракурсе, усиливающем изъяны и тайные пороки обычных людей. Внутренний мир под фандиозным микроскопом со специфически деформирующей оптикой – вот что такое новаторство Джойса-художника.
Все свое окружение великий подвижник превратил в "фабрику Джойса", занятую его делами. "Сойди сам Господь на землю, ты Ему тут же дашь поручение", – язвила Нора, видя как муж раздает поручения любым, даже случайным, посетителям. Да, как у большинства гениев, у него был "тяжелый" характер: он был невнимателен, неблагодарен, ревнив. Хотя Нора никогда не давала ему поводов, он надрывно ревновал ее. Он был одинок в семье, необщителен в обществе, трудно сходился с людьми, не хранил дружбы, мог проявить оскорбительную заносчивость. Своих героев он наделил чертами собственного характера – не оттого ли порой они внушают неприязнь?..
Сомневаясь во всем, он не сомневался только в собственной гениальности. Для того, чтобы доказать ее, работал до полного изнеможения, до истощения нервов, зрения, физиологических функций организма. Всю жизнь он нуждался и потому пробовал поправить дела бизнесом, но бизнесменом был никудышным…
Он не был ни заботливым мужем, ни внимательным отцом. То ли недостаток времени, то ли отсутствие глубокой привязанности, то ли маниакальность писателя…
Да и с детьми ему не больно повезло: Джорджо унаследовал замечательный голос отца и мечтал стать певцом, но ничего путного из этого не получилось. Душевная болезнь Лючии проявилась очень рано и лишь усилилась после ее неудачного романа с Сэмюэлом Беккетом, который был одно время секретарем Джойса. Джойс очень тяжело переживал недуг дочери, изъездил всю Европу, показывал Лючию даже "швейцарскому Шалтаю" и "австрийскому Болтаю", как он полушутя-полусерьезно называл Юнга и Фрейда, которых не слишком баловал. Лючия Джойс умерла в 1987 г. в психиатрической лечебнице на юге Ирландии, а на книгах ее отца до недавнего времени было обозначено "Авторские права Лючии Джойс". "Может быть, ее болезнь, – часто задавался вопросом Джойс, – это наказание за моего "Улисса"?".
В редкие минуты откровенности он говорил о себе: "Я слабый человек, не слишком добродетельный, к тому же весьма склонный к алкоголизму". Алкоголизм и свел Джойса в могилу – он умер в одночасье от внутреннего кровотечения при прободении язвы.
К чему мне жалеть свой талант? Его у меня нет. Пишу ужасно тяжело и медленно. Всё, что мне нужно, дает случай. Я – как человек, который спотыкается, идя по дороге: нога на что-то наткнется, нагнусь – и вижу: это как раз то, что мне нужно.
Это чувство знакомо каждому писателю: то, что нужно, приходит как-то нежданно, само по себе.
ИЗ ДНЕВНИКА
Древний отче, древний мастер, будь мне опорой ныне и присно и во веки веков.
А эта правдивейшая из самоироний? – Кузен Стивен, вы никогда не будете святым.
Ты был ужасно набожным, не правда ли? Ты молился пресвятой деве, чтобы твой нос не был красным. Ты молился дьяволу на Серпенден-авеню, чтобы толстая вдовушка впереди тебя еще выше подняла юбки, переходя через лужу…
СВИДЕТЕЛЬСТВО КАУЛИ
Интеллектуальные ресурсы, которыми он обладал, не были сверхчеловеческими, что же до материальных, то их не было вовсе. Он родился в семье, которая распадалась вместе с Ирландией; на протяжении всей юности он был беден, безнадежно беден и неизвестен. Он был необычайно чувствителен, но не более, чем полдюжины других ирландских поэтов; он обладал умом, чья живость сводилась на нет одним из его наставников-иезуитов; он обладал глубокими знаниями, доступными, однако, любому прилежному студенту. Но он был терпелив, настойчив – раз поставив себе цель, он не собирался считаться ни с какими трудностями; он был чужаком, без гроша в кармане, слаб здоровьем, Европа рушилась на его глазах, тринадцать миллионов людей погибло в окопах, империи летели вверх тормашками; он же закрывал окно и продолжал трудиться, шестнадцать часов в день, семь дней в неделю – он писал, отделывал, отрабатывал. И мы не усматриваем ничего таинственного в том, чего он достиг. У него были гордость, презрение, цель – и все эти черты явно выпирали из Улисса. Снова тут были гордыня Стивена Дедала, которая вознеслась над дублинской толпой, а особенно над толпой дублинских интеллектуалов, воплощенных в фигуре Бака Маллигана; тут было презрение автора к миру и своим читателям – подобно хозяину, который намеренно груб со своими гостями, он не делал никаких скидок ни на стойкость их внимания, ни на способность к восприятию, наконец, здесь было тщеславие, заключавшееся не в том, чтобы осознать себе цену в сравнении с любым романистом своего возраста, но в том, чтобы стать отцом западных литератур, архипоэтом народов Европы.
Теряя веру в свою страну, семью и религию, он искал новую – веру в искусство. Джойс стал одним из первых англоязычных писателей, которые считали литературное творчество своего рода религиозной деятельностью. Поэт или писатель для него – своеобразный служитель культа. Его задача в том, чтобы превратить обычное повседневное явление в светоч искусства, подобно тому как священник, совершая главный обряд отправления католической мессы, обращает хлеб и вино в плоть и кровь Христа.
Кем был Джойс? Ясно, не тем мрачным и замкнутым мизантропом, новым Тимоном Афинским, каким наши хотели бы изобразить его. Ясно, что великим гуманистом и страстным ниспровергателем общественного лицемерия. Но человеком?
Близко знавшие Джойса люди отмечали его веселость в компании, занимательность, желание стать центром внимания. Во время застолья он никогда не говорил о высоких материях – любимыми темами разговоров были забавные житейские истории, путешествия, кулинарные секреты, музыка. Обсуждение голосов известных певцов – одна из излюбленных тем Джойса. Наговорившись, он умолкал и пристально разглядывал собеседников. В компании ел мало, но с удовольствием пил белое вино, не стесняясь постоянно наполнять бокал.
Надо признать, что слабости Джеймса Августина Алоизия Джойса не ограничивались дружбой с зеленым змием: он рано узнал человеческое подполье – не из чужих слов: рано приобщился к смачно описанному в "Цирцее" миру – отнюдь не небесной любви. Уже после женитьбы на Норе Барнакль, судя по некоторым данным, он подхватил венерическую болезнь, обладал целым букетом не вполне естественных наклонностей. В молодости он отличался эпатажной манерой поведения в духе авангардных художников.
Юный Джойс очень набожен был,
Он прислуживать в церкви любил.
Он во всех бардаках
Пел псалмы как монах
И со шлюхами в рай восходил.
Мне представляется неверным представлять духовную эволюцию Джойса как резкий поворот от религиозного благочестия к сатанинскому по накалу служению искусству: зрелый Джойс стал не вероотступником, но богоискателем-нонконформистом, энергично отстаивающим свободу художника в поисках личного Бога – Художника с большой буквы. Я уже много писал о присутствии беса в искусстве. Люциферизм Джойса именно такого, художественного происхождения, ибо нет произведения искусства без сотрудничества дьявола.
Что мне природа? Чем она ни будь,
Но черт ее соавтор, вот в чем суть.
Мы с жилкой творческой, мы род могучий,
Безумцы, бунтари…
Люцифер именно потому рисовался Джойсу героической фигурой, что он сознавал плодотворность, необходимость, живительную силу зла и трагедию художника, обреченного противостоять «добру» соборного мира, изничтожающего не таких как все. Как у Ницше, мы обнаружим в его наследии немало богохульств, но сам дух его творчества глубоко религиозен. В известной мере допустимо утверждать, что он строил Улисса так же, как Св. Фома свою теологию или Данте – Божественную Комедию.
На глубинную религиозность величайшего модерниста указывает его мистицизм, выраженный в незыблемой вере в епифании – художественные прозрения, позволяющие "схватить" душу вещей. Еще – предельная насыщенность его искусства религиозной тематикой, францисканская любовь к твари, особенно к твари двуногой, отождествление художественного творчества с христианскими таинствами, так сказать "евхаристия" творческого акта*, тончайшее понимание духовной музыки, красоты католической философии, грандиозности христианской фитеологии и этики, вклада церкви в умственную культуру. Мне представляется, что Б. Поплавский имел основания говорить о "великом христианском явлении", каким был Джойс. Сам Джойс образом своего героя Стивена, порвавшего с церковью, подтверждает высочайшую оценку автором христианской веры, истории христианства, красоты религиозного искусства, мудрости теологии. Стивену претит шутовское и глумливое богохульство его антипода, Быка Маллигена.
* Свои рассказы "Дублинцы" Джойс называл эпиклезисами, пребыванием духа Святого при пресуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христа.
Джойс противился не религии, но церкви, ее догматизму, консерватизму, скуке. Очень хорошо по этому доводу выразился Г. Бёлль:
До меня, во всяком случае, никак не доходит, почему это ради какого бы то ни было умонастроения я должен быть скучным. Скучным не должно быть ничто, в том числе и религия: Киркегор дал доказательства этому, как до него Августин; Кафка – еще новые, как Фолкнер и Толстой. Джойс и Грасс останутся безнадежно непонятными для тех, кому неизвестно, что это значит быть католиком или бывшим католиком; какое чудовищное напряжение возникает, какие эстетические и демонические силы развязываются, когда человек их масштаба утрачивает или оплакивает такую веру, как эта. Немыслимо, невозможно понять их обоих, если не понята эта предпосылка. Но, разумеется, никто ничего не поймет, пока церкви прискорбнейшим образом хлопочут о научности. И нет ничего случайного в том, что атеисты и те люди церкви, которые позволили себе опуститься до роли представителей определенных интересов, самым идиотским образом оказываются заодно.
Людей, подобных Джойсу, Ницше, Прусту, я бы назвал "верующими без веры". Интеллект препятствует им ставить чувство выше ума, зов чувства кажется им обманчивым, но это не умаляет их глубинную страсть.
Они не могут осознанно допустить, что сверхъестественное в какой-то мере реально, зато реальность, лишенная сверхъестественного элемента, кажется им неполной. В их существе есть пустота, которую заполнила бы вера, но они не чувствуют себя вправе наполнить ее какой бы то ни было уверенностью или даже самой робкой надеждой. Но подобная пустота – полная форма такой надежды, матрица несуществующей уверенности, и трудно себе представить, что в ней не заложено никакого смысла.
Вера, религия – это одно, а церковь – это другое. Как и Ницше, Джойс видел в католичестве источник ирландской деградации, и это естественно для человека, исповедующего вечное обновление. Он видел в себе художника-одиночку, ведущего нескончаемую борьбу с ретроградным обществом и церковным застоем, возведенным в принцип.
О Джойсе говорили, что не измени он церкви, он создал бы новую теологию, стал бы Аквинатом XX века. Мне кажется, сослагательное наклонение здесь излишне, ибо творчество величайшего модерниста суть художественная теология, достойная века величайших изменений: эстетика Улисса, эстетика глубинной правды жизни тела и духа, модернизировала не только искусство, но и религию, облик которой в конце второго тысячелетия несет на себе гораздо больший отпечаток Джойса, Фрейда, Юнга, Феллини, Бергмана, нежели всех глав христианских церквей вместе взятых.
Мой личный вклад в теологию – осознание того факта, что религия, вера, понятие "Бог" эволюционизируют, как и все в этом мире, даже если в том остаются неизменными. Сегодня нельзя верить в Бога так, как это делали наши предки, и порой за атеизм принимают религиозный нонконформизм. В конце концов, если Иисус Христос радикально модернизировал веру отцов, то почему лишать такого права художника?
Будучи величайшим модернистом, Джойс не мог принять конформизм католичества. Мне он видится могучим религиозным реформатором лютеровского масштаба, великим экуменистом (не случайно Р. М. Адаме писал о "зарождающемся буддизме" позднего Джойса). Если хотите, в себе самом я обнаруживаю первого прихожанина грядущей экуменической церкви Джеймса Джойса.
Джойс был ярким образцом типично ирландского характера с присущими ему общительностью и говорливостью, страстью к остротам и шуткам, нередко хлестким и ядовитым, художественной и религиозной одаренностью, сочетаемыми со склонностью к суевериям, терпимостью и страстностью одновременно.
Человеком он был всяким, как всякий человек: добрым и эгоистичным, молчаливым, замкнутым и компанейски остроумным, бескомпромиссным и терпимым, высокомудрым и земным – разным, самым зрячим из слепцов.
Когда вечер и общество были ему приятны, он покорял всех, его разговор бывал равно и остроумен, и глубок, он был изысканно любезен, щедр, и от души весел. В такие часы он любил читать стихи на всех языках (обожая особенно Верле-на), иногда пел. У него был отличный фамильный тенор, он немного учился, даже пел, случалось, с эстрады, и все биографы не упускают возможности оживить свой рассказ мечтательной репликой жены: "Эх, если бы Джим стал певцом, а не копался бы со своей писаниной!". А в случаях особенного веселья исполнялся и "танец Джойса" мужское соло наподобие Стивенова в "Цирцее", о котором жена выражалась суровее, чем о пении: "Если ты это называешь танец – закидывать ноги за голову и крушить мебель!". У литературной дамы зрелище вызвало, впрочем, более утонченный образ: "Сатир на античной вазе!". Но эскапады художника всегда оставались в скромных пределах; вся его любовь к дружеской компании и хорошему белому вину не могла сравниться с его привязанностью к семье. С годами эта привязанность выросла до культа. Он был самым любящим, заботливым и потачливым отцом Лючии и Джорджо, а применительно к Норе "культ" можно понимать почти в прямом смысле: по "закону замещения", отношение к ней вобрало в себя заметную долю его детского и юношеского культа Мадонны. Вся его способность принимать к сердцу дела других уходила без остатка на членов семьи; за ее пределами для него были только приятные собеседники, полезные знакомые – и, разумеется, объекты зоркого писательского интереса.
Его интересовало всё: искусство, религия, философия, история, лингвистика, но больше всего – человек. И все это он изучал основательно и до последних пределов. Один из образованнейших людей эпохи. Энциклопедист. Полиглот. Тончайший знаток культуры. Как это ни парадоксально для человека его склада – это моралист, утопист, иконоборец. Настоящий Прометей духа.
Он копил факты, письма, события, истории, газеты. Он буквально погребал себя в информации. Он полагал, что для изображения жизни, всей ее полноты, всего ее обилия необходимо абсолютно всё – ничто, никакая мелочь не может быть пропущена…
Напряженная сосредоточенность, усталость с оттенком горечи, растерянность – таковы последние портреты. Высокий лоб, маленькие голубые глаза, очки с толстыми стеклами, пиратская повязка…
Он работал в белой рубашке и белых брюках: "Мне так светлее" – еще одно свидетельство качества его жизни…
Джойс, никогда не "раскрывался" с малознакомыми людьми, считая прием поклонников и визитеров неизбежным злом. Сухая и пустая беседа нередко разочаровывала незадачливых интервьюеров, ожидавших услышать от мэтра откровения или литературные курьезы.
Джойс был очень суеверен и еще более труслив: "Странно, что можно быть морально храбрым – каким я, безусловно, являюсь – и низким трусом физически", – писал он брату в 1905-м. По словам биографа, он знал приметы и суеверия большинства народов Европы, и верил во все из них. Надо признать, что интуиции художника редко подводили его: страхи большей частью имели под собой основания. Впрочем, Джойс старался не плыть по течению обстоятельств, понимая, что они всегда против новатора. Со сноровкой рекламного агента и имиджмейкера одновременно он "лепил образ": мобилизовал литературную общественность на защиту собственных интересов, организовывал рецензии и поддержки, обрабатывал критиков всей Европы, всеми доступными средствами привлекал внимание общественности к своей личности и творчеству. Только один пример: по пустяковому, в общем, поводу – пиратских публикаций отрывков Улисса в США, выгодных автору, – автор организовал письмо протеста со 167 подписями величайших людей мира, включая Эйнштейна, Кроче, Унамуно, Пиранделло, Метерлинка, Валери, Гофмансталя, Мережковского… Я не исключаю, что даже "безумная" для 1922 года идея выдвинуть Улисса на соискание Нобелевской премии была внушена одному из ирландских министров самим автором…
Самозабвенно преданный собственному призванию, Джеймс Джойс не обременял себя приличиями и рефлексиями: не чурался занимать деньги и вещи до зубного порошка включительно, когда это ему требовалось, пользовался возможностью вспомоществования по любому мельчайшему поводу до "сбегать на почту" или "купить чернил".
Житейская безалаберность, эксцентризм и эгоцентризм художника объяснимы его "призванностью", "избранностью", "неотмирностью". Обратите внимание, они свойственны не только "проклятым" поэтам. Своеволие, нонконформизм, неортодоксальность, если хотите, юродивость – знаете ли вы великих творцов, не обладавших этими качествами?
Говоря о характере Джойса, С. Хоружий обратил внимание на его роль "сына", "вечного сына", на которую определил самого себя художник в жизни и своих романах: как сказано в "Быках Гелиоса", "он был вечный сын!".
Во всех размышленьях и разработках на свою вечную тему отцовства-сыновства, во всех соответствиях между своею жизнью и своим творчеством он всегда видел себя в роли сына. Если по умственной и духовной структуре Джойс – Одиссей, то по душевной структуре он – вечный Телемак… Обладая сильным, предельно самостоятельным умом и даже богоборческим, люциферовским духом, он в то же время психологически всегда чувствовал нужду в сильной, доминирующей фигуре, а точнее, пожалуй, в двух фигурах: нужда его была не только в фигуре Отца, но и в фигуре Госпожи. Его отношения с Норой и его выраженный мазохизм явно коррелятивны с его ролью Сына: общее в том, что в обеих сферах – подчиненные роли, в которых реализуются, соответственно, подчиненность или вторичность сущностная, бытийная и подчиненность сексуальная. Мотивы переплеталась; в одном и том же письме к Норе из сакраментальной декабрьской серии 1909 г. мы можем прочесть: "Я твой ребенок, как я тебе говорил… моя мамочка", а дальше классические мазохистские пассажи о бичеваниях.
Наши все еще исповедуют ложь о его реакционности, космополитизме, ретроградстве, всю свою низость мы приписываем ему – таков уж наш стиль. "Консерватор" же и охальник – настоящий, в высоком смысле этого слова, революционер, подлинный патриот, человек грядущего. Да, политика мало интересовала его, ибо он обитал совсем в иных сферах. Для живущих здесь социум – тлен. (Суета, пыль, прах, – скажет Станислав Джойс. – Его гораздо больше интересовали люди, которых общество считало изгоями. – Первый признак принадлежности к гуманизму). Но это не вся правда. Самое социальное, что есть в мире, – человек, душа человека. Уже Дублинцы свидетельствуют о его интересе к природе общественного. Но общественное – мертвое. И оживить его способно только разоблачение общественного – это и есть высшая гражданственность. Патриотизм – не согбенность перед родиной, пожирающей своих сыновей, патриотизм – распрямленность, глаза в глаза с правдой и с жизнью. Да, у него не было иных политических убеждений, кроме веры в человека. И если он суров, как срыватель масок, то потому, что человечен.
У людей, живущих духом, бытие не определяет сознание, скорее наоборот. "Молчание, изгнание, мастерство" – результат состояния мирового духа и крушения идеалов, а не ирландской действительности. Ибо действительность всегда одинакова, дух же… Расщепленность духа, сосуществование несосуществующего – идеала мадонны и идеала содомского – сущность личности гения и способ гениального восприятия мира.
ДЖОЙС – НОРЕ БАРНАКЛЬ
Я вижу тебя то девой, мадонной, то дерзкой, бесстыжей, полуобнаженной и непристойной. Ты то возносишься к звездам, то падаешь ниже, чем самые последние шлюхи.
Да, такова его суть: полное слияние противоположностей. В Камерной музыке он воспевает светлую бестелесную любовь, в Джакомо Джойсе недоступную земную, в Улиссе – секс, животность.
Был ли он счастлив в любви, если сделал временем Улисса 16 июня 1904 года – день встречи со своей Норой? Улисс – эпиталама, скажет Р. Эллманн. Улисс – реквием, скажу я. Но ни то, ни другое, ни третье – трудная жизнь, не помешали этому человеку до конца дней быть преданным Норе Барнакль.








