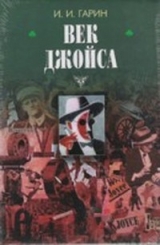
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 64 страниц)
ПРОМЕТЕЙ СИМВОЛИЗМА
Скальдом – жаворонком стать
Суждено не всякой птице,
Все же песни распевать
В меру сил она стремится.
Вам сегодня надлежит
Нас судить не очень строго,
Пред художником лежит
Многотрудная дорога.
Г. Ибсен
Жить – это значит все снова
С троллями в сердце бой.
Творить – это суд суровый
Суд над самим собой.
Г. Ибсен
В культуре Запада преобладало саморазоблачение, саморазвенчание, самобичевание человека, в культуре Востока – самовосхваление, самовозвышение, народоугодничество, народопоклонство. Конечно, и на Западе существовал национализм, шовинизм, расизм, как на Востоке создавали язвительную сатиру Гоголь, Щедрин, Платонов. Но речь идет не об отдельных художниках, а о культурной элите как таковой. Культурная элита Запада, ее величайшие представители – Шекспир, Свифт, Гёте, Бодлер, Ибсен, Джойс, Кафка – никогда не «пасли народы», чувствуя опасность возвеличивания человека, заигрывания с непредсказуемой массой, разжигания ее разрушительных стадных инстинктов. Все они своим творчеством скорее шокировали собственные народы, чем пели им осанну, эпатировали, выставляли напоказ и яростно разоблачали пороки народа, нации, собственной страны, человека как такового. Свифт, не таясь, говорил, что ненавидит человечество, Шекспир писал Калибана, Мольер – Тартюфа, Теккерей – сноба, Элиот – иллиджей и пруфроков, Ортега метал гневные филиппики в адрес человека-массы.
Бичуя народ, разоблачая человека-массу, западные художники – от Шекспира до Беккета – прививали иммунитет к раковым опухолям богоизбранности, богоносности, всемирности. Говоря человеку правду о нем, развенчивая антропоцентризм, демонстрируя борьбу Бога и дьявола в душах людей, западная культура диагностировала общественную чуму мессианства, национального чванства, лечила патриотизм и богоборчество самоосмеянием, самоослепление и самовоспевание – самоиронией и свифтовской сатирой. "Очистительный огонь Ибсена" * – вот, пожалуй, самая точная характеристика, данная Осипом Мандельштамом прижиганиям, с помощью которых Европа лечилась от язв шовинизма, мании величия, богоборчества, самопорабощения идеей.
* До О. Мандельштама А. Белый писал об "очистительной буре" Ибсена.
Бранд, Пер Гюнт, Привидения – жестокая правда о народе, сатира на "совиновных", саркастический гротеск на "норвежских норвежцев" (norsk norskman), "почвенная стихия с обратным знаком", жестокое развенчание романтизации народной жизни, язвительная пародия на крайний национализм и на стремление к национальной духовной замкнутости.
"Мой край родной! Народ моей страны,
Где солнце заперто в горах и льдами,
Где фьордами пути преграждены
И где душе не воспарить крылами,
Нерадостную песнь тебе спою,
В последний раз теперь слагая оду:
Какой поэт продолжит песнь свою,
Когда он спел отходную народу?
А мор уже кругом. Передо мной
Огромный труп, отчаянно смердящий
Дыханьем чумным надо всей страной,
И знать и нищих наповал разящий.
Накройте труп знаменами страны!
Пусть молодежь его опустит в море,
Где йомбургцы лежат, побеждены
Когда-то ярлом в долгом бранном споре".
Не потому ли процветает ныне ледяная страна, что ее поэт бросал своему народу такие стихи? Не потому ли в Германию пришел фюрер, что неистовому Гейне в свое время не хватило мужества, по его собственному выражению, «срать на Германию»? Не потому ли большевики превратили в концлагерь Россию, что ее поэты «пасли народ» и внушали ему мысль о богоносности и всемирности?..
В Письме в стихах, адресованном Ибсеном Георгу Брандесу и опубликованном в журнале со знаменательным названием Девятнадцатый век, есть потрясающий символ "трупа в трюме": корабль-Европа – комфортабельный, превосходно оборудованный и идущий в правильном направлении пароход, но пассажирам всегда надо помнить, что "в трюме сокрыт труп".
Чего ж еще, чтоб плыть нам без забот?
Машины и котел гудят под нами,
Могучий поршень движет рычагами,
И воду винт, как острый меч, сечет;
Хранит от крена парус при волненье,
А рулевой хранит от столкновений.
Фарватер верный мы себе избрали;
Снискав себе доверье и почет,
Наш капитан пытливо смотрит в дали,
Чего ж еще, чтоб плыть нам без забот?
И все же в океане, далеко,
На полпути, меж родиной и целью
Рейс, кажется, идет не так легко.
Исчезла храбрость, настает похмелье.
И бродят экипаж и пассажиры
С унылым взором, заплывая жиром.
Полны сомнений, дум, душевной смуты
И в кубрике, и в дорогих каютах.
Да, Ибсену, при всем его пророческом даре, не удалось предостеречь Европу от «трупа в трюме» – на какое-то время «сверхчеловеки» из баварских пивных вынесли его из тьмы покуражиться на сцене истории, но «труп в трюме» позволил самому Ибсену, Герту Вестфальцу, Капеллоне, строителю Сольнесу осознать очень важную мысль, что его сатиры на Норвегию, на «норвежских норвежцев», на их национальный характер – общечеловечны, что Бранд, Пер Гюнт, Гедда Габлер живут в каждой стране.
Работая над "Брандом", Ибсен, по его собственным словам, держал на письменном столе под стеклом живого скорпиона. И когда тот начинал кукситься, писатель подкладывал ему какой-нибудь мягкий плод, скорпион пускал в него яд и снова выздоравливал. Те же чувства возмездия испытывал Ибсен по отношению к самому себе и своим соотечественникам. В своей ненависти к Норвегии он в ту пору зашел так далеко, что однажды, стукнув кулаком по столику в кафе, громогласно заявил, что уж по крайней мере одно для сына исключено: Сигурд никогда не станет норвежцем *.
* Сигурд Ибсен стал видным членом правительства Норвегии.
При всем том, что Бранд и Пер Гюнт "давали жесточайшую, беспощадную критику Норвегии, рисовали норвежский народ как грубую и стяжательную, погрязшую в мелочах или предающуюся безудержному фантазированию массу", демонстрировали, что плохо обстоит дело с "самим правилом", а не с исключениями (народом, а не отдельными индивидами), при всем развенчании норвежской национальной романтики (герой национального мифа Пер Гюнт становится спекулянтом-авантюристом), оба эти произведения – по содержанию, символике, стихии фантазии – далеко выходят за пределы антинационального гротеска. Это – и сведение счетов писателя с самим собой, и глубочайшее проникновение в психологию толпы и героя, и театр абсурда…
Для того, чтобы получить престол Доврского деда, Пер должен, во-первых, "плюнуть на всё, что вне Рондских границ", во-вторых, "стать самим собой довольным", в-третьих, "научиться находить вкус в обычном домашнем образе жизни" и оценить все прелести домашнего стола. Пер должен надеть платье, изготовленное в горах, и нацепить хвост. Наконец, он должен лишиться правого глаза, а его левый глаз должен подвергнуться операции для того, чтобы всё уродливое и нелепое в царстве троллей представилось ему прекрасным и очаровательным. В гротескно-фольклорный эпизод Ибсен вносит уничтожающий сарказм в адрес консервативной романтики.
Фольклор используется в "Пер Гюнте" для борьбы против национальной романтики и в другом плане. То, что для национальной романтики было окружено ореолом, выступает здесь в уродливом, отталкивающем виде. Там, где романтики приукрашивали, Ибсен снижает и огрубляет. Вместо лучезарной Хульдры на сцене появляется отвратительная грязная "женщина в зеленом", танец которой воспринимается Пером как танец "свиньи в штанах". Романтический мир гор раскрывается как царство уродливых, завистливых троллей, во всем отрицательном подобных людям. Тесно связанные с фольклором образы пастушек предстают как образы похотливых, грубо чувственных созданий.
Крестьянские парни завистливы и злы. Их главарь, кузнец Аслак, грубиян и задира. Девушки лишены сострадания и завистливы. Как молодежь, так и старики не прочь посмеяться над одиноким и несчастным человеком, не похожим на остальных. Парни спаивают Пера, чтобы поиздеваться над ним. Везде господствует стремление к деньгам, к богатству, к грубейшим материальным успехам.
Пер Гюнт – не просто сатира на норвежский народ, на национальный самообман и национальное бахвальство, но – это гораздо важней! – гоголевское изгнание беса из самого себя, саморазвенчание, изничтожение идолов, которым служил молодой поэт. Не случайно он говорил, что позаимствовал черты своего героя в ударах пульса собственного разума, что он щедро снабдил его всем тем, что ненавидел в себе самом и в своих соотечественниках. Секрет воздействия этой и других пьес Ибсена на национальный менталитет – в глубоко скрытой, подсознательной мысли, которой со времен Паскаля питалась Европа, – "начни с себя!".
Народ мой, ты поднес в глубокой чаше
Мне горькое, бодрящее питье,
И на краю могилы вызвал всё
На битву я, чем мир сегодня страшен!
Ты мне велел края покинуть наши,
И тяжко бремя скорбное мое,
Что я влачу, гоним недобрым роком,
Прими теперь привет мой издалёка!
В своих высоких устремлениях молодой Ибсен видел себя не только великим поэтом, но и вождем нации и проповедником. Он писал, что хочет научить норвежский народ мыслить гордо.
Но так как он не обладал талантом трибуна, он пошел окольным путем, стал писателем. С того момента, как он почувствовал уверенность в своем искусстве, тон вождя звучит все явственнее. В "Бранде", "Пер Гюнте", "Столпах общества", "Кукольном доме", "Привидениях", "Враге народа" мы чувствуем волю вождя и слышим голос проповедника. Мы видим поэта, который поставил своей целью по крайней мере стать моральным судией и оракулом нации.
Но это вовсе не проповедь Толстого и не национальные экзальтации Достоевского – это не "вторая щека", а пощечина, не "всечеловечность", а "изгнание бесов", не "воспитание нации", а желание пробудить каждого человека.
Чтобы правильно оценить то огромное влияние, которое оказал "Бранд", следует помнить, что пьеса появилась в разгар бурного расцвета индивидуализма в общественной и духовной жизни. "Бранд" сделал отдельного человека тем центром, вокруг которого должен был вертеться весь мир, и с такой силой привнес в сознание людей требование к личности, как этого никто не делал раньше, а совесть отдельного индивида превратил в поле боя, где предстояло решать все проблемы.
О чем Бранд? Воспроизвести, пересказать поэму и пьесу нельзя, как нельзя пересказать миф. Главное здесь не внешнее Действие, а подтекст, обращенный к подсознанию внутренний диалог автора с самим собой, одновременно самоутверждение долго подавляемого индивидуального духа и предостережение об опасности "вождизма" и "заратустризма".
"Бранд" приобретает огромный смысл, если мы представим, как Ибсен словно бы стукнул по столу и крикнул сам себе: ты так долго шел на поводу у других, шел наугад, неуверенно, постоянно ощущая опасность, и вот ты осмелился сделать то-то и то-то; ты так долго вмещал в себя и частицу большого, и частицу малого, частицу дурного и частицу хорошего. Теперь жизнь пойдет по-другому! Теперь ты вырвешься вперед и станешь Ибсеном, даже если Бог и черт объединятся против тебя!
Но это далеко не единственное и далеко не исчерпывающее прочтение! Да, действительно, в до предела насыщенном диалоге с самим собой, свидетелями которого мы становимся, в диалоге, делающем всех персонажей внутренними голосами их творца, мы слышим, что призвание Божие поглощает Бранда целиком, без остатка. Бранд-Ибсен требует, чтобы и другие жертвовали всем, если Бог внутренний голос – подсказывает им это, вместе с тем он, пророк, проповедник и герой, несет всем несчастье, в том числе самым близким – матери, возлюбленной, самому себе. Пророчества, проповеди и герои опасны, говорит Ибсен.
Конечно, Бранд – только часть Ибсена, но очень важная часть, разве что лишенная той амбивалентности, от которой он пытался избавиться, но, к счастью, не смог. Бранд лишен ибсеновской парадоксальности, спонтанности, противоречивости и тем опасен.
Первоначально Ибсен задумал написать Бранда в форме поэмы и создал первые ее песни – так называемого Эпического Бранда, из которого я привел введение, обращенное "к совиновным". Затем драматург взял верх над поэтом, и в результате появилась одна из самых великих пьес, в которой, как в джойсовском Улиссе, есть гневные филиппики в адрес своего народа; идея крушения Великих Идей, для осуществления которых не считаются с жизнью и счастьем других людей, когда цель оправдывает средства; проблема имманентной зависимости личности от рода, наследования вины, невыполненного долга, ответственности; широкое символическое изображение мировой истории; развенчание вождя и толпы и т. д. и т. п.
Каждая отдельная жизнь бесконечными нитями связана с жизнями иных, и эти глубоко сокрытые взаимосвязи требуют величайшей осторожности и ответственности – не только за собственные дела, но и за деяния близких, родителей, детей, окружающих. Одно преступление неизбежно наслаивается на другое, грань между унаследованной и собственной виной зыбка и неопределенна.
Своим острием пьеса направлена против идей Ренессанса, Просвещения, против человека-чистой доски, против доктрины прогресса, против героев и толпы. Собственно, на переднем плане (а в драме – множество сюжетных пластов) – столкновение непреклонного проповедника (им мог бы быть вождь, мудрец, великий художник) и паствы. Цель Бранда – та же, что у Вольтера или Дидро, разве что в религиозной оболочке: воспитать, вылепить нового, цельного и последовательного человека, но цель эта абсурдна и недостижима. Обман – "чистая доска", обман – прогресс, обман – равенство, обман безоблачное счастье, обман – всеобщая любовь.
Среди множества символов особое место занимает брандовские "горы и долины": по Бранду в современном обществе господствует низкий, утилитарный "дух долины", а "горный дух" присутствует лишь в отдельные моменты душевного "вознесения", позволяющие мещанину считать себя причастным к высшим сферам бытия. Между тем цель Бранда состоит именно в том, чтобы уничтожить различие между "долиной" и "горами". Но это – тоже утопия. Требование Бранда-Заратустры "всё или ничего", моральный абсолютизм не менее опасны, чем моральный релятивизм. Строя новую церковь, Бранд вносит в нее пороки старой, лишь меняя внешнюю форму лжи, которой прикрывается современное общество. В маленькой церкви – маленькая ложь, в большой – большая.
Разлитое по всей драме стремление к чуду и предвкушение чуда как бы реализуются в финале, причем эта реализация крайне облегчается наличием эмоционального апогея пьесы в сцене обращения к Народу. Библейский, "пророческий колорит Бранда" в предшествующих сценах, возвышенный экстатический тембр позволяют осуществить переход к открыто "пророческим", мистическим сценам – так сказать, к мистерии – без нарушения художественного единства пьесы.
Народ узнает от Бранда, что победа достижима лишь как итог целой жизни, посвященной неустанной борьбе, что никакой непосредственной награды не предвидится, и он отворачивается от Бранда, побивает его камнями и снова следует за своими прежними вожаками – пробстом и ловким фогтом.
Таким образом, оказывается, что обычный средний человек не в состоянии выполнить моральную заповедь Бран-да даже при величайшем, эмоциональном подъеме. То огромное напряжение толпы, о котором говорили школьный учитель и кистер и которое действительно разразилось бурей, кончается отрезвлением и капитуляцией. Бранд остался одиноким. Он не в состоянии переделать мир.
Одна из многих идей Б р а н д а: мир не следует приукрашивать, он таков, каков есть. Идеализм хорош в сфере духа, утопия хороша как иллюзия, но ломать жизнь, вести человеческую толпу к "горним высям", пренебрегая человеческими качествами, бессмысленно и опасно. Люди должны знать правду о себе, не заблуждаться относительно своих достоинств и пороков, просто быть собой. Да, человечество надо будить, пробуждать, заставлять думать, но ему нельзя лгать, его опасно приукрашивать, его безответственно завлекать, его преступно разлагать ложью о собственном величии.
Ведь близок день мести и день суда
Над ложью, царящей вокруг.
Ханс Хейберг:
Как отрадно все же сознавать, что через три четверти столетия после выхода в свет "Бранда", когда Норвегия подверглась нападению и захвату чужеземцами, народ выдержал тягчайшее испытание и сохранил себя как нация! Мы вправе спросить себя: какую роль сыграл Ибсен, и в немалой степени своим "Брандом", в духовной жизни Норвегии, в становлении того национального характера, который не дал себя покорить? В какой мере дух Ибсена вдохновлял учителей, не желавших склониться перед врагом, или священников и других столь же мало приметных участников Сопротивления? Трудно с уверенностью ответить на этот вопрос, но весьма характерно, что, когда Франсис Бюлль, крупнейший норвежский исследователь Бьёрнсона и Ибсена, на протяжении долгих лет заточения в Грини старался вселить мужество в своих товарищей по заключению, самое сильное на них впечатление производили рассказы об Ибсене. Они вдохновляли узников, особенно то, что говорил им Бюлль о "Бранде", вселяли в них бодрость и уверенность.
Ибо, в конце концов, правда побеждает ложь: только народ, знающий горькую правду, способен одолеть собственное зло.
В речи, произнесенной после почти тридцатилетней эмиграции, Ибсен сказал, что, возвратившись, обнаружил в Норвегии значительный прогресс. Но, – продолжал он, – посещение родины принесло мне и разочарования…
…Я убедился, что насущнейшие права личности до сих пор не обеспечены так, как следовало бы ожидать от нового государственного порядка. Правительство в основном не допускает ни свободы совести, ни свободы слова вне произвольно отведенных границ. В этой области, следовательно, предстоит еще сделать многое, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что мы добились подлинной свободы. Но боюсь, что нашей демократии в том виде, как она сейчас существует, не по плечу эти задачи. В нашу государственную жизнь, в наше управление и в нашу прессу должен войти новый, я бы сказал, аристократический элемент.
Я, конечно, имею здесь в виду не аристократию родовую или тем более денежную и не аристократию талантов или дарований, нет, я говорю об аристократии, создаваемой характером, волей и всем духовным складом человека.
Она одна может освободить нас.
А до такого освобождения "иметь Норвегию родиной нелегко…".
В нашей весьма скудной литературе о Норвежском Шекспире, величайшем драматурге XIX века, доминирует тема "революционности", "демократизма" и даже анархизма Ибсена. Плеханов прямо говорил о "родстве духа Ибсена с духом великих революционеров". И это сказано о человеке наиконсервативнейших взглядов, твердящем о необходимости "нового потопа", восторгающемся самодержавием в России и тем, "какой там замечательный гнет". Одна из любимых мыслей Ибсена, многократно и в разных вариантах повторенная, заключается в том, что "свобода духа и мысли лучше всего процветает при абсолютизме" – "это доказано примером Франции, а позже Германии и теперь России". Теперь – это в 1872 году…
Ибсен терпеть не мог либерализма, "который никогда не проникал до корней зла" (!). Ибсен – не переносил демократию, не желал слушать разговоров о равенстве. Ибсен останавливался на улице и почтительно и низко кланялся ландо с королевскими или дворянскими гербами на дверцах, даже пустым. Ибсен, не переставая, твердил о власти лучших – такой вот революционер…
Вообще он был глух к политической мышиной возне. Он стучался в сердца не народов, не классов, не наций, а в сердце каждого человека, требуя "быть самим собой", быть верным божественному призванию, чутко ощущать миссию, вложенную в человека Творцом. Литейщик пуговиц в Пер Гюнте говорит: быть самим собой означает всегда выражать собой то, что хотел выразить тобой Господь. Экзистенциализм Ибсена очень глубок, скажем, Комедия любви написана под непосредственным и мощным влиянием Киркегора и является, можно сказать, предпоследней ступенью к великому конфликту в Бранде. Почти со страстью Датского Сократа Норвежский Аристофан разоблачал и развенчивал конформизм "сплоченного большинства", опасность омассовления человека и стертости личности. Но с еще большей страстностью, временами доходящей до экстатичности Климакуса, он пытался постичь абсурд бытия, "страх и трепет", неумолимость божественного закона. Бранд – это ибсеновский Авраам, в которого "моя [Киркегора] мысль проникнуть не может", ибо вера начинается там, где кончается расчет. Ибо "вера значит именно это: потерять разум, чтоб обрести Бога".
Ибсену духовно близок мрачный пафос, пронизывающий Страх и Трепет, как ему понятен вызов, бросаемый Несчастнейшим современной эпохе и собственному народу. Как и "захолустный философ", "захолустный поэт" побаивался "торжества разума", понимал мощь метафизического зла и тоже впадал в отчаяние.
Только отчаяние, поскольку оно охватывает всю человеческую личность и заполняет все ее существование, связывает человека с высшим.
Только отчаяние – ключ к человеческому миру, ибо не осознав глубины мировой боли и отчаяния, нельзя постичь человека. Отчаяние, страдание, боль – неотъемлемые составляющие жизни. И никакие ее трансформации не могут что-либо здесь изменить.
Можно, по-видимому, сказать, что не существует ни одного человека, кто в конце концов в какой-то степени не ощущал бы отчаяния… Быть в отчаянии не исключение, нет, наоборот, редкое, очень редкое исключение составляют те, кто не в отчаянии… а тот факт, что человек и не подозревает, что его состояние – отчаяние, не имеет значения, он все равно в отчаянии. – С. Киркегор.
Лишь уединяясь в страдании, лишь противопоставляя себя миру, человек сливается с ним. Боль, страдание, отчаяние – вот ступени в развитии духа. Нельзя быть гуманным, не страдая. Нельзя стать лучше, не осознав мерзости человеческой. Нельзя понять жизнь, не пережив боли. Тайна жизни – в страдании. Тайна веры – в деянии Господа, пославшего на крестные муки Сына Своего…
И замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел… От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставлял им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владычествуют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас: построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.
Ибо абсурд, судьба, спасение верой – безмолвные знаки небес, божественная неумолимость. Законы же разума человеческого…
Для третьей, высшей киркегоровской стадии в развитии человеческой личности, стадии углубленно-душевной, религиозно-беспощадной, в "Комедии любви" места нет. Но эта стадия, состоящая в постижении человеком своей полной обреченности и беспомощности перед абсолютным религиозным началом, перед неизбежностью страданий и смерти и наиболее полно выраженной в трактате Киркегора "Страх и Трепет", проступает в ибсеновском "Бранде". Ибо Бранд хочет ценой любых жертв стать лицом к лицу с крайними, экстремальными формами человеческого бытия и не только соприкоснуться с ними, но и подвергнуться их страшному, беспощадному воздействию. Он готов до самого конца осуществить божественный закон во всей его неумолимости – и более того, он хочет поднять до этой высоты и других людей, весь народ. Хочет помочь ему достичь самой высшей стадии в развитии личности, преодолеть свою прежнюю половинчатость в постижении христианской веры, хочет открыть перед ним ее глубинный, бесконечно требовательный смысл. И хотя киркегоровская терминология здесь отсутствует, Бранд фактически стоит именно на той позиции, которую наметил для своей третьей, высшей стадии Киркегор.
…реальное отношение Бранда к Богу – это отношение страха и трепета, то самое отношение, которое Киркегор считал единственно естественным для человека, если его душа отвлечется от всего внешнего и обратится к истинному трагическому внутреннему движению человеческого существования, которое неизбежно кончается смертью.
В своем творчестве поэта и драматурга Ибсен в известной степени занимался тем же, чем Серен Киркегор в своей философии и богоискательстве: не столько клеймил конформизм масс, обличал поверхностность веры, сколько стремился обрести Бога и изгнать беса из собственной души. Очиститься верой.
Жизнь и творчество Ибсена связаны неразрывно. В той или иной степени так можно сказать о любом художнике, но у Ибсена личность и творчество образуют единое целое. Почему? Потому что он был одинаково велик и как поэт, и как пророк. Он был проповедник, судия, моралист, мечтатель и правдоискатель в той же мере, как художник и мастер слова. В его творчестве слышались призыв к свободе и гневное осуждение, в равной степени касавшиеся его самого, так и его народа и всего мира. В драме "Борьба за престол" Ибсен выразил собственные сомнения, и эта же драма помогла ему разрешить некоторые из них. Когда он, как, например, в "Бранде", изрекал громкие морализаторские речи, в роли грешника определенно выступал норвежский народ, но в то же время каким-то таинственным и особым образом грешником становился сам автор. В "Пер Понте" он вновь бичевал норвежский народ и одновременно искал пути к отречению от дьявола и изгнанию его из собственной плоти.
Мрачный колорит и героическая патетика драматургии Ибсена – явление не случайное. Как Толстой в России, Ибсен был скроен из противоречий: огромная жизненная мощь и вселенское чувство греха, жизнелюбие и святость, жизненная правда и суровый, беспощадный морализм. Пастернак считал, что Толстой и Россия – одно, что Толстой – усилитель России. Это можно сказать в отношении Ибсена и Норвегии.
…если вспомнить пьесы Ибсена, то знакомство всего лишь с несколькими из них наводит на мысль, что их действие происходит в стране, где долгая зима и мало солнца. На сцене полумрак, а за окном дождь, слякоть, снег.
…нам открывается суровая и угрюмая, мятущаяся и замкнутая душа скандинава, разум, скованный зимней стужей. Всеми возможными способами раскрывается своеобразие этой души, пуританской трактовки этики, ощущаемой всегда, хотя сам поэт и ратует за "жизнерадостных благородных людей".
Если обозреть творчество Ибсена в целом, то поражает мысль, что оно такое же мрачное, как и поздняя северная осень. В нем слишком мало радости бытия, зато много страха перед жизнью, глубокого раскаяния, рвения, возмездия и кары. Той больной совестливости, о которой говорится в "Строителе Сольнесе".
Облик Ибсена оставляет, в сущности, то же впечатление, что и его произведения. Человек, пытающийся доказать, что в компании Ибсен мог быть и веселым, лишь подтверждает тот факт, что в целом поэт был замкнут, стеснителен, необщителен, сдержан. У него не было ничего общего с энергичной уверенностью Бьёрнсона и его верой в собственную неотразимость. Приобретая с годами жизненный опыт, возносясь на пьедестал славы, Ибсен научился прятать свою стеснительность за суровым обликом; однако робость и неуверенность в обществе были ему присущи до последнего дня жизни.
Герои Ибсена тяжелы. Слова их косноязычны. Всегда они говорят о внешних предметах и отношениях. А когда придают этим отношениям символический смысл, это всегда выходит так прямо, так явно. Нигде не прорвется у Ибсена внешний мир, но отчего так сильны эти явления, почти воплощенные символы? Почему мы дрожим, когда Боркман берет палку и идет бороться с жизнью? И, наоборот, не потрясают у Достоевского страшные слова Кириллова: "Бывают ли у вас, Шатов, минуты вечной гармонии?".
Творчество Ибсена не только призыв к ледникам или изображение падений в пропасть, но и наука о горном пути: инженерное искусство строить мосты и взрывать граниты. Пусть забыта цель восхождения. Когда будут изучены средства, цель откроется и разорвется туман блужданий.
Сравнивая Ибсена с Достоевским, Андрей Белый считал, что двух колоссов роднит видение будущего, прокладывание путей в него.
Достоевский – мечтатель-провидец. Ибсен – искусный инженер и механик; по мере возможности он приводит в исполнение хотя бы часть гениального, но пока беспочвенного плана Достоевского и впервые намечает в душе низины и горы, и тем дает воздушную перспективу безвоздушным широким плоскостям Достоевского.
Ибсен регулирует хаос души. Вот почему он дает пространство, регулируя хаос.
И, как горный инженер не терпит широты кругозора, он намеренно упрощает и суживает окружающее, приводя его к определенному, данному построению. Вот почему он ограниченней Достоевского.
Ибсен благороднее, но уже Достоевского, Достоевский – низменнее, но шире Ибсена. Ибсен – аристократ, Достоевский – мещанин. Герои Ибсена, как и герои Достоевского, устремлены к небу, но одновременно следят, как бы не провалиться в пропасть.
Творчество Ибсена – горный подъем, занавешенный туманом… Герои Ибсена всегда уходят в горы. Это значит – они стремятся к солнцу. Герои Достоевского говорят о солнечном городе так, как будто побывали в нем, и при этом не выходят из комнат. Герои Ибсена твердо гибнут в горах, не разболтав того, о чем иные кричат в дрянненьких трактирах. Счастье волнует их сердце, но, взволнованные, они не забывают о трудностях подвига; они знают, что экстаз не зальет своим пламенем горные пути благородных восхождений.
Характер Ибсена складывался из "северных льдов" и тяжелых драм детства и юности, оставивших множество рубцов на болезненно впечатлительной душе. Внезапное банкротство и ранняя смерть отца, оставшаяся без средств к существованию семья, жестокость, злопамятство матери, горечь нищенства, лишений, унижений, неудачи всех начинаний – всё это, хотя и не сделало его "человеком с искалеченной психикой", но наложило определенный отпечаток на его характер и всю последующую жизнь. Здесь истоки болезненной чувствительности, замкнутости и холодности, нелюдимости и несдержанности, но вместе с тем – предельной обостренности чувств, несгибаемой воли и огромной трудоспособности, крайней степени индивидуализма. Доходящее до тщеславия честолюбие, вспыльчивость, граничащая с сумасбродством, высокомерие, мало совместимое с нелюдимостью, – всё это было результатом не столько успеха Бранда и Пер Гюнта, внезапно нагрянувшей славы, сколько все той же реакцией на вынесенные унижения первой половины жизни.
В год учения у аптекаря Реймана плата ограничивалась обедами, юноша совсем обносился и его костюм, вытершись, стал блестеть, как "кафельная печь". У него не было ни носок, ни ботинок, и жители Гримстада долго вспоминали, что зимой он ходил в одних резиновых калошах. С годами положение Генрика становилось все плачевнее: его друг Кристофер Дюэ вспоминал, как был поражен закаленностью молодого человека, не носившего зимой нижнего белья и ходившего на босу ногу. "Если вспомнить, что Генрик родился в зажиточной семье, если иметь в виду его суетное тщеславие в более поздние годы, можно представить, чего ему это стоило".








