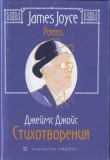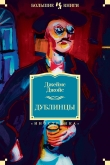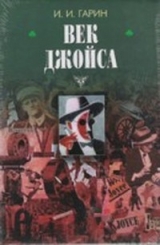
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 64 страниц)
Иосифа он сначала пламенно ненавидел, но нам известно, что из всех людей он в более поздние годы любил именно его и не в состоянии был гневаться на этого ничтожного и ненадежного человека.
Вместе с тем нереализованная агрессия "только и ждала случая, чтобы перенестись на другие объекты". И в итоге "сотни тысяч посторонних людей поплатятся за то, что рассвирепевший маленький тиран пощадил своего первого врага".
Все попытки наших служивых противопоставить Манна Фрейду абсурдны, лживы. Своим творчеством, своей статьей Фрейд и будущее Томас Манн лишь подтвердил собственную зависимость от исследователей бессознательного, мифологического, пракультурного. И то, что его герои помещены в новом, мифологическом измерении, огромная их заслуга.
Как и Ницше, Томас Манн испытал на себе мощную вагне-ровскую иррадиацию. Творец Кольца Нибелунгов для него – величайший модернист и мифотворец, соединяющий в себе музыканта и эпика, демонстрирующий невиданную до него творческую силу и энергию, новаторство и глубину. Чудо "явления Вагнер" – в небывалом синтезе оперы и драмы, мифа и музыки. Манн не случайно сравнивает Вагнера с Ибсеном – речь идет об органическом, новаторском синтезе стихий, таких шедевров как Пер Г ю н т Ибсена-Грига или Эгмонт Гёте-Бетховена. Вагнер единолично превратил оперу в музыкальную философию, театр – в духовное таинство, способ осмысления мифа и жизни, средство одухотворения нации. В год торжества нацизма в Германии Томас Манн смело и бескомпромиссно бросил вызов фашистам, использовавшим наследие великого немца для "поддержки нацистской идеологии".
В серии посвященных Вагнеру работ Т. Манн обращает внимание на взрывную творческую мощь его музыки, на его гётеан-скую одержимость искусством. Вагнер – авангардный философ жизни, средоточие жизненной силы: "Жизнь движет им и вымогает у него то, что ей нужно, – его творчество, нимало не тревожась о том, как бьется оно в тенетах своих мыслей". Творчество Вагнера – сама стихия творческой жизни, самоусиление: "Это "усиление" – не зависящий от воли Вагнера, основанный на самоуглублении закон жизни и роста его творчества".
Стоит ли после сказанного удивляться, что и сегодня Бай-рёйтский театр – самый посещаемый? – Билеты раскупаются за два года до спектакля!
Выросший под созвездием Шопенгауэра, Ницше и Вагнера, "иронический немец" – вопреки собственным декларациям – никогда не покидал родной стихии немецкой мудрости и демона музыки, так и не преодолев собственных Размышлений аполитичного.
Драматические противоречия мира "Будденброков" идентичны с противоречиями философии Шопенгауэра. Эта философия вместе с мыслями Ницше и музыкой Вагнера налагает на контуры мира Т. Манна больший отпечаток, чем все другие влияния, которые хотят проследить историки литературы.
Да, у позднего Манна можно действительно найти уподобление фашистского вождя ницшеанскому сверхчеловеку, но, как мыслитель, он понимал разницу между тем, что пишут философы, и тем, что творят фюреры, вербующие себе подобных среди черни.
Ницше свойственно безответственное красноречие, но писатели и философы никогда не претендовали на воплощение элоквенций в жизнь (разве что утописты и марксисты). Что до фюреров, то они даже гуманизм легко приспособили для массовых убийств (разве не со словами о "реальном гуманизме" большевики уничтожили треть населения своей страны?).
Конечно, мыслитель не может отвечать за весь спектр интерпретаций. Хотя фашисты и коммунисты прикрывались именами Гегеля, Ницше или Маркса, убивали все же не слова, а палачи, кстати, вербуемые именно среди тех, кто не способен уразуметь намного больше приказов "бей!" и "пли!".
В Размышлениях аполитичного Томас Манн декларирует верность Ницше, причем речь идет не только о духовном влиянии, но и стилистической зависимости: чтение Ницше улучшало "качество письма" большинства его поклонников и европейской литературы в целом. В настоящее время установлено, что многие фрагменты Размышлений являются парафразами к текстам автора Рождения трагедии. Ницше во многом сформировал манновское понимание искусства и художника, его философию жизни, помог осознать неизбежный конфликт "духа" и "жизни". Фриц Кауфман считал, что Ницше в лице молодого Манна обрел своего писателя и художника:
В действительности средний период Т. Манна может быть охарактеризован как "imitatio Nietzsche", что нашло свое завершение в "Волшебной горе", но началось уже в "Тонио Крёгере" и в последние два десятилетия смягчилось imitatio Goethe, хотя полностью не вытеснилось им – ибо гётезиро-вание Манна невозможно себе представить вне ницшеанской концепции Гёте.
Нет необходимости представлять писателя слепым последователем философа, тем более, что влияние Ницше было далеко не единственным, но ницшеанские темы никогда не исчезали из творчества автора Доктора Фаустуса, хотя отношение его – в соответствии с принципом "переоценки всех ценностей" – не оставалось неизменным. Ницше присутствует в качестве прототипа на страницах многих произведений Манна – этюда Разочарование, новеллы Тобиас Миндерникель, Тонио Крёгер, романа Доктор Фаустус…
90 % верноруслановской маннологии посвящено устранению влияния Ницше на творчество молодого Манна (вопреки обратным признаниям последнего). Но разве Тобиас Миндерникель или Воля к счастью не иллюстрации к Переоценке всех ценностей? Разве этюд Разочарование или роман Доктор Фаустус не художественная дань Ницше? Разве в высшей степени не абсурдно признавать духовную зависимость Манна от Достоевского и отрицать – от Ницше?
Томас Манн открыл для себя его собрание афоризмов уже в 1895 году, в начале своего писательского пути, и с тех пор в течение шести десятилетий находился под сильнейшим влиянием этого мыслителя. Писатель увидел в философе необычайно актуальное сочетание "художника и познающего", "лирика познания", в котором грандиозно смешались "наука и страсть… истина и красота". В статьях и письмах он часто говорил о том, сколь многим обязан ему, и историки литературы могут – как это бывало не раз – лишь повторить сказанное им. Ницше, прежде всего, определил его представление об искусстве и художественном творчестве. Он не только сам был примером поэта в философии и философа в поэзии, критически объясняющего бытие; в еще большей мере этот представитель "веселой науки" развеял иллюзии относительно "художественных натур" и вскрыл во многих из них… элементы комедиантства, погони за эффектом, нигилизма, даже лжи. В романах и новеллах о паяце, Тонио Крёгере, Густаве фон Ашенбахе, Чиполле, авантюристе Феликсе Крулле, наконец, о библейском Иосифе и Адриане Леверкюне, варьирующем миф о Ницше, писатель вновь и вновь возвращался к этой "модели". Даже Гёте в романе "Лотта в Веймаре" наделен чертами "человеческого, слишком человеческого".
Кроме того, на Томаса Манна оказали влияние многие стилистические приемы и ироническая позиция этого философа, а также его психология упадка, анализ декаданса и бюргерской культуры, его (предвосхитивший Фрейда) психолого-мифологический прорыв в сферу бессознательного. Не раз он восславлял Ницше как этика, "инициатора всего нового и лучшего", называл себя благодарным учеником его и Гёте, считая сравнимым их вклад в служение жизни и будущему. Специально исследовавший эту тему Гейнц Петер Пюц с полным правом мог констатировать, что у писателя "едва ли можно встретить мысль, которой нельзя было бы найти какого-то, хотя бы скрытого, соответствия у Ницше".
Бросается в глаза, что Томас Манн ориентировался всегда на мыслителей, творивших как бы на грани искусства и науки. В работах Эразма и Вольтера (с его подчас высокой поэзией), как и у Шопенгауэра, Ницше, Кирке гора, он видел скорее одухотворенную эссеистику, нежели строгую доктрину.
Для интеллигента Манна бюргерство – колыбель культуры, "прекрасная, спокойная просвещенность", "чувство изящного", "чистота и аккуратность всего, что выходит из рук", "глубокий и доброжелательный жизненный опыт". Бюргерское – вот подлинно обильное, плодотворное, многообразное, свободное, в отличие от революционной истерии и насилия, с которыми ассоциирует то одиозное, в чем обычно проявляется марксизм-ленинизм.
Размышления аполитичного – это, если хотите, гимн бюргерству и анафема низменной и бессовестной практичности, жестокости, политической демагогии, бесовству, истерии, революционному нигилизму – всему тому, что пугало Манна в современной истории. Вчитайтесь в тексты – и тотчас испарится миф о антибуржуазной направленности этого мудрого трактата молодого писателя:
Вдруг на собрании вскочил человек со шляпой на голове, с горящими пятнами на скулах, с дикими глазами, он начал говорить, уже на ступеньках лестницы… очевидно агент, вербовщик, охотник за голосами… пламенный патриот.
Чей образ привиделся тебе, мой читатель?
В Размышлении аполитичного Манн отрицает рационализм, просвещение, XVIII век, "прогресс", равенство, либерально-оптимистическое мировоззрение – все те восходящие к "чистой доске" "ценности" гуманизма, которые вылились в дикий антигуманизм тоталитарной эпохи. Но в целом это трактат о культуре, искусстве, духовных ценностях личности, сущности и назначении творчества.
Искусство является консервативной силой, самой большой из всех, оно сохраняет душевные возможности, которые без него, быть может, вымерли бы.
В известной мере Манн до конца остался "аполитичным": личность героя практически всегда существует вне исторического пространства и времени, социальная жизнь и исторические события почти не касаются его, связь между ними и судьбами персонажей практически отсутствует. Единственное свойство внешней реальности – угроза, катастрофичность. Как и у Музиля, все внешние линии сводятся к войне.
Наши затратили большие усилия, дабы доказать, что Т. Манн – свой, наш, что всё его творчество эволюционизировало от раннего ницшеанства к позднему гуманизму. Но Манн всегда славил бюргерскую эпоху, считая Гёте высшим ее выразителем. Манн никогда не принимал коммунизм, а один из последних своих докладов назвал "решительной и обоснованной отповедью коммунизму".
Наши исписали горы бумаги, идеологизируя Манна, приписывая ему атеизм и бунтарство. Но если он и был бунтарем, то боролся во имя прошлого, а не будущего. Манн не скрывал ни своего консерватизма, ни своего фидеизма. Главная стихия Волшебной горы – христианская. Лепя образ Нафты, "иронический немец" судил не христианство, а его иезуитские искажения. "Преступление времени" – слишком быстрый, опасно быстрый прогресс. Прогресс, уничтожающий святость. Если хотите, Ганс Кас-торп – христианская концепция жизни, христианский правдоискатель, чуть-чуть святой… Если хотите, – центральная проблема Томаса Манна (как и Джойса) – проблема греха и совести.
Да, проблематика Джойса и Манна – одна, потому что это проблематика человеческой сущности. И все попытки противопоставить их тенденциозны. При всем различии мироощущений, при несопоставимости стилистик, при разнице жизненных путей и личных пристрастий – их гораздо большее сближает, чем разделяет.
Г. Якоб не без оснований считал отношение Томаса Манна к жизни пессимистическим. Можно сказать больше: у раннего Манна есть вполне кафкианские произведения, да и самого Кафку можно поставить в один ряд с "художниками" Манна, прежде всего с Паоло Гофманом, жизнь и идеи которого кажутся списанными с творца Замка и Процесса – то же состояние духа, то же единоборство материнского и отцовского начал, то же стремление сохранить искусство нетронутым, неоскверненным, то же нежелание свернуть с избранного пути.
В Волшебной горе я обнаружил даже "литературный портрет" Ф. Кафки (и М. Пруста): "Человеку присуща болезнь, она-то и делает его человеком… в той мере, в какой он болен, он и человек… гений болезни неизмеримо выше гения здоровья". Кстати, "метафизический смысл" болезни, страдания – важнейший мотив, общее место модернистского романа XX века.
Я усматриваю в трагедии Леверкюна параллель с трагедией кафкианского Прометея из "четвертого сказания": героический энтузиазм, страсть, мука, обратившиеся в… усталость, забвение, обреченность…
Томас Манн был знаком с творчеством Серена Киркегора и находил в Страхе и трепете кафкианские мотивы. Он полагал, что его собственный Доктор Фаустус созвучен мыслям Датского Отшельника, который рассматривал Фауста неисправимым скептиком. "Чтение главы о Дон Жуане в работе Киркегора "Или или", с ее торжеством крайней субъективности, в конечном счете подготовило композитора Адриана Леверкюна к тому, чтобы воспринять болезненный разговор с самим собой как беседу с чертом".
Манна восхищала Похвала глупости Эразма, наследником которого в Волшебной горе выступает синьор Сеттемб-рини. Он изучал эпоху Эразма по И. Хёйзинге и даже планировал создать роман о нем и "галерею характеров эпохи Реформации". Видимо, он обнаруживал внутреннее сходство с Роттердамцем, некоторые качества которого (нерешительность, уклончивость, ироничность, скептицизм) находил в себе. "Ему всегда хотелось "больше радовать, чем ранить", и, принадлежа к "общечеловеческой партии", среди земных горестей и смуты он находил в себе "больше родства с Эразмом, чем с Гёте"".
Я полагаю, в последней фразе выражено настроение минуты: Гёте мощнейший источник иррадиации, сравнимый разве что с Ницше.
Всюду, где Т. Манн стремится к синтезу духа и природы, вольно или невольно он "связывается" с Гёте. Маннов-ское снятие полярной антитезы и стремление к гармонии фактически гётевский идеал, который он пытается реализовать в "Вильгельме Мейстере" и "Фаусте".
Бернгард Блюме справедливо отмечает: "Это новое понятие писателя требует, чтобы он соединил в себе дух и природу, и то значение, которое Гёте приобрел для Т. Манна, состоит прежде всего в том, что Гёте является величайшим примером осуществления подобного синтеза искусства и бюргерства, духа и природы".
Своеобразной перекличкой с Гёте является роман "Королевское высочество", хотя он и опубликован в 1909 году, окончательная мудрость романа, конкретно – финал этого произведения, перекликается с идейным содержанием "Фауста" и "Вильгельма Мейстера". О решительном повороте к Гёте свидетельствуют "Волшебная гора", роман-тетралогия "Иосиф и его братья", развернутый в некотором роде на фаустовских мотивах. Одним из примеров современной адаптации "Фауста" Гёте является "Доктор Фаустус", своеобразную адаптацию на "Поэзию и правду" Гёте представляет "Феликс Круль". А "Лотта в Веймаре" полностью посвящается проблеме Гёте, его рецепции и феномену Гёте.
В 1932 году Т. Манн заявил: "Да, я любил Гёте с юности, почему мне не сказать об этом здесь и сегодня, с той любовью, в которой было высочайшее перевоплощение симпатии, приятие собственного "я" в его перевоплощении, в совершенствовании и идеальности".
Как все великие модернисты, Манн был "человеком мира", прежде всего в том смысле, что блестяще владел всем "корпусом" мировой культуры, изучал творчество многих ее деятелей.
В своих эссе и докладах (речах, выступлениях и т. д.) Т. Манн рассматривает такие литературные памятники и писателей средних веков, как "Муспилли", "Песнь о Нибелун-гах", "Песнь о Роланде", Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах, Готфрид Штрасбургский, Вальтер фон дер Фогел-вейде, Фрауэнлоб. Рассуждает о таких представителях эпохи Возрождения, как Эразм Роттердамский, Ульрих Гуттен, Меланхтон; характеризует мейстерзингера XVI века Ганса Сакса, народную книгу этого же столетия – "История доктора Иоганна Фауста", писателя XVII века Гриммельсхаузена; писателей XVIII века: Готшеда, Эвальда фон Клейста, Клопштока, Мюзеуса, Бюргера, Виланда, Гердера, Хельти; авторов XVIII–XIX веков Коцебу, Гёльдерлина, Жан-Поля, Юнг-Штиллинга; романтиков: Фр. и А. В. Шлегелей, Новали-са, Людвига Тика, Фуке, Адама Мюллера, Вакенродера, Ахима, Арнима, Брентано, Ейхендорфа, Гёрреса, братьев Гримм, Гофмана, Людвига Уланда, Юстинуса Кернера, поэта XIX века Эдуарда Мёрике; а также других известных и менее известных писателей этого столетия: Георга Бюхнера, Э. М. Арн-дта, Грильпарцера, Кристиана Фридриха Геббеля, И. Готтгельфа, Берне, Гейбеля, Иммермана, Карла Гуцкова, Пауля Гейзе, Георга Гервега.
Не только романы, но и эссеистика Манна во многом автобиографична: в облике великих деятелей культуры он неизменно подчеркивает человеческие качества, которыми обладает сам. Говоря о самоидентификации писателя с героями его творений и предшественниками, нельзя пройти мимо фигуры Лютера. Хотя в одном из писем он называет себя больше Эразмом, чем Лютером, по свидетельству Ленерта, можно назвать "тайным автопортретом" все, что Манн написал о Лютере.
И в литературной критике, и в художественных произведениях Томас Манн широко пользовался методом скрытого цитирования, "монтажа", порой коллажа. Мне представляется, что это относится к числу крупных достоинств его прозы и "придает ей многоаспектность, "объемность". Хотя дело нередко доходило до обвинений в плагиате, великий писатель отличается от малого прежде всего тем, что отказывается от притязаний сказать всё самому. Может быть, кому-то и по душе индивидуальность, "не запятнанная" влияниями, но мне представляется, что именно из них соткана вся великая литература, да и творчество вообще. Возможно, высшая задача писателя заключается именно в том, чтобы всем "дать слово", чтобы сквозь ажурную ткань текста просвечивали лица великих творцов культуры.
Кстати, сам Манн и не пытался скрывать заимствований, видя в них специфику своего творческого метода, собственную "укорененность" в немецкой традиции, плоды "наставничества" совокупной мировой литературы, след Шекспира в собственном творчестве.
Защищая в очень ранней статье, получившей широкую известность – "Бильзе и я" (1906 г.), свое право использовать сведения, факты, события, непосредственно взятые из жизни, – то, что применительно к поздним романам Т. Манна, особенно к "Доктору Фаустусу", – будет постоянно именоваться "монтажом", – Т. Манн поднимает вопрос о месте изобретательства, выдумки в мировой литературе.
Оперируя именами Тургенева, Шиллера, Вагнера, Т. Манн пытается обосновать право писателя черпать материал для своих произведений как из реальной жизни, так и из книг, статей, хроник и т. д. В качестве главного аргумента привлекается "самое необычайное явление во всей истории поэтического творчества – Шекспир", который, обладая "всем на свете", обладал и даром изобретательства, но предпочитал находить, а не изобретать, "смиряться перед данным", как говорит Т. Манн, так как для поэта "конкретный материал, маскарад сюжета – ничто, а душа, одухотворение – всё". Легко заметить, что уже в этом первом высказывании Т. Манн открывает и подчеркивает в Шекспире то, что созвучно его собственным тогдашним мыслям и – что важно – его творческой манере.
НЕСХОДСТВО МЕЖДУ НИМИ – ВНЕШНЕЕИстория – это то, что произошло и что продолжает происходить во времени. А тем самым она является напластованием над почвой, на которой мы стоим.
Т. Манн
Генри Миллер как-то сказал, что Томас Манн – только уверенный ремесленник, ломовая лошадь, тянущая повозку с неистовым старанием. В этих словах подвижничество и эрудиция великого немца умаляются его старомодностью, консерватизмом, устарелостью. Справедлив ли упрек? Действительно ли – последний из могикан? При всей воле к ценностям гуманизма, при всех попытках «удержаться в рамках традиции», Манн – мост, промежуточное звено между иллюзиями прошлых веков и безнадежностью агонизирующего, апокалиптического времени мировых войн и концентрационных лагерей. Как всякий нормальный человек, он не мог принять надвигающийся апокалипсис, строя внутреннюю защиту по правилам Лоренцо Баллы, Дидро или Канта. Но Шопенгауэр и Ницше уже мощно вторглись в его жизнь – я уж не говорю о реалиях нацизма и тоталитаризма…
Я бы не стал упрекать великого писателя в художественном синтезе: трудно, почти невозможно поддерживать высочайший уровень интеллектуализма "собственным умом". Большинство гениев не притязало на право всё сказать самим: "Нет мысли маломальской, которой бы не знали до тебя", – восклицает Мефистофель. Серьезная литературная работа немыслима без штудий, без работы с мировой литературой. Сам Томас Манн утверждал, что "величайшие поэты никогда в жизни не сочиняли, они лишь заполняли и воплощали заново силой своей души дошедшее до них" – за примерами ходить недалеко: Шекспир, Мильтон, Гёте, Пушкин… Технику эпического монтажа, коллажа широко использовали Достоевский, Джойс, Йитс, Дёблин, большинство авторов современного интеллектуального романа. Конечно, Манн – мастер мозаики, но, прежде всего, – виртуоз слова, придающий партитуре необыкновенное, неповторимое звучание.
Выйдя из декаданса, из его хронистов и аналитиков, влекомый постоянной жаждой нового, Манн нес в своем сердце освободительную волю к самоотречению – но при всем своем стремлении превзойти самого себя добиться этого так и не смог.
Манн по-джойсовски неисторичен, доказательство этому – Иосиф. Перенесение действия романа в глубь времен свидетельствует не о вере в социальный прогресс, а о безвременности прогресса, во все времена реализующегося через великих одиночек. Другое дело, Манн верит, что личности всегда были и всегда есть и что лишь с ними связана надежда превозмочь жвачность массы, а у Джойса нет и этой ненадежной веры-соломинки. Впрочем, в христоподобном Иосифе Манн отдает должное и юнгианскому началу – обширному коллективно-бессознательному, развертывающемуся в Иосифе так же, как и в его братьях. Колодец, помимо, прочего, – еще и подсознание, где человек встречается со смертью, он же – и ожидающая его вечность, и память, сохраняющая прохождение через смерть.
Пытаясь противопоставить джойсовской бессмысленности истории ее манновскую осмысленность, раскрывающуюся в культуре, мы упрощаем Манна, пытаемся вычленить из его плюрализма выгоду для себя. Сам Манн видит в богоискательстве (обожествлении человека или очеловечивании Бога) выделение "я" из "мы". Иосиф отличается от братьев индивидуализмом, личностностью, внутренней свободой, и сам факт, что он уже обладает этими качествами, а современная фашизированная масса – нет, говорит не о торжестве человека, а об опасности, миной заложенной под культуру. Культура, смысл культуры – не прогресс, а извечная повторяемость Иосифов, с одной стороны, и "братства" – с другой. Дабы на сей счет не было превратного мнения, Манн многократно подчеркивает повторяемость истории: Каин – Авель, Исаак Измаил, Исав – Иаков, братья – Иосиф, история Авраама и Сарры – Исаака и Ревекки, повторение Иосифом истории Иакова и т. д. до бесконечности. Как и у Джойса, у Манна все то же вращение мира: "и они бывают отцом и сыном, и эти два несходных, красный и благословенный; и сын оскопляет отца или отец закалывает сына. Но иной раз они бывают братьями, как Сет и Усир, как Сим и Хам, и случится, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти две пары: с одной стороны, пару "отец – сын", а с другой стороны пару "брат-брат". Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Исааком. Для первого он сын с серпом, для второго – красный брат".
Можно лицемерить и лгать в поисках отличий между дурной бесконечностью истории и вечным обновлением, но правда в том, что для обоих творцов Джойса и Манна – история суть и вечная сущность, и типическое обобщение. Недаром манновский символ истории, Елиезер, отождествляет себя с другим Елиезером – слугой Авраама и со всеми другими Елиезерами – слугами предков Иосифа. В "Елиезере вообще", говорит Манн, мифическое переходит в типическое (это явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности). Лунная грамматика – не что иное, как иррациональная, темная, мистическая стихия неизменности, проступающая сквозь тонкий флер кажущихся изменений…
Так в чем Джойс отличается от Манна?
Сравниваясь с Джойсом и Пикассо, Томас Манн считал себя плоским традиционалистом. Пауль Вест противопоставлял Манна и Джойса в духе Ницше:
Если Рабле, Пушкин и, скажем, Джойс дионисийские писатели, с внезапным приступом духовной и словотворческой энергии, то в отношении Томаса Манна, Джеймса и Пруста у нас создается впечатление, будто они всегда пишут по плану, всегда подчиняют момент вдохновения холодному разуму; одним словом, они аполлоновские писатели.
Поглощая книги о Джойсе, сравнивая его с собой, Манн проводит водораздел – уже по музыкальным пристрастиям. Джойса он ставит рядом с Шёнбергом: "С точки зрения классически-реалистического ума Джойс представляет собой тот же протест, что и Шёнберг и иже с ними". Р. Эгри предпринял оригинальную попытку уподобления самого Джойса Адриану Леверкюну. В таком сопоставлении также сказывается разделение Джойса и Манна по уже упомянутой линии Дионис – Аполлон.
Конечно, можно, как Брох, усомниться в мифологичности манновского Иакова или джойсовского Блума, ибо они – не фигуры утешения и не символы религии. Но почему Брох усомнился? Он усомнился потому, что связывал миф с позитивной верой: чтобы создать миф, необходимо остановить распад ценностей мира и сосредоточить ценности вокруг веры. Но разве это исчерпывает миф? Кстати, неверие – тоже вера и часто не менее плодоносящая и творческая: скажем, неверие в человека, творящее его.
Сам Манн усматривал близость к Джойсу в ироничности, опоре на пародию. Персонажи Джойса и Манна лишены одномерности, присущей героям наших "инженеров человеческих душ", как все его творчество – того духа противостояния и ниспровержения, который приписывают ему наши служивые. Может ли быть плодотворной и производительной критика художника, основанная на выдергивании из брюссельских кружевов, сплетенных из многочисленных нитей влияний, духовного наследия немецких романтиков, Шопенгауэра, Ницше, Киркегора и т. д.?
Томасу Манну принадлежит замечательная мысль, гневно отвергающая "раскаянье" душителей и фальсификаторов немецкой культуры: "В моих глазах книги, напечатанные в Германии с 1933 года до 1945, хуже, чем просто бессмысленные, их невозможно взять в руки, они источают запах крови и позора". Но те, по крайней мере, раскаялись, а эти?..
Мы тужимся сделать из Манна плоского реалиста в духе Драйзера, но всё в нем, почти всё, вплоть до наиреальнейшей Шарлотты Кестнер, есть травести мифического прототипа. Даже в жизнь реального Гёте он вносил мифологический элемент. Но не в мифологизации дело: его мировоззрение, его пристрастие к философии жизни и к иронии, его многозначность, виртуозная техника, зашифрованность, глубина – всё ставит Иосифа рядом с Улиссом, Ганса Касторпа рядом с Дедалом и Волшебную гору – с модернистским Утраченным временем пусть не Джойса, но Пруста.
Кстати, у Кафки тоже была своя "волшебная гора" – в жизни: в татранских Матлиарах, где лечился от туберкулеза, он оказался погруженным в ту же атмосферу, что и Ганс Касторп.
По словам Р. Фаези, Волшебная гора – новая "Одиссея", со своими Сциллой и Харибдой, со своей Цирцеей в лице Клавдии Шоша, с нисхождением в "царство мертвых, это "Одиссея" духовных, а не географических приключений, странствие в мире философии и этики, странствие без цели, ибо духовные блуждания вечны. Потому-то Ганс Касторп (и автор) не стремятся к окончательному пристанищу, не хотят "попасть домой".
У Джойса и Манна романные сюжеты – лишь декорации виртуозного психологизма, "мысли и анализа", "странствий духа" в метафизическом мире. Философская насыщенность мысли, афористичность, художественность потоков сознания, столкновение идей, высокая степень духовного накала, обилие культурных реминисценций, перспективизм, тончайшая ироничность – все это сближает романы-притчи двух идущих своими путями мифотворцев XX века.
Как и Джойс, Томас Манн не приемлет натурализма, объективизма и рационализма, чуждых эстетике Гёте:
Глаза мои, всюду,
Расширив зрачки,
Вы видели чудо,
Всему вопреки.
«Объективные», «абсолютные» истины статичны, в них нет будущего. Истины не «объективны», а человечны. Но, снова-таки, в духе Гёте, надо чем-то быть, чтобы что-либо создать. Внутренняя мощь гения – единственный эстетический и ценностный критерий, ибо, опять по Гёте, природа каждому является в его собственном обличий.
Познавать, считал Томас Манн, значит, подчинять наблюдения идее, всецело завладевшей художником. Познание – творчество, личная перспектива, самоанализ, самовыражение, обновление, переоценка, неисчерпаемость средств и форм…
Он и сам чувствовал свою пограничность и называл себя одним из завершающих: "Таков мой традиционализм, который сочетается с экспериментированием, – в этом, видимо, есть нечто, характерное для нашей переходной эпохи".
А разве вся атмосфера Волшебной горы – не немилосердный дух распада с остановившимся временем?
Это была жизнь без времени, жизнь без забот и без надежд, загнивающее… распутство, словом, – мертвая жизнь.
Волшебная гора имеет даже свою Вальпургиеву – карнавальную – ночь, этот Хоровод живых мертвецов и символов одновременно. Да, Ганса Касторпа, искусственным образом изолированного от жизни равнины, окружают не просто живые люди, а символы и не просто символы, а его собственные ино-лики, ведущие борьбу за его душу. Чем не Дедалус?
Джойса и Манна объединяет очень многое. – Автобиографичность: все их герои – частички их личности, их внутренние противоречия, переживания, страсти, страхи, сомнения. Буденнбро-ки, Тонио Крёгер, Королевское высочество, У пророка так же насыщены фактами жизни Манна, как Портрет или Улисс – Джойса. Оба почти всегда пишут историю своей семьи, своей родины и у обоих автобиографический пафос обращается в пафос человеческий. Оба в своих этически-исповедальных книгах судят не других, но преже всего – самих себя, будь то проявления животной разнузданности Дедала или бессильный гуманизм Цейтблома.
То же преодоление – у Джойса: идеалов ирландского национализма и католицизма, у Манна: наследия философии жизни. – Преодоление, имевшее не меньшее значение, чем сами эти влияния.
То же неразрывное сочетание мифического с философским, так что Улисс и Иосиф – это целые философские системы, опирающиеся не только на древнюю культуру или историю религии, но и на наисовременнейшую философию и науку, вплоть до аналитической психологии.
Та же асоциальность, роднящая новую, творческую мифологию с искренностью старой – от наивной архаики Гильгамеша до рыцарской антиидеологичности Парцифаля.
То же одухотворение материального, сближение божественного и природного, тот же христианско-гётеанский пантеизм, придающий вере и неверию человечность и теплоту жизни.