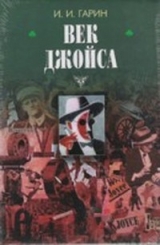
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 64 страниц)
Музиля особенно привлекают идеи Ницше переоценки ценностей и этического творчества (имморализма), а также эмерсо-новская мысль "доверия к себе" способности слышать "голос собственной души", или, по Хайдеггеру, "голос бытия".
У Эмерсона и Ницше Музиль позаимствовал критику культуры и идею безусловного превосходства мыслящей личности над толпой, социальной структурой:
Большинство людей придумали ту или иную повязку себе на глаза и накрепко привязали себя к какой-нибудь группе, придерживающейся только одной точки зрения… Я призываю всех подняться против прилизанной посредственности и отвратительного довольства своей эпохой.
К Ницше же восходит музилевское понимание философии как бесконечного множества духовных экспериментов, обнаруживающих необозримое поле возможных интерпретаций мира.
Как и Йитс, Музиль – вопреки рациональному складу ума – тяготел к мистическому постижению мира и в этом отношении находился под влиянием Якоба Бёме и Сведенборга. Сам Музиль признавался, что его не интересует реальное объяснение события: "Меня интересует духовно-архетипическая, если угодно, призрачная сторона бытия". Взятый у Метерлинка эпиграф к первому роману свидетельствует о внутренней тяге к таинству, сокрытому во мраке, и неспособности языка выразить глубинное в жизни:
…все, выраженное в словах, странным образом утрачивает свою значительность. Нам кажется, что мы достигли дна пучины, но едва мы всплываем на поверхность, как видим, что капля воды, сверкающая на конце наших бледных пальцев, не напоминает более моря, откуда она взята. Мы думаем, что открыли грот, полный драгоценных каменьев, но когда мы достигаем света, в наших руках оказываются только фальшивые камни и куски стекла, а между тем сокровище неизменно сверкает во мраке.
Подобно Э. Маху, Р. Музиль в попытке понять структуру человеческой личности интересуется соотношением внешнего и внутреннего мира человека, многообразием взаимосвязей человеческой психики и "всего сущего".
Влияние Маха наиболее ощутимо в новеллах сборника Соединения (Искушение тихой Вероники и Совершенство любви), над которым писатель, по его словам, работал более двух лет "дни и ночи напролет" (1909–1911 гг.).
В своеобразном художественном эксперименте Музиль пытался практически полностью снять разграничение между внешним и внутренним миром, свести повествование к детальному изображению "чистого" сознания, воспринимающего и отражающего не столько объективную действительность, сколько процессы человеческой психики.
"Соединения" тематически примыкают к миниатюрам Петера Альтенберга из его книги "Сказка жизни" (1908). Музиль доводит принцип "Verinnerlichung" ("погружения внутрь"), свойственный импрессионистской литературе, до абсолюта, до его логического предела. Социальная действительность полностью исчезает из поля зрения повествователя, уступая место психологическому эксперименту, осуществляемому с почти научной строгостью и точностью анализу в общем-то банальных ситуаций и переживаний.
Молодого Музиля очень угнетало неприятие, отсутствие откликов на его литературные эксперименты. До самой смерти он так и остался "невидимкой", успевшим, однако, осознать, что "новое слово" требует "нового времени", современники же глухи к нему…
Музиля всегда волновала тема читательского восприятия и – шире взаимодействия сознаний читателя и писателя, учеников и учителей, новых и старых идей. Говоря о влияниях, он пишет о "превосходстве юности, для которой величайшие умы как раз на то и пригодны, чтобы пользоваться ими по своему усмотрению": "Чем значительнее ученик, тем меньше он похож на своего учителя".
Трудно до конца понять Роберта Музиля вне связи с австрийским менталитетом и культурой страны, давшей миру почти одновременно с ним таких крупных писателей, мыслителей и поэтов, как Ф. Грильпарцер, Ф. Верфель, Ф. Кафка, Й. Рот, Г. Брох, С. Цвейг, П. Хандке, Р. Шаукаль, А. Вильдганс, Т. Бернхард, 3. Фрейд, К. Лоренц, Ф. Брентано, А. фон Мейнонг, X. фон Эрен-фельс, Э. Мах, О. Вейнингер, Л. Витгенштейн, М. Шлик, М. Бу-бер, Ф. Эбнер, О. Шпанн, К. Поппер, П. Фейерабенд. Трудно привести другой пример страны с таким всплеском интеллектуальной энергии в столь короткое время, столь не вяжущимся с определением Австро-Венгерской империи как "европейского заповедника благопристойного разложения (возвышенного упадка)".
Характерный для австрийского менталитета усложненный подход к действительности, своеобразно дифференцированное чувство реальности, благодаря которому в Австрии главным образом в XIX веке научились элиминировать конфликты (в том числе и политические), просто не замечая их, – всему этому можно найти сколь угодно много примеров, причем не только в области философии. Присущая австрийцу странная двойственность в восприятии действительности, колебание между видимостью и реальностью, с наибольшей остротой проявившееся в духовной атмосфере венского "fin de siecle" *, доверчивость к бытию в соседстве с недоверчивостью к объективной действительности, – всё это породило климат, не только благотворный для формирования множества (в том числе и взимоисключающих) философских позиций, но и позволяющий зримой, осязаемой реальности таять в призрачной игре возможностей. Обостренное восприятие возможностей, о котором, к примеру, пишет Музиль, нюансировано в Австрии гораздо в большей мере, чем чувство реальности.
Призрачность земной действительности переплетается с ее грубо вещественной данностью настолько, что имманентность незаметно перетекает в трансцендентность и обратно, давая возможность выбирать по вкусу либо ту, либо другую, так что, по слову Германа Бара, поэта, творившего на рубеже веков, сущность "австрийскости" красноречиво включает в себя возможность "наслаждаться в воздержании, роскошествовать в аскетизме и благочестиво творить зло".
Роберт Музиль подвел иронический итог этой традиции, следующим образом резюмировав сосуществование универсалистских течений и аналитического, логико-лингвистического процесса: "Один склад ума удовлетворяется тем, что стремится к точности и придерживается фактов; другой не удовлетворяется этим, а охватывает всегда всё и выводит свое знание из так называемых вечных и великих истин. Один выигрывает при этом в успехе, а другой в широте и достоинстве. Пессимист мог бы, разумеется сказать, что результаты одного ничего не стоят, а результаты другого не в ладу с истиной".
ЖИТЬ ПОЗИТИВНОДумаю, мало найдется людей, пребывающих в состоянии такой же, как и я, неустроенности, если, конечно, не считать самоубийц, участи которых мне вряд ли удастся избежать.
Р. Музиль
Даже в наше трагическое тоталитарно-апокалиптическое время мне посчастливилось встречать творцов, принципиально непродающихся. Они предпочли смерть, нищету, страдания успеху.
* Конец столетия (франц.).
Нет большего осквернения духа, нежели торговля божьим даром. Проституция благородна по сравнению с этим. Когда же продаются национальные дарования, к тому же маскируясь искренностью, оправдания этому нет. Это самое тяжелое преступление перед нацией…
Творчество плохо кормило Музиля, как почти всегда случается с неангажированными художниками. И как художник, который не продается, он отказался от карьеры, чтобы даже ею не связывать себя. Надо его знать, чтобы оценить, легко ли ему далось это. И тем не менее… Всё больше углубляясь в Человека без свойств, он забыл свои собственные свойства, всё реже отвлекаясь заботами о хлебе насущном.
Но ведь презрение к славе парадоксальным (а на самом деле вполне естественным) образом уживалось в нем с честолюбием и удивлением по поводу громкого успеха менее значительных, но более признанных собратьев по перу, точно так же, как сомнение в собственном таланте – с ощущением равенства со звездами первой величины. Его всегда волновали подводные течения, ведущие к публичному успеху, он даже намеревался исследовать секреты восхождения одних и отвержения других. Это извечная тема: как самые талантливые становятся изгоями, а пройдохи, владеющие локтями куда лучше, чем кистью или пером, решают-рушат их судьбы.
Зависть к другим писателям! Ты всеми покинут, твое оружие в обломках, ты слышишь приветственные клики и музыку, сопровождающие триумфальную колесницу любимца фортуны, – разве это не трагическая ситуация?
Мне не суждено стать писателем в Австрии… Ни одна из австрийских земель не притязает на меня.
А почему, собственно, не притязает? Потому что они слишком провинциальны, чтобы знать обо мне, и нет никакого сородича, который бы подсказал и помог. Но разве не отказались меня принять также и в Немецкую Академию искусств? Когда, как я слышал, незначительное меньшинство предложило мою кандидатуру, большинство отклонило ее с поистине космическим обоснованием: что для подлинного художника я-де слишком интеллектуален.
Есть, видимо, что-то такое во мне и в моей жизни, что оказывает здесь влияние. "Человек, застегнутый на все пуговицы…"! Но можно ли сотрудничать с этими людьми?!
И в то же время тех, кто проявляет ко мне дружелюбие, я мерю вовсе не такой строгой меркой, как чужаков! Тут меня отличает непоследовательность, в которой надо еще разобраться.
И все-таки я питаю совершенно наивное убеждение, что поэт представляет собой высшую цель человечества; причем ко всему к этому я еще и хотел бы быть великим поэтом! Какое тщательно от самого себя запрятанное себялюбие!
Я столь же известен, сколь и неизвестен; но в результате получается не "наполовину известен", а какая-то странная смесь.
Он трудно писал и чем дальше – тем труднее. Его требовательность к себе нарастала вместе с мастерством, его задачи были непомерны, а силы слабы. Он мало публиковал. Как и Джойса, его терзали сомнения в правильности выбранного пути, как и Джойс, он не сошел с него…
Как и все скептики, Музиль не шел на поводу у слащавости и благостности, когда речь заходила о человеке. В то время, когда в прекраснодушной наивности Франк и Верфель твердили: "Человек добр!" – он писал: человек – это нечто бесформенное, безмерно пластичное, на всё способное. И, похоже, станет еще хуже…
Эмигрировав, Музиль в полную меру испытал всё то, о чем писал в Человеке без свойств. К острой нужде присоединилось мучительное отчаяние полного духовного одиночества и невозможности реализации замыслов. Новые планы разбивались об острые утесы открытых им же жизненных реалий.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВЗаблуждаясь, идем ли мы вперед?
Один из схолархов современности сказал о нем: "Среди живущих немецких писателей нет никого, в чьей посмертной славе я был бы так уверен".
Его книги не покупали и не читали; наверное, никогда не будут покупать и читать – за исключением все той же тысячи или нескольких тысяч человек.
– Шестнадцатилетний подросток, сказал я, это всего лишь трюк. Сравнительно простой и потому податливый материал для воплощения тех механизмов душевной жизни, которые во взрослом человеке осложнены слишком многими наслоениями, здесь исключенными. Состояние повышенной раздражительности. Но изображение незрелой души вовсе не есть проблема сама по себе – это только средство для воплощения или хотя бы нащупывания того, что именно не вызрело в этой незрелости.
Уже в Смятении воспитанника Тёрлеса мы находим всю цивилизацию: варварство, тотальную деградацию, жестокость, утрату цельности мира, человеческое одиночество, заброшенность, страх. Воспитанник закрытой школы растревожен проблемами изоляции, униженности, дикости, сексуальности. Ученики-садисты организовали тайную камеру ужасов. Их цель – травить, подавлять одного с помощью другого, наслаждаться слабостью и мольбами жертв, упиваться властью. Изолированный слабый человек перед ужасом внешнего мира. Внешне всё добропорядочно и благостно, но Музиль уже видит призрак концентрационных лагерей в душах людей.
Если Райтинг – мелкий разгулявшийся тиран, то Вайне-берг – теоретик, обоснующий собственный садизм мистической жертвенностью, бесстрастно философствующий о том, что для "чудесного механизма" вселенной единичный житель Земли все равно ничего не значит. Зверство в облатке мифологизирующей "возвышенности" распознано молодым писателем задолго до возникновения фашизма. Райтинги и Вайнеберги, запишет Музиль через десятилетия, сегодняшние диктаторы в зародыше.
Тёрлес – это терзание юноши, столкнувшегося с иррациональностью жизни, осознание крушения иллюзий Просвещения, еще один "портрет художника в юности", созревание души творца во враждебном, безжалостном мире, где верховодят Райтинги и Вайнеберги. Как и Джойс, Музиль-Тёрлес изображает реакцию духовной личности на иррациональный мир-молох, подобный сумасшедшему дому*.
* Джойса сближает с Музилем ироническое отношение к себе и к миру. Мысль Музиля: "так изобразить любого шута и простака, чтобы автор неожиданно почувствовал: это ведь отчасти и я сам", – вполне джойсовская!
Юному воспитаннику кажется, что тут он нащупал разрыв в причинной связи, нечто из области небытия или бесконечности, отвечающее его представлению о ненадежной жизни. Ничто теперь не прочно, всюду зияет пустота… Тщетно ищет он "разгадки всех загадок" в философской системе Иммануила Канта и решается стать "другим"; анализирует, неутомимо пытаясь понять природу смертного: результат – растерянность. Убежав из интерната, он еще раз описывает волнующую ситуацию: "Во мне есть что-то темное, скрытое за мыслями, что-то, чего нельзя измерить мыслями, жизнь, которую не выразить словами, и все же это моя жизнь". Вызывает восхищение интеллектуальный уровень романа, который выходит за рамки "проблемы возмужания". С большим искусством Роберт Музиль (которому в пору написания этой книги было всего двадцать три года) описывает духовное приключение, где внешние события играют незначительную роль.
Эта блестящая книга, смело совмещающая в себе исследование, слава богу, не роман: не роман в том смысле, в каком Гёте сказал, что всё в своем роде законченное по необходимости должно выбиваться из своего рода и становиться чем-то ни на что не похожим.
В Тёрлесе мы уже обнаруживаем свойственную зрелому писателю философичность, облеченную в форму вкраплений-эссе, вмонтированных в ткань художественного произведения. Наиболее отчетливо просматриваются "следы эмпириокритицизма": сказывается влияние Эрнста Маха, анализ философии которого Музиль предпримет в диссертации, представленной к защите в 1908 году. Впрочем, уже пятью годами раньше, в период работы над Тёрлесом, Музиль формулирует идеи философии истины, созвучные современной эпистемологии:
Мысль… становится живой лишь в тот момент, когда к ней добавляется что-то, не относящееся к мышлению, к логике, и тогда мы ощущаем ее истинность по ту сторону всяческих оправданий.
Есть истины, но истина не существует. Я вполне могу высказать два абсолютно противоположных друг другу суждения и быть в обоих случаях правым…
Наверное, можно согласиться с мнением, согласно которому идейно-философское самоопределение писателя во многом определилось махизмом.
Г. Арвон:
Представленная в 1908 году к защите диссертация удостоверяет, так сказать, твердое намерение ее автора окончательно разобраться в себе самом и создавать свои литературные произведения, руководствуясь определенными принципами, которые он выводит с помощью Маха и, прежде всего, споря с ним.
Музиль-философ и культуролог, предвосхищая Поппера и Фейерабенда, не приемлет систем-идеологий, сковывающих жизнь и культуру (в частности Закат Европы Шпенгле-ра), – он сам называет это "революцией души против порядка", "периодическим крахом любых идеологий": "Они постоянно находятся в искаженном отношении к жизни, и жизнь с помощью повторяющихся кризисов избавляется от них, как растущий моллюск избавляется от ставшего ему тесным панциря".
Эволюция духа – отмирание и рождение новых идей, цель творца "открывать все новые решения, взаимосвязи, сочетания, переменные величины, формировать модели протекания событий, изобретать привлекательные образы возможного человеческого бытия, изобретать внутреннего человека!".
Музилю близки бергсоновские идеи приоритета интуиции как способа глубинного "схватывания" сущностей, "динамической морали", подвижности истины, нерациоидного познания "причин и тайных механизмов" человеческого существования.
Роман вообще, роман идей особенно, – это всегда высказывание автора о мире, авторское видение человеческого существования в нем. В очередной раз не вникая в проблему героя и автора, alter ego писателя, не могу не повторить, что большой роман – это большая душа пишущего, его рефлексия, его переживание бытия. Человек – это всегда мир, роман – это мир автора-человека, мир его образов и идей. Даже "многосубъектность", присущая интеллектуальному роману, попытка изобразить ситуацию с позиции нескольких, не совпадающих друг с другом сознаний, – только способ умножения собственного, авторского, разные измерения его.
Уже в первых "пробах пера" Музиль стремится, главным образом, к изображению внутреннего космоса человеческой души, скрупулезному анализу внутреннего мира, фиксации психологических импрессий. Кредо молодого писателя сформулировано с предельной ясностью: "быть ученым, который помещает свой внутренний организм под микроскоп и радуется, находя что-нибудь новое".
Поиск нового в равной мере относится к предмету изображения и к стилю произведения, ибо "старая наивная манера повествования уже не соответствует современному развитию интеллекта".
Der Mann ohne Eige nschafte n, Человек без свойств, эта неоконченная гигантская эпопея странствий души, новая Человеческая комедия, – куда глубже той темы, которую мы ей навязываем – упадка империи Габсбургов; скорее это художественно-философский Закат Европы, Закат Мира. (Эта гротескная Австрия-Какания * – особенно яркий образец современного мира). В распаде Какании, в ее пассивности, в страхе перед зарождающимся новым Музиль – через грядущий фашизм – разгадал причины заката: судорожное цепляние за отжившее, за труп.
* В самом этом ироническом термине обыгрывается сокращение k.-k. (kaiserlich-kuniglich) – "императорско-королевский", официальное обозначение, принятое в Австро-Венгерской империи.
Из отсутствия будущего вырастают ужасы настоящего: скепсис, ирония, утилитаризм, крайний эгоизм. Каждый замыкается в себе и гребет под себя, начинается пир во время чумы. Человеку без свойств остается только боль.
Это книга о нас…
Ульрих, человек без свойств – трагедия неудачника-одиночки, противостоящего всему миру и не способного ничего изменить. В этом мире происходит обезличивание людей, распад индивидуальности, апокалиптический рост милитаризма и бюрократии – и всему этому каждый вынужден ставить заслон лишь в форме собственного "я". Музиль остро ощущал безвыходность грядущего человека: либо стать соучастником, либо – неврастеником. Вот почему Ульрих и сам автор предпочитали подлости мира пассивность и одиночество.
Писавшийся четверть века Человек без свойств – духовное освоение мира, раздумье о жизни, ее истолкование, гигантское философское эссе, ставящее под сомнение простоту, взаимную обусловленность, причинность мира, самое время. Связь вещей – только поверхностный, наивный, искусственный срез бытия, бесконечно упрощающий бесконечную сложность существования.
Ему пришла в голову одна из тех, казалось бы, отвлеченных и несуразных мыслей, которые часто вдруг становились для него жизненно важными: он подумал, что порядок, которого жаждет в этой жизни обремененный, тянущийся к ясности человек, – не что иное, как порядок повествовательного искусства! Несложного искусства, которое заключается в том, чтобы сказать: "После того, как это произошло, случилось то-то". Это – простая последовательность, отражение подавляющего многообразия жизни в успокаивающей одно линейности, как сказал бы математик, нанизывание всего того, что произошло во времени и в пространстве, на одну нить, на ту самую пресловутую "нить рассказа", которая является также и жизненной нитью. Счастлив тот, кто может сказать "когда", "прежде чем" и "после"! Пусть даже с ним случилось недоброе, пусть даже довелось ему корчиться в муках; как только ему удается воссоздать события в их временной последовательности, он начинает чувствовать себя вольготно, словно солнце согревает ему живот.
Большинство людей – рассказчики по отношению к самим себе. Они не любят лирики, а если в нить их жизни вплетается хоть немного "потому" и "в силу того", то они отбрасывают всякие размышления, выходящие за пределы этих слов; они любят естественную последовательность событий, потому что она похожа на необходимость, и чувствуют себя защищенными от хаоса, если им кажется, что их жизнь подчиняется определенному течению. И Ульрих заметил, что он утратил это первозданное эпическое сознание, которого люди еще придерживаются в своей частной жизни, в то время как в жизни общественной все уже предельно отдалилось от повествовательного искусства и не следует определенной "нити", а расползается по лабиринту бескрайней поверхности.
Музиль был декадентом: не занимающим определенной позиции, не принимающим чью-то сторону, не знающим, куда его приведет собственная мысль, больше вопрошающим, нежели дающим ответы, больше устрашающимся, чем страшащим других. У декадента не возникает вопросов, чему он служит и для чего извлекает на свет. Это не безответственность – он изображает то, что ему открылось.
Всем моим произведениям не хватает одного – умения, когда я что-то закончил, спросить: для чего я всё это извлек на свет? Чего я хочу?.. Я не занимаю определенной позиции, я не знаю, куда приду, куда приведет меня мысль?
Можно сказать, что там, где, вроде бы, полагалось искать решения, проза Музиля предлагает всегда только гипотезы.
Да: разобщенность, отчуждение, одиночество, невмешательство… "Обычное отношение индивидуума к такой огромной организации, как государство, – это невмешательство".
И еще: пропасть, разверзающаяся между индивидом и миром.
Для современного человека, который играючи пересекает океаны и континенты, нет ничего более невозможного, чем найти дорогу к людям, живущим за углом…
А отсюда – безразличие, равнодушие, жестокость.
Внутренняя пустота, невероятное смешение чуткости к частным и равнодушия к общим вопросам, потрясающее одиночество человека в пустыне частностей, его тревога, злоба, беспримерный сердечный холод, жадность к деньгам, равнодушие и жестокость, отличающие наше время…
Только ли наше?
Экзистенциальное чувство одиночества и абсурда зрело давно – бездны Паскаля, откровения Гамана, Якоби, Киркегора, жизне-чувствование Эдгара По, Клейста, Бодлера, затем – мир Достоевского… Что это было? Постепенное прозрение? Или предчувствие апокалипсиса такой цивилизации? Или боль? Или неврастения?
Интересная тенденция: чем нас больше, тем более мы чужды друг другу. Мегаполисы как утрачиваемая человечность. А, может, просто мы стали честнее? не закрываем глаза на то, что существовало во все времена?
Жизнь, которая нас окружает, лишена понятия системы. Факты прошлого, факты отдельных наук, жизненные факты захлестывают нас самым беспорядочным образом. Это какой-то вавилонский сумасшедший дом; из тысячи окон к путнику одновременно обращаются тысячи разных голосов, мыслей, мелодий, и естественно, что человек делается игралищем анархических устремлений и мораль расходится с разумом.
Не правда ли – прустовский стиль, прустовский мотив? До чего подобно подобное воспринимает мир…
Музиль остро переживал эйдосы свободы, равенства, прогресса и протестовал против бредней об автоматическом восхождении вверх. Цивилизация – не эскалатор и не лента конвейера. Несоответствие техники сознанию ведет мир по дороге к сумасшедшему дому. В его подвалах Гефесты куют чудеса, а в верхних этажах эти же чудеса заставляют свихнуться управителей. Такова эпоха свершений-разочарований. Чем великолепней свершения, тем горше расплата.
Мы приписываем Музилю нечто несовместимое с его мировосприятием грядущий переход к коллективизму, которым якобы должна была завершиться эпопея человека без свойств. Нет, развенчивая мир старый, он не питал иллюзий насчет нового. Если бы его тоска по архимедовой точке опоры завершилась ее отысканием, то культура утратила бы самого Музиля, ибо его сущность – недоверие к любым программам, идеологиям, системам.
По настоящему целеустремленное искусство не обращается к злободневности – это не свойство искусства, а свойство самой злободневности, которая никогда бы и не стала злободневностью, если бы не была уже прежде осознана с помощью внехудожественных средств и с их же помощью на нас не воздействовала.
Мое отношение к политике состоит, в частности, вот в чем: я принадлежу к числу недовольных. Мое недовольство отечеством осело налетом мягкой иронии на страницах "Человека без свойств". Я убежден также в несостоятельности капитализма или буржуазии, но я не могу решиться встать на сторону их политических противников. Конечно же, дух вправе быть недовольным политикой. Но, очевидно, уравновешенным людям дух, не способный к компромиссам, представляется слишком индивидуалистическим.
Когда мне случайно попадались в руки программа политической партии или текст парламентской речи, я лишь утверждался во мнении, что речь в них идет о низших видах человеческой деятельности, ни в малой мере не затрагивающих нашу внутреннюю суть. Однако в основе такого отношения лежал старый предрассудок… Мне ведь наш мир нравился. Бедные в нем страдают: тысячи их безымянных теней образуют цепочку, тянущуюся от меня к животному миру. Собственно, еще ниже, поскольку ни одно животное не живет в таких неестественных для него условиях, в каких приходится жить многим людям. А богатые мне нравились за то, что их богатство разительно противоречит скудости их духовной жизни… А религия нравилась мне за то, что все мы давно неверующие, но преспокойно продолжаем обитать в христианских государствах.
Почему, собственно, человек без свойств? Потому что свойства – это стандарты, условности, готовые платья, чувства и качества эвримена, программа, обреченная на провал. Быть без свойств – тоже не сахар, скорее чистая горечь, но все же это, пусть жалкая, но свобода. Что от меня осталось? – вопрошает Ульрих. Храбрый и неподкупный человек, воображающий, что ради внутренней своей свободы он признает лишь немногие внешние законы? Внутренняя же эта свобода состоит в том, что ты можешь думать как угодно, что в любом положении знаешь, к чему не надо привязываться, и никогда не знаешь, к чему же все-таки привязаться…
Отличительная черта "человека без свойств" – не противоречие со всеми и даже не трагичность противостояния миру, но принципиальная невозможность разрешить "многостороннюю проблему этического самоопределения", осознание отсутствия однозначных решений, ясное понимание сущностного многообразия вещей и идей.
Духовность – это отказ от роли пророка, учителя, спасителя человечества, это океан альтернатив, это принципиальный запрет на императивность искусства и право художника "звать за собой".
Музиль рано пришел к перспективизму – осознанию равноправия точек зрения, восприятий мира, мировоззрений. "Бесхарактерность" Музиля во многом совпадает со звучанием разных внутренних голосов в душах героев Йитса и Джойса, с их выступлением против зашоренных, твердолобых идеологических и этических систем – неприступных крепостей.
Любопытно, что к понятию "человека без свойств" можно отнести дневниковую запись Л. Н. Толстого, человека в высшей степени зашоренного и тенденциозного, но утрачивающего эти свои человеческие качества в собственном художественном творчестве, далеком от "толстовства":
Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все: все возможности, есть текучее вещество.
Человек без свойств – ответ Музиля общественной традиции "повторения подобного", движения без развития, механической повторяемости социальных явлений без творческого участия человека, исчезновения активного, действенного "Я".
Человек без свойств – это одновременно "открытие внутреннего человека" и "духовное освоение им мира", человеческая открытость и неприязнь к духу косности и сектанства, способность к эволюции и отказ от законсервированных в формалине форм.
Сам Музиль под "аморфностью" человеческого характера и сознания понимал их способность принимать многие формы – от "повторения подобного", капитуляции перед миром и другими до крайних форм новаторства и индивидуализма. При этом у "массового человека" доминирует первое, у творческого – второе. В этом отношении идеи Музиля вполне созвучны тому, что в это время писал С. Цвейг в очерке о Стендале:
Все мы подвержены неосознанным влияниям в большей степени, чем предполагаем сами: воздух эпохи проникает в наши легкие, даже в сердце, наши суждения и взгляды и бесчисленные суждения и взгляды наших современников трутся друг о друга и стачивают свои острия и лезвия, в атмосфере невидимо, как радиоволны, распространяется внушение массовых идей; т. е., естественным рефлексом человека является отнюдь не самоутверждение, а приспособление своего образа мыслей к образу мыслей своей эпохи, капитуляция перед чувствами большинства.
Я не согласен с концепцией главного героя как "спасителя", представителя "сецессиона", стоящего над миром и эпохой. Ульрих – homo potentialis, человек возможностей, который "повторению подобного" предпочитает поиск, переоценку, открытость, даже активность, направленную на предотвращение коллапса, к которому движутся "патриоты", организаторы всех "параллельных акций". Ульрих – духовное начало в мире тотальной мобилизации и догм.
Ульрих не лишен индивидуальности, как считают наши, наоборот – он единственная недогматически мыслящая личность среди участников "параллельной акции", представляющих "действительность". Сам Музиль констатировал: "Таким образом, основная тема целого: столкновение человека возможностей с действительностью".
"Бессвойственность" Ульриха – это свойство духовной личности, при всей ограниченности возможностей и сил, противопоставить статике, порядку, недвижимости, массовости – "иное состояние", движение духа, динамическую мораль, хрупкое новое.
Этот порядок не такой прочный, каким прикидывается; любая вещь, любое "я", любая форма, любой принцип – все ненадежно, все находится в невидимом, но никогда не прекращающемся изменении; в нетвердом – больше будущего, чем в твердом, и настоящее – не что иное, как гипотеза, которую ты еще не отбросил.








