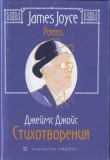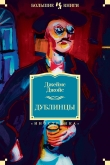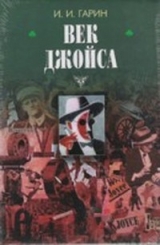
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 64 страниц)
ЕГО МИР – ЭТО НАШ МИР
Мировоззрение Джойса, связанное с глубоким душевным кризисом, обусловило его восприимчивость к реакционным философским концепциям…
Д. Г. Жантиева
Не будем докапываться до того, что, кто и у кого воспринимал, важно другое: когда имеешь дело с человеком-болью-человечества, то причиной его страданий всегда будет одно: насилие, испорченность, разрушительность, вандализм человеческой природы. Улисс бессмертен, ибо всё, что есть там, только в устрашающих количествах, я нахожу здесь. Улисс – большая реальность, чем реальность. Ибо реальность быстротечна, эта же – на все времена. Аллегория нашей истории и ее итога.
Реакция неизменно навязывала Джойсу роль проповедника изначальной низменности человеческой природы, первородного греха, неизменной порочности – всего того, чего, как черт ладана, страшимся мы. Страстного же и беспристрастного исследователя человеческой души интересовала только эта душа, а не бирки, догмы или схемы. Он передавал то, что чувствовал, "беспросветно пессимистическим мировоззрением Джойса" была сама жизнь, а не химера утопии. Да, он был внеисторичен, потому что – вечен и человечен.
Главная отличительная черта модернистской этики взаимосвязи и взаимообусловленности добра-зла – признание приоритета свободы, риска, непредсказуемости результата. Грехопадение – сущность человека, которая не может быть преодолена, царство Божье на Земле принципиально неосуществимо, если человек свободен. "Конец света" – это конец свободы. Или благодать или свобода, или умерщвляющая жизнь безальтернативность – или право выбора, в равной мере ведущее к поражению или триумфу, или никогда не кончающийся поиск истины – или коллапс.
Увы, это правда: большинству свобода почти не нужна (хотя их физическое существование было бы невозможно без нее). Большинство ждет хэппи энда, всеединства, софийности, равенства и братства – из них вербуются "верные Русланы" всех народных движений, все "моралисты" и "пастыри", демагоги и вожди. Но слава Богу, не этими "служителями Рая", жива культура… Ибо творцы, все подлинно утонченные и духовные натуры, в равной мере предназначены для Рая и Ада. Правда, Бердяев в Опыте парадоксальной этики еще более категоричен: Ад – не для всех, а для особо изысканных и взысканных…
Исследуя проблему зла в мировой литературе, Жорж Батай пришел к выводу, что в стремлении испробовать границы мысли, желании выразить невозможное, самые великие пророки и поэты устремлены "к преступной свободе":
Люди отличаются от животных тем, что соблюдают запреты, но запреты двусмысленны. Люди их соблюдают, но испытывают потребность их нарушить. Нарушение запретов не означает их незнание и требует мужества и решительности. Если у человека есть мужество, необходимое для нарушения границ, – можно считать, что он состоялся. В частности, через это и состоялась литература, отдавшая предпочтение вызову как порыву. Настоящая литература подобна Прометею. Настоящий писатель осмеливается сделать то, что противоречит основным законам общества. Литература подвергает сомнению принципы регулярности и осторожности.
Писатель знает, что он виновен. Он мог бы признаться в своих проступках. Он может претендовать на радость лихорадки – знак избранности.
Грех, осуждение стоят на вершине.
При таком совпадении противоположностей Зло больше не является принципом, неизбежно обратным естественному порядку, царящему в пределах разумного. Можно сказать, что Зло, будучи одной из форм жизни, сущностью своей связано со смертью, но при этом странным образом является основой человека. Человек обречен на Зло, но должен, по мере возможности, не сковывать себя границами разума. Сначала он должен принять эти границы, признать необходимость расчета и выгоды. Но, подходя к таким границам и к пониманию этой необходимости, ему надо осознать, что тут безвозвратно теряется важная часть его самого.
Зло в той мере, в какой оно передает притяжение к смерти, – не что иное как вызов, бросаемый всеми формами эротизма. Оно всегда – только объект неоднозначного осуждения. Например, Зло, от которого страдают величественно как, допустим, во время войны – в неотвратимых в наше время обстоятельствах. Но последствием войны стал империализм… Впрочем, напрасно было бы скрывать, что в Зле всегда появляется движение к худшему, подтверждающее чувство тревоги и отвращения. Тем не менее Зло, увиденное через призму бескорыстного притяжения к смерти, отлично от зла, смысл которого в собственной выгоде. "Гнусное" преступление противоположно "страстному". Закон отвергает и то, и другое, однако и в самой гуманной литературе есть место страсти. Над страстью все же довлеет проклятье, и как раз в "отверженной части" человека заложено то, что в жизни людей имеет самый глубокий смысл. Проклятье – наименее призрачный путь к благословению.
Искусство невозможно без перехода границ дозволенного, без сметания границ и норм – именно это позволяет "оказаться в ином измерении, где пропадают и сливаются противоположности", ведущие к истине.
Великая литература – во многом исследование человеческого зла, может быть, даже форма зла – зла, обладающего, по словам Ж. Батая, особой, высшей ценностью: "Этот догмат предполагает не отсутствие морали, а наличие "сверхнравственности"".
Если бы литература не подвергала сомнению "строгую мораль", то до сих пор мы не покончили бы с инквизицией и всеми формами египтизма и китайщины. Да, как вновь обретенное детство, литература не безобидна и виновна. Но в чем? Она виновна как в сохранении "древлего благочестия", так и в "переоценке всех ценностей".
В отличие от наших, Джойс не терпел догматизма и связанного с ним учительства, наставничества, проповедничества. Если мир обладает множеством перспектив, если сама истина плюральна, художник лишен права становиться учителем жизни только демонстратором, живописцем ее широты и глубины. Абсолютизм дело священников и королей, а не исследователей жизни. Менторство в искусстве – последнее дело.
Конечно, художник имеет право на личную точку зрения, но полнота текста – "сообщество равноправных дискурсов", полифония, многоголосие, диалогичность. Не диктат, а множество перспектив, не законы природы или морали, а эволюция духа, не последнее слово, а троеточие… К. Барт именовал это "смертью автора", но лучше говорить о конце его тирании, столь ярко выраженной, скажем, у Толстого и Достоевского – точнее в толстовстве и менторстве Дневника писателя. Такого рода диктату Джойс предпочел смену дискурсов, рассказчиков, перспектив – новую модель художественной реальности, отражающую многослойность, стратифицированность, иерархичность самого мира. Текст Джойса внутренне соответствует структуре плюрального Бытия. "Текст Джойса, – писал С. Беккет, – не о чем-то, он сам есть это что-то". Но это что-то – художественное выражение голоса Бытия, как сказал бы Хайдеггер. Искусство – автономная реальность, но в своей глубине последняя сливается с бытием. Вещи, как и люди, наделены у Джойса голосами именно в силу обладания хайдеггеровским "голосом Бытия".
Кстати, сам Джойс чувствовал в себе эту способность – слышать оттуда. Не будучи слишком суеверным, он признавался, что, как только с его героем что-то случается, до него доходят вести о несчастье с живым прототипом. В авторе жил трикстер, но не "божественный шут", а демон Сократа, слышащий дельфийского оракула.
Для того, чтобы понять нашу эпоху с ее абсурдом, насилием, болью, для того, чтобы иметь ключ к ее культуре – к Пикассо, Врубелю, Шагалу, Дали, Кафке, Голдингу, Элиоту, Бергману, Феллини, Фрейду, Юнгу, Ортеге, Ясперсу, Хайдеггеру, Фромму, Камю – надо лишь одно: вчитаться в Улисса. Это так же, как для того, чтобы иметь своих Джойсов, надо, как минимум, уважать себя.
Великая, эпохальная, парадигмальная книга – на все времена. Потому что мир, в который способен проникнуть глаз гения, всегда наш мир, в нем мы живем.
– Вот великая империя, которой они хвастают, империя угнетенных наемников и рабов…
– Над которой солнце никогда не восходит, – говорит Джо.
– И вся трагедия в том, – говорит гражданин, – что они этому верят. Несчастные йеху этому верят.
Вот такие ассоциации…
А наши гончарные изделия и ткани, самые тонкие во всем мире! А наша шерсть, которую продавали в Риме во времена Ювенала, и наш лен… Где греческие купцы, приезжавшие через Геркулесовы столбы, – через Гибралтар, ныне захваченный врагом рода человеческого, – с золотом и тирским пурпуром, чтобы продавать его в Вексфорде на ярмарке Кармена? Почитайте Тацита и Птолемея, даже Гиральдуса Камбренсис. Вино, шкуры, мрамор Коннемары; серебро из Типперари, не имеющее себе равного; наши прославленные лошади…
Наши хлеба, наши кожи, наш мед, наши меха, наши холсты, наши осетры и таймени, наши тонкие вина и тонкие руна, скатень северных рек и сельдь южных морей…
– Мы скоро будем так же безлесы, – говорит Джон Уайз, – как Португалия или Гельголанд, с его единственным деревом, если только как-нибудь не насадят леса вновь. Лиственницы, сосны, – все деревья хвойной породы быстро исчезают. Я читал в отчете лорда Кастльтауна…
– Спасите их, – говорит гражданин, – гигантский ясень Голвэя и княжеский вяз Кильзара… Спасите деревья Ирландии для будущих сыновей Ирландии, на прекрасных холмах Эрина. О!
– На вас смотрит вся Европа, – говорит Ленехэн.
– И мы смотрим на Европу, – говорит гражданин. Но есть кое-что и посерьезней:
– Но это бесполезно, – говорит он. – Сила, ненависть, история – всё. Это не жизнь для людей, оскорбления и ненависть. И все знают, что только прямая противоположность этому и есть настоящая жизнь.
– Что? – говорит Альф.
– Любовь, – говорит Блум. – Я подразумеваю нечто противоположное ненависти. Я должен идти, – говорит он Джону Уайзу…
– Кто тебя держит? – И он помчался пулей.
– Новый апостол перед язычниками, – говорит гражданин. – Всеобщая любовь.
– Что ж, – говорит Джон Уайз. – Разве нам не говорят этого. Люби своего ближнего.
– Это он-то? – говорит гражданин. – Объегоривай своего ближнего – вот его девиз. Любовь! Хороший образчик Ромео и Джульетты.
Любовь любит любить любовь. Няня любит нового аптекаря. Полицейский 14А любит Мэри Келли. Герти Мак-Доуэлль любит этого мальчика с велосипедом. М. Б. любит прекрасного джентльмена. Ли-Чи-Хан любить-любить целовать Ча-Пу-Чоу. Джумбо, слон, любит Алису, слониху. Старый м-р Верс-койль со слуховым рожком любит старую м-с Верскойль с косым глазом. Человек в коричневом плаще любит Лэди, которая умерла. Его величество король любит ее величество королеву. М-с Нормэн В. Таппер любит офицера Тэйлора. Вы любите кого-то. А этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый кого-нибудь любит, но Бог любит всех.
Или:
– Если бы могли только питаться такой хорошей пищей, как вот эта, сказал он ей громко, – наша страна не была бы полна гнилых зубов и гнилых внутренностей. Живем в болоте, едим дешевую пищу, а улицы покрыты пылью и т. д.
Или:
Какова была их цивилизация? Пространна, я согласен, но презренна. Клоаки: канализационные трубы. Иудеи в пустыне и на вершине горы говорили: "Здесь подобает быть. Воздвигнем алтарь Иегове". Римлянин, как и англичанин, который следует по его стопам, приносил на каждый новый берег, на который ступала его нога, только свою канализационную манию. Он в своей тоге осматривался вокруг и говорил: Здесь подобает быть. Давайте построим ватерклозет.
ПАРФЕНОН
Нет ничего алогичней логики, этой высшей формы обмана, ямы для простаков. Ненавижу примитив! Вот вам добродетель, а это – сатанинские стихи, делайте как я – и вас ждет награда. Дрессированный гомо сапиенс.
Но добро и зло неразделимы – они даже не переходят друг в друга, как того требует наша ньюевангелическая – нет, пресвятая! – диалектика. Они одно (открытие XX века). Нет абсолютов и ориентиров нет тоже: гениальные вожди и всечеловеки, оказавшиеся величайшими головорезами, и распятые, растерявшие совесть… Спорно и сомнительно уже всё. Хаос. Нет, Елена не случайно исчезает из Улисса, ведь она – прекраснорожденная из Хаоса. Но Джойс мудрее Гёте. Он знает: из Хаоса не рождается прекрасное, прекрасное придумываем и творим мы. Чаще придумываем, чем творим. Ибо творить – раритет из раритетов… Но зато творящий способен на невозможное. Он творил красоту из уродства, как его предшественники цветы из зла. Уродство правды он переливал в красоту…
Что есть Улисс?
Конец героической истории человечества и – осознание себя. Один день трех героев и – вся культура. Жизнь без покровов, которые тридцать столетий натягивала на себя культура, и – душа… Отброшены все тотемы и все табу только правда, какой бы она ни была. Но простой правды не было и нет. Не потому ли так сложен Улисс?
Да, Джойс трудный писатель и читать его нелегко. Чаще всего то, что легко писать, легко и читать – отсюда безбрежный океан никчемности, захлестывающий культуру. Джойс же знает иную истину: каков мир – таково искусство. Но даже эту имманентную сложность поименовали темнотой и бросили ему в лицо: "…и тогда, перенеся свои творческие промахи на мировую ситуацию, Джойс и решил заставить читателей "трудиться" над книгами вместе с автором, вернее вместо него".
Что есть Улисс?
Улисс есть всё, воплощение плюрализма: от тотальной сатиры а 1а Свифт ("Я не могу писать, не оскорбляя людей") до натуралистической ирландской комедии ("юмора у пивной стойки"), от поэтического эпоса ("после которого уже никакие эпосы невозможны") до символической травестии, от неверия трагического сознания до катарсиса в Аристотелевском смысле. Такова и атмосфера Улисса: от иррационально-мистической жути до рациональной объективности. Хаос? Да, но он рассчитан и выверен этот хаос – рассчитан и выверен, как жизнь. "Трагикомедия интеллекта, материи и плоти".
Что есть Улисс?
Пародия на Одиссею и настоящая, подлинная безумная одиссея человека XX века, за один день совершающего всё то, на что Улиссу потребовались 20 лет.
Чу! внимание! Важная мысль! Однажды Джойс в сердцах бросил: "Жаль, что публика будет искать и находить мораль в моей книге, и еще хуже, что она будет воспринимать ее серьезно. Слово джентльмена, в ней нет ни одной серьезной строчки, мои герои – просто болтуны".
Среди множества правд об Улиссе есть и такая: ядро культуры и шутка одновременно!
В конце концов, и тот, первый Улисс, был прежде всего человек, которому ничто человеческое…
– Что нас больше всего поражает в Одиссее? Медлительность, с которой возвращается Одиссей, то, что он тратит на возвращение домой десять лет… и в течение этих лет, несмотря на любовь к Пенелопе, о которой он так много говорит, он пользуется всяким удобным случаем, чтобы ей изменить.
И вот Одиссей – мистер Блум, Пенелопа – его жена Молли, Телемак Стивен, Антиной – Маллиген, Афина – старая молочница, Дизи – Нестор, любовник Молли Бойлан – Эвримах, молоденькая девушка на пляже – Навсикая, трактирный оратор и ирландский националист – Полифем, содержательница публичного дома – Цирцея, издатель газет – Эол…
Миф Джойса – это и супермиф и травестия на него. Блум – измельчавший за тридцать веков Одиссей эпохи торжествующего прогресса, развратная Молли то, во что превратилась Пенелопа, символ женской верности, добровольно порвавший с семьей Стивен – преданный роду Телемак.
Нет, нет, здесь что-то не так, не та тональность… Постольку, поскольку история неизменна, гомеровский эпос, гомеровская героика не более, чем инфантилизм юного человечества. История Блума, Молли, Стивена как бы не имеет отношения к Гомеру, но во все времена является единственно значимой историей: жизненные перипетии отношений мужа и жены, конфликт Стивена с Маллиганом и со всем миром. Дело вовсе не в том, сколь глубоко связан Одиссей с джойсовским Блумом, сколько в дегероизации Гомера, в той глубинной правде жизни, которую он упростил или утаил. Время героических мифов и иллюзий кончилось, место внешнего мира заняла правда внутреннего, место геофафических странствий – тончайшие движения души, правда тела.
Где-то я писал, что на месте мифа возник антимиф. Это не вполне точно. Миф обладает глубинным измерением, выражает скрытую человеческую суть. Лучше сказать: место мифа занял сверхмиф – не столько даже "ироническое переосмысливание" или постмодернистское погружение мифа в мясорубку, сколько погружение в хтонические глубины человеческого, дальнейшее проникновение в бессознательное, полная деидеологизация философии подлинного человека.
Собственную "иезуитскую закваску" Джойс направил на искоренение всех разновидностей иезуитства – лицемерия, виртуозной аргументации лжи, скрытности, бескомпромиссности, непреклонности, безжалостностной суровости, ханжеского благочестия, "прекрасной лжи". Но – главное – догматизма. Враг писателя – однозначность, абсолютность, безоговорочность. Про-теизм, ускользание, смена масок – не просто стиль, но философия писателя, главная задача которого низвержение всех видов абсолютизма. Только движение продуктивно, только смена перспектив, только новизна плодотворна. В равной мере это относится к антропологии, философии и стилистике Джойса.
Что есть Улисс?
Только ли Одиссея XX века? Нет! – Огромная травестия всей мировой культуры, виртуозная по замыслу экстраваганца на нее. Вторая философия, то есть физика Аристотеля, схоластика Фомы Аквинского, поэзия Данте, культурфилософия Джамбаттисты Вико, монолог Шекспира…
Шекспир, пожалуй, главный строительный материал Улисса, его связующее, его постоянный фон.
Общеизвестно, что в "Улиссе" Джойса есть множество шекспировских реминисценций. Однако, особый интерес представляет не столько явное и недвусмысленное обращение Джойса к шекспировской теме (например, в 9-м эпизоде "Улисса"), сколько принципиальное соприкосновение Джойса с Шекспиром там, где об этом не говорится прямо, где это своеобразное эхо шекспировского мира в литературе XX века не демонстрируется, а скрыто в своеобразном и сложном арсенале поэтики "литературы потока сознания".
Монолог Шекспира прошел через дидактику Драйдена, всевидение и всезнание Лоренса Стерна, через мягкий диккенсовский юмор и дошел до внутреннего монолога в литературе потока сознания, который взял на себя основную функцию выразительных средств литературы совершенно нового типа. Внутренний монолог литературы потока сознания является и кризисом шекспировского монолога, и его определенным развитием; кризисом – поскольку "исчерпал" возможности классического монолога и для выполнения новой художественной функции настолько изменил свой облик, что потерял "право" называться непосредственным наследником Шекспира; развитием же шекспировской традиции он является потому, что не представляет собой бесплодного эксперимента и после выполнения своей "временной миссии" или функции (показ душевной дисгармонии современного человека) останется одним из эффективных изобразительных средств даже на самой магистрали развития литературы.
Каким "строительным материалом" является Шекспир для модернистов и, в частности, для Джойса? Какую положительную роль играет шекспировская традиция в английском модернизме XX века?
Томас Манн в предисловии к немецкому переводу Дж. Конрада отмечал, что основной характерной чертой современной литературы он считает отказ писателей от восприятия жизни как трагедии или комедии и осмысление ими действительности как трагикомедии.
Трагикомическое видение мира особенно характерно для модернистов. Они часто опираются на некоторые элементы трагикомедийности в последнем периоде творчества Шекспира, чтобы исторически оправдать, представить правомерным собственное ощущение разобщенности человека и природы, личности и общества путем определения и обоснования генезиса своего пессимизма.
В этом процессе трагикомического переосмысления шекспировского творчества, модернистская литература XX века постепенно выработала иронический аспект восприятия Шекспира, нашедший свое выражение в моде пародирования.
Но исчерпывает ли пародия, ирония, сатира Улисса? Имеет ли Джойс намерение принизить или уличить своих героев? Или беспристрастно, непредвзято и честно рисует, во что превратила великого героя, победителя Трои и одновременно пацифиста Улисса цивилизация? (Впрочем, был ли Одиссей таким, каким его представляли первые героические утописты, скрывавшиеся под именем великого Гомера?)…
Что есть Улисс?
Улисс – это один день, 16 июля 1904 года, самый длинный день в мировой литературе. День, как жизнь. Один день из жизни двух героев – каких много: и дней, и героев. Нет начала, нет конца, итогов тоже нет…
Два героя – это Стивен Дедал и Леопольд Блум, Телемак и Одиссей. Оба странники и изгои, "отец" и "сын". Первый переживает крушение мечты и отчуждение от других, он же – укоризна себе и всем, он же – лицо экстерриториальное, пария, художник в обществе, где художники не нужны, религиозный мыслитель Фома Аквинский с пошатнувшейся верой, еще одна современная – версия Гамлета, Гамлета с его самостью, самозащитой и самопознанием. Второй – закомплексованный конформист, обыватель, сноб, олицетворение предрассудков, ханжества и пошлости общества. Он же – Вечный жид, гонимый отовсюду. Он же – символ человечности, справедливости, мудрости, миролюбия. Он же – демократ, мечтатель, фарисей. Он же – слабый, маленький, одинокий, гонимый человечек, противостоящий жестокому и абсурдному миру. Такова джойсова раскладка добра и зла. Можно иначе: ничтожный и ординарный Блум – духовный отец высокоинтеллектуального поэта и философа Дедалуса! Впрочем, был бы он Джойсом, если бы иначе понимал мир?
Блум со всеми его страхами, первородным грехом еврейства, действительными и мнимыми унижениями – разве это не все тот же Йозеф К., разве призрачные блуждания по ночному городу – не всё то же неубегаемое убегание от Процесса? А может быть, символ странствий по лабиринтам души? А может…
…Вот в потоке его сознания проплывает избрание в президенты, нет, в императоры. Нет, он император-филантроп, демократ, охлофил, раздающий значки общества трезвости и отпускающий подданным грехи… на сорок дней; да, он заигрывает с избирателями – как все; да, он верховный советчик, но ведь служит-то верой и правдой. А вот он уже строитель очередного рая на земле Блу-мусалима (не в нем ли живем?). Да, в нем: вот он уже осчастливливает нас, избирателей, расселяя по бочкам и ящикам с инициалами Л. Б. Апофеоз!
Нет, Блум – не эвримен, не конформист, он – человек, пусть податливый, пусть с мелкими мыслишками и выхолощенными страстями, но – со щедрой душой, альтруистической натурой, редкой способностью к сопереживанию. Джойс никогда не был однозначен. У него нельзя найти такое место, относительно которого можно нечто утверждать, не боясь впасть в ошибку.
Блум – не только наследник аптекаря Омэ или предшественник Джорджа Ф. Бэббита, но также Одиссей, Вергилий, Христос, Шекспир, словом – человек. "Какое универсальное бинарное определение пристало ему как цельности и нецельности? Внятный любому и неизвестный никому. Всякий и Никто".
Так что не удивительно, что именно Блум произносит ключевые слова: "История повторяется, меняются только имена".
В Улиссе происходит довершенный в Поминках распад Блума на множество разных персонажей: романтического любовника с лицом спасителя и ногами тенора Марио, самого Спасителя, "ученого" Вирага и лорда Биконсфильда, Байрона, Ротшильда, Уота Тайлера, Мендельсона и даже Робинзона Кру-зо. Он не только Одиссей, но и Адам, Моисей, Мессия, Люцифер. Точно так же, как Молли – Калипсо, Пенелопа, Ева, матерь-земля Гея, дева Мария, павшая Эмма Бовари, вечное женственное начало, которым восторгалась Майерова, и символ всемогущего секса. Всё. Всё – во всем.
Всё происходит одновременно и всё проницает друг друга. Стивен: "так, в будущем, сестре прошлого, я могу увидеть себя пребывающим здесь и теперь".
Стивен и Блум не просто "дополняют" друг друга, как Дон Кихот и Санчо Панса, а являют постепенный переход одного в другого: юности с ее еще незапятнанной духовностью в отягощенную материей зрелость, катящуюся к деморализации.
Плоть против духа, зрелость против невинности – таковы опоры мировоззрения Отца.
Каждая эпоха пишет своего человека: средневекового, фаустовского, музилевского, человека с определенными свойствами и без свойств… Джойсовская модель человека – модернистская и структуралистская по духу: личность – это совокупность элементов, взятых в разных пропорциях, оттого Блум Всякий-и-Никто, сгусток ролей, играемых последовательно и одновременно, носитель типовых человеческих качеств и человек вообще. Антропология Джойса сродни его поэтике: она сериальна, иерархична, в чем-то даже космична. Все люди – разные, но с одной и той же структурой, человек – структурированная цельность, каждому – в свою меру – свойственно то, что в свою – другому.
Разные, Стивен и Блум одинаково воспринимают мир: свою изолированность, отчужденность, враждебность других. "Будет ли он называться Христом или Блумом или как-нибудь иначе, secundum carnem". В их сознании возникают те же мысли, фразы, ассоциации. Воистину "каждый может быть каждым". Они транс-цендентно связаны своей природой, хотя и не знают друг друга. Затем происходит встреча: Одиссей находит своего Телемака. Но связь тут же рвется, они быстро расходятся – навсегда.