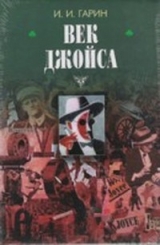
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 64 страниц)
"Макс плохо разбирается во мне, а когда разбирается хорошо – значит ошибается".
Дневник играл особую роль в жизни Кафки. Это было его прибежище, его источник надежды, его исповедальня, его способ представить самому себе "фантастическую внутреннюю жизнь" и таким образом если не разобраться в самом себе, то попытаться осмыслить обстоятельства и события, понять себя и окружающий, – как правило, враждебный, – мир, в котором он чувствовал себя "более чужим, чем чужак".
Трудно сказать, повлиял ли на Кафку Дневник писателя Достоевского, но подобие налицо: здесь размышления о жизни, литературе, театре, характеристики событий и людей, критические заметки, замыслы, моментальные зарисовки, впечатления, рассказы и новеллы, замыслы, реакции на "злобу дня"…
Макс Брод, пытаясь приукрасить образ друга, изъял из первой публикации Дневников все, что казалось ему "неприличным" – признания о посещении борделей, "нечистые" мысли, грубые словечки, "несправедливые" характеристики друзей и знакомых. Такие купюры, может быть, необходимые для создания образа святого, сильно деформируют образ человека. Я уже писал об этом в моем Эйнштейне, протестуя против сознательной деформации многомерного гения его ревностными, религиозными почитателями. Но ложь плохо совмещается с чистотой и святостью. Все это больно уж напоминает обожествление "великих вождей", в коем никак не нуждаются великие люди.
Дневник стал главным поверенным Кафки и одновременно средством поддержания вдохновения в моменты страха перед письмом. Здесь он оттачивал свое перо, упражнялся в стиле, здесь истоки почти всех его творений и здесь же – средство избавления от сомнений, сверхкритичности в собственный адрес.
Центр всего моего несчастья в том, что я не могу писать, я не написал ни одной строчки, которую мог бы принять, наоборот, я вычеркнул все, что написал еще с Парижа – впрочем, это не Бог весть что. Все мое тело настораживает меня по отношению к каждому слову; каждое слово, прежде чем я его напишу, начинает осматриваться вокруг себя; фразы буквально ссыпаются под моим пером, я вижу, что у них внутри, и тотчас вынужден останавливаться.
Порой Кафка подвергает остракизму не только собственный талант и творчество, но начинает сомневаться в искренности всей литературы, в ее оправдании и смысле.
Дневнику он поверял вдохновение и неудачи, в тяжелые минуты пытался оставаться достойным его:
С сегодняшнего дня обязательно вести Дневник! Писать регулярно! Не забрасывать! Даже если не последует никакого облегчения, я хочу в любой момент оставаться достойным его.
"Оставаться достойным его" можно интерпретировать таким образом, что только искренность, доверяемую дневнику, он ценил безоговорочно: к своим художественным произведениям он относился без снисходительности, присущей авторам. "Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как "Сельский врач", при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно)". "Всё это еще довольно далеко от того, что я действительно хочу".
А он, очевидно, хочет создавать рассказы такого уровня, как те, что вошли в сборник "Сельский врач", которые, похоже, подчиняются только непоследовательности дурного сна и оставляют и для самого рассказчика темные и загадочные места. Это была формула "Приговора", продолжающего тревожить память Кафки.
"Все, что он делает, кажется ему, правда, необычайно новым, но и соответственно этой немыслимой новизне чем-то необычайно дилетантским, едва даже выносимым, неспособным войти в историю, порвав цепь поколений, впервые оборвав напрочь ту музыку, о которой до сих пор можно было по крайней мере догадываться. Иногда он в своем высокомерии испытывает больше страха за мир, чем за себя". Кафке, действительно, редко доводилось выражаться с такой силой – он созерцает себя в предельной обнаженности, достигнутой им абсолютным одиночеством, в котором он замкнулся, и ему случается ужасаться им же самим вырытой норе.
При чтении дневников Кафки возникает превратное мнение о человеке, изливающем миру свои страдания. На самом деле, по словам М. Брода, он страдал, но хранил молчание, и это было "роковым недостатком в его жизни". Кафка в минимальной мере пользовался естественными средствами психотерапии не "вывешивал все наружу", глубоко прятал собственные конфликты.
М. Брод:
Я нередко замечал, что у поклонников Кафки, знавших его только по произведениям, было совершенно неверное представление о нем. Они считали, что в обществе он производил на окружающих гнетущее впечатление. Дело обстояло как раз наоборот. Благодаря богатству мыслей, которыми он всегда охотно делился, Кафка был одним из самых интересных людей, которых мне доводилось встречать в своей жизни, и это несмотря на его застенчивость… У него была увлекающая натура. Мы часто шутили и смеялись. Он любил посмеяться и умел рассмешить друзей… Он был замечательным другом и всегда был готов прийти на помощь. И лишь оставаясь наедине с собой, он испытывал чувства растерянности и беспомощности, о которых, благодаря его самоконтролю, окружающие могли догадываться крайне редко. Дневник Кафки, несомненно, производит глубокое впечатление. Одна из причин, побудивших меня написать эти мемуары, заключаются в том, что на основании его книг, и в первую очередь дневников, может возникнуть совершенно иная, более гнетущая картина, чем в том случае, когда будут внесены коррективы и дополнения человека, жившего с ним бок о бок долгое время.
Можно предполагать, что страсть к писательству, помимо призвания, подпитывалась необходимостью самозащиты, инстинктом жизни: литература становилась терапией, неосознанным психоанализом, возможностью частичного снятия внутренних напряжений путем "изливания" их на бумагу. Существует даже версия, согласно которой "последняя просьба" – наказ сжечь его бумаги обусловлена деликатным желанием унести с собой свой теменос – сосуд комплексов и страхов, который не должен портить жизнь другим людям.
Впрочем, писательство, во многом питаемое комплексами Кафки, отнюдь не снимало их. Оно, может быть, не дало ему задохнуться, но и не излечивало от страданий:
Для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать свои страдания, непосредственно подвергаясь им, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от боли и переживания головой сесть и кому-то письменно сообщить: я несчастен. Более того, я могу даже с различными вывертами, в зависимости от дарования, которому словно дела нет до несчастья, фантазировать на эту тему просто, или усложнение, или с целым оркестром ассоциаций. И это вовсе не ложь и не успокаивает боли.
Сегодня мы знаем, что творческий порыв иррационален: творец способен черпать вдохновение из всех пагуб своей жизни страхов, страданий, болезней, усталости и отчаяния, несбывшихся надежд и разочарований.
Кафка страдал многими комплексами, ужасающей бессонницей, но никогда не пытался бороться с ними, словно понимая их плодотворность – что из них питается вдохновением. Он говорил, что его бессонница неотторжима от творческого процесса: не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой.
С бессонницей связаны его постоянные головные боли, с жуткими химерическими полуснами, будто бы специально придуманными для психоанализа, – страхи и комплексы самораспада. И тем не менее именно в этих ночных бдениях он черпал творческие аб-сурды, превосходящие своей правдивостью все реалии.
Вероятно, в обыденной ситуации Кафка не мог достигнуть той степени отстраненности, которая его устраивала, и был способен на это, лишь оказываясь на грани саморазрушения. Слабость после ночей, лишенных сна, заставляла Кафку чувствовать к себе отвращение, его одолевали бесконечные фантазии распада. Например, ему грезилось, что он лежит на земле "распростертый, нарезанный, как кусок мяса, и один из этих кусков медленно подвигает в угол собачья лапа". Бессонница вызывала у Кафки постоянные головные боли, по ощущению похожие на "внутреннюю проказу". "Бессонница сплошная: измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподдающемся материале". В одну из таких ночей Кафка замыслил написать свой знаменитый рассказ "В исправительной колонии" – о казни путем выбивания приговора игольчатой машинкой на теле осужденного.
Крайняя усталость и отчаяние заставляют изможденного человека принять отказ от тех целей, недостижимость которых его мучает. В некотором смысле, творческое просветление всегда есть наслаждение подобным отказом. Но что происходит с отверженными надеждами, могут ли они совершенно раствориться в отрешенности? С ощущением творческой силы должна появляться и надежда на признание, на благотворное изменение собственной жизни благодаря творческому успеху. Таким образом, надежда не исчезает, а лишь трансформируется.
Однажды Кафка заметил, что бессонница, вероятно, есть не что иное, как страх смерти. Известны признания знаменитых авторов о том, что, закончив очередное произведение, они чувствуют не только "удовлетворение от проделанной работы", но и приближение опустошенности, ведь творчество помогало жить, удерживало от распада. С завершением последней строки не исполнялись мечты о грандиозных переменах в жизни. И при отсутствии признания нередко подкрадывается страх, появляются сомнения в объективной и абсолютной ценности произведения. Пожалуй, наиболее трагичным опытом Кафки было именно это осознание.
Человек может бояться лишь того, что он в силах вообразить, почувствовать, что хоть и отдаленно, но согласуется с его опытом. Но способен ли человек представить ужас небытия? Психоаналитики полагают, что страх смерти является видоизменением страха утратить в лице родителей защиту от мира. Таким образом напряженное предвосхищение смерти подразумевает страх остаться неоцененным, ведь тщеславие и жажда творческого успеха во многом определяются взаимоотношениями с родителями в раннем детстве. Бессонница обращает человека к творчеству, которое, оставаясь непризнанным, в свою очередь приводит к страху смерти и бессоннице.
При отсутствии творческого порыва Кафка чувствовал себя ни на что не годным. В бессоннице и опустошении совершается отказ от неисполнимых надежд, благодаря отказу сила этих надежд может трансформироваться в творческий импульс. Кафка дорожит именно этой пустотой как непременным условием творческого процесса.
Сладчайший соблазн страдания и отверженности переплетался с тягостными мучениями болезненного и одинокого человека. Одиночество располагает ко взгляду на себя со стороны, но всякая попытка отстраненности лишь подчеркивает эгоцентризм. Часто возникает соблазн созерцать незримую борьбу, ведомую собственным духом, но борьба эта прежде всего с собственной же раздвоенностью. "Он разделен надвое… у него два противника… он в кровь расшибает себе лоб о собственный лоб".
Он убегал в литературу, дабы спастись от жизни, но само это бегство было разрушительным, сопровождалось огромными нервными издержками, подрывом здоровья. Можно сказать, что прогрессирующий невроз многим обязан структуре его психики, страхами перед самим процессом писания, перед читающей или слушающей публикой. Однажды, когда Кафку попросили представить аудитории своего друга актера Исхака Лёви, его охватила настоящая спазматическая лихорадка, артерии бешенно запульсировали, и колени задрожали под столом. Он признавался, что свойственная ему потребность в общении "оборачивается страхом, едва дело доходит до осуществления". Страницы Дневника пестрят упреками в свой адрес за робкость и неловкость в общении, нехватку коммуникабельности.
Писательство для Кафки не просто бегство от мира или победа над отцом ("ибо здесь он брал верх над отцом, которому вход в литературу был закрыт"), но – "сладкая и чудесная награда", возможность преодоления материи, входа в "иные миры", приведения мира к чистоте, правде, незыблемости. Говоря: "письмо – форма молитвы", – он имеет в виду очищение, приобщение к единственно подлинному миру – духа.
Именно этот духовный мир появляется на горизонте литературного творчества – это область "неразрушимого", и язык, несмотря на свою немощь, может в дальнейшем служить способом предчувствия его существования. Отсюда чуть ли не религиозная функция, которую Кафка предписывает литературе: "Счастлив я был бы только в том случае, – пишет он в 1917 году, – если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости".
Некогда мудрейший Гёте произнес замечательную фразу: "Ничто не уводит от мира вернее, чем искусство, и ничто не связывает с миром вернее, чем искусство". Это, если хотите, определение искусства Кафки, убегавшего от пугающего его мира в творчество и этим фантастическим способом предсказавшим еще неведомую в своей ужасающей бессмысленности жизнь. Почему именно Кафка? Потому, что он убегал от собственного чувства заброшенности и беззащитности в творчество, творчеством же претворял свое собственное мироощущение в откровения грядущей жизни.
Счастье и чувство благодарности, которые он испытывал, когда был в состоянии писать, могли послужить ему доказательством того, что искусство связывает нас не только с "мирским", но и с моральным, божественным, правильным – причем связывает через двоякий смысл, через глубинную символику идеи "Добра". То, что для художника "добро есть", то, о чем он так хлопочет, во что он так отчаянно серьезно, с такой болью сердечной играет, на самом деле тождественно и даже более чем тождественно всякой Правоте и всякому Добру, это субститут человеческого стремления к совершенству вообще, и снами рожденное искусство Кафки – "добро велико есть"; творения его созданы с такой правдивостью, терпеливостью, верностью природе, с такой – пусть ироничной, даже пародийной, каким-то таинственным образом вызывающей смех добросовестностью, любовью и тщательностью, которые доказывают, что он не был лицемером, что каким-то своим, сложным способом он верил в Добро и Правоту. Однако именно разлад между человеком и Богом, неспособность человека познать Добро, соединиться с ним и жить в Правоте он сделал темой произведений, каждая строка которых – свидетельство фантастически-юмористически-отчаянной Доброй Воли.
Я исповедую множественность. Но было бы величайшим абсурдом за синкретичностью жизни не видеть фундаментальных начал. Я не верю в фундаментальность героизма, порыва, подвига – это мелкие эпизоды. Но я верю в фундаментальность подвижничества и самозабвения, хотя они еще более редки. Когда поведение объясняют множеством причин – это фальсификация. Да, множество существует, но это побеги, идущие от единого корня человеческой сущности. Найти корень жизни – вот задача.
Он искал этот корень. И нашел его в поверженном человеке, в его бессилии перед разобщенностью и обособленностью людей. В отчужденности человека. Даже если он сгущал краски, даже если не нашел всей правды, его страстный поиск обнажил ее глубочайший срез.
Но верно и другое: правда не в поверженном человеке, а в страстном стремлении подняться, в надежде на выздоровление, в мудрости… У героев Кафки, считал А. Камю, наблюдаются каждодневные переходы от надежды к тоске, от безнадежной мудрости к добровольному ослеплению.
Кроме мировой истории человечества, существует мировая история души каждого человека. Микрокосм этой души так же неисчерпаем, как и макрокосм истории. Кафку обычно представляют как художника боли, отчаяния, страдания, тревоги, страха, бессмысленности и абсурда бытия. Реже говорят о Кафке-вестнике, визионере, пророке, предсказавшем трагедию XX века. Еще реже – о Кафке-философе, наследнике Киркегора, пишущем новую книгу Иова.
Было бы неверным изображать Кафку художником поверженного человека, хотя поверженный человек – главный его герой. Кафка – учитель жизни и ясновидец, моралист и обличитель, мастер гротеска и психолог-виртуоз. Главное же, Кафка – писатель глубин, исследователь катакомб и пещер человеческого духа, искатель чудесных лучей, позволяющих увидеть за поверхностью жизни ее сокровенную суть.
Кафка в литературе такой же гигант, как Коперник или Ньютон в науке.
Высший ум – это нечто вроде чудесного луча, при котором видишь скелет там, где другие находят красоту тела, и распознаешь кривляние обнаженных мускулов там, где глаза замечают улыбки.
Как все великие модернисты, Кафка вошел в мировую литературу благодаря сочетанию нового видения мира, глубочайшей философичности и свойственной только ему неповторимой стилистике. Если его стиль вырабатывался на протяжении целого десятилетия, то философский подход к человеческому существованию выражен уже в сборнике Betrachtung, в котором речь идет не о медитации или созерцании, как можно перевести название, но о взгляде на мир, как на мировой спектакль, в котором все мы – паяцы. Здесь уже налицо будущий квиетизм Кафки, его убеждение в том, что всякое действие бесполезно и что все – суета сует, в которой лучше не принимать участия.
Кстати, он категорически отказывался от проповедничества, полагая, что обобщение всегда лжет, подавляет, что угнетение начинается с торжества Истины над Человеком. Он категорически отказывался обнародовать свои убеждения, ограничиваясь лишь колебаниями и сомнениями. Кафка вообще считал себя недостаточно мудрым, дабы наставлять мудрости, в отличие от профессионалов философских ранжиров и фаланг.
В одном из высказываний, записанных в 1920 году Кафка говорит о своем стремлении "достичь такого изображения жизни (и обязательно убедить других в правдивости такого изображения в литературе), в котором жизнь, по-прежнему сохраняющая свои естественные, полноценные подъемы и спады, виделась бы одновременно как отчетливое ничто, как сон, как парение в дымке".
Наши многие годы обвиняли Кафку в том, что он бьш субъективным эгоцентриком, обломком большого мира, потерянной щепкой, равнодушным созерцателем, мелким буржуа, охваченным разъедающим декадентским пессимизмом. А он был провидцем, проникшим в глубочайшие тайны мировой истории человеческой души.
Он был мечтатель, сновидец, и его творения по своему характеру, по замыслу и воплощению, часто – совершеннейшие сны; они до смешного точно воспроизводят алогичное, рождающее чувство неловкости сумасбродство сновидений – эту причудливую игру теней, отбрасываемых жизнью. Но исполнены они разумной – пусть ироничной, даже гротескной, но – разумной, отчаянно разумной, всеми силами стремящейся к Доброму, Правильному, Богоугодному добропорядочностью, проявляющейся уже в добросовестно-деловитом, с странно подробном, корректном и ясном стиле изложения, своим точным и почти официозным консерватизмом, часто напоминающим прямо-таки Адальберта Штифтера; и не к расцветающему где-то мистическому "голубому цветку" стремится душой этот мечтатель, а к "благословенной обыкновенности".
Религиозный юморист – такое определение, быть может, наилучшим образом выражает глубинную суть этого поэта.
Какой уж тут юмор? Кафка принадлежал к интровертивному типу религиозного пророка, для которого апокалипсис уже наступил. Киркегоровские мотивы у него перемежаются шопенгауэровскими: "Еще не родиться – и уже быть обреченным ходить по улицам и разговаривать с людьми"; "Моя жизнь – это сомнение перед рождением". Киркегоровская рефлексия уживается в нем с шопенгауэровским фатализмом и сам он часто не просто говорит словами Шопенгауэра ("возможно лишь то, что происходит"), но и является яркой иллюстрацией шопенгауэровской мысли: "Что каждый есть, того он именно и хочет".
Как и Шопенгауэр, он был постоянно не в ладу с собой. Как и Шопенгауэр, уравновешивал страх смерти страхом жизни.
Трудно выносить такую степень опустошенности, когда страх смерти преодолевается страхом жизни. Несмотря на горькие слова Кафки, что он "навеки прикован к самому себе", он столь же часто чувствовал, что "не очень способен выносить полнейшее одиночество".
Это тоже сближает его с Шопенгауэром, как и отношение к жизни как пелене, сну, покрывалу Майи.
Магия, миф, сон – вот глубинные сущности подлинного реализма.
Его искусство – искусство проклятого мира, его сознание – сознание этого проклятья.
Такие безумцы, как он, видят мир очень ясно, яснее здоровых. Форма, покров, оболочка, шкура для них как бы исчезают. Ничто уже не мешает зреть самое сущность, нутро. Отсюда – тошнота…
Чтобы уяснить Кафку, мало его искусства. Его дневники, его письма, его, жизнь сплавлены воедино с его творчеством, которое нельзя понять в отрыве от них.
Чем дольше длится безысходность…
Это ложь, что его отчаяние было беспредельным. Те, кто хорошо знаком с его творчеством, знают, что отчаяние и надежда всегда в нем сосуществовали, друг другу не уступая.
БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ
В своем постижении человеческой несвободы модернизм стал продолжением философии жизни в искусстве. Он отразил то, что почти всегда ускользало от реалистов, – подчиненность человека внутренним иррациональным силам, которые трудно преодолеть и с которыми опасно бороться. Вырвав человека из общества, из истории, из времени, из пространства, модернизм вскрыл его внутренний мир, оставив за дверьми морга, как излишнюю одежду, его социальность, рациональность, рассудочность, идеологичность. Гиперболизацией человеческого отчуждения модернизм компенсировал утопическое мессианство лжепрометеев. Это был не упадок искусства, но искусство человеческого упадка. Осознанного упадка-падения.
Философия в образах – сила ее воздействия максимальна. Видимо, философия грядущего будет именно такой: слияние образа с идеей.
Прикованный личной болью к трагедии жизни, Кафка острее других ощущал абсурдную компоненту бытия. Ведь только страдание делает человека визионером. Бесцельность пережитого зла превратила его в пророка пессимизма. Как ягель накапливает продукты ядерных взрывов, так он копил в себе абсурд существования. И то, что из этого накопления получилось, – не было просто новым искусством, это была новая модель мироздания – субъективная, но неопровержимая.
Он увидел в мире то, что Сартр хотел узреть в Тошноте: нутро вещей. Его субъективный мир – это глубинная иррациональность, трансцендентность мира.
Кафкианская модель мира неоднозначна, конъюктивна, полисемична, любая ее однозначная трактовка недостаточна. Даже дисгармоничность, даже фундаментальность одиночества и отчуждения, даже сущностная антиномичность личности и общества, даже принципиальная непознаваемость – только единичные трактовки. Ведь логика абсурда может быть воспринята как глубочайшая сатира (сатира и есть!), даже враждебность мира человеку – как величайшая боль! В отличие от Дедала, даже трагедийность Кафки неокончательна: изучая метафизические проблемы жизни и смерти, он ведь не решает их, но оставляет решение нам.
Когда Томас Манн дал одну из книг Кафки Альберту Эйнштейну, последний вскоре вернул ее со словами: "Я не смог прочитать ее, ум человека недостаточно к этому готов". Дело не в том, что Кафка был недоступен его пониманию, – просто несовместимость структур личностей препятствовала резонансу предельно амбивалентного и напряженного "мира Кафки" со "здоровым", не склонным к излишней рефлексии "миром Эйнштейна".
Страдание возвышало Кафку над безразличием, которым живет этот мир. Оно – свидетельство не болезненности и беспорядочности его искусства, но, наоборот, – высокой ответственности и глубины. Вопреки всем своим сомнениям, он творил, как подвижник – самозабвенно, вдохновенно и увлеченно. "Я уважаю лишь те мгновения, когда создавал". И подвижничество это тоже документировано: "Писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало".
Великий художник жил в нем по соседству с визионером. Внезапные прозрения его героев – спонтанный поток интуиции их творца.
Это творчество-пророчество, творчество-ясновидение, творчество-откровение, творчество-озарение. В Исправительной колонии предвидение сущности и конца тоталитаризма, в Отчете для Академии осознание сущности свободы, в Процессе – бюрократии, в Замке – фашизма и социализма. Это творчество-обнажение, творчество-страдание, творчество-крик.
Но как бы его не трактовать, сегодня мы знаем: его провидение бледнеет перед нашими реалиями, чего не коснуться…
Дабы узреть сущность, надо видеть не так, как все. Он был обречен видеть не так – судьбой, генами, национальностью, жизнью, временем – всем. Всё это отстраняло его от мира – отсюда необыкновенная зоркость.
Но кроме личных, индивидуальных особенностей, важным истоком его творчества было коллективно-бессознательное: беспочвенность европейского еврейства, слабость веры при глубинной тяге к ней, может быть, еще более глубокое – веками внушаемое – чувство греховности нации. Но отсюда и ощущение в себе иудейского пророка, неизменно подчеркиваемое его апостолом Максом Бродом.
В сущности все его герои – чистые юнговские архетипы: мессии, безуспешно штурмующие небо (землемер К., Йозеф К.); утомленные, жаждущие покоя боги (отец в Превращении ив Приговоре, чиновники в Замке и в Процессе); взыскующие спасения и добродетели (почти все женские персонажи). Все они из сизифова рода, а их неудачи восходят к наказанию человека за то, что грешник так и не оплатил плод с древа познания добра и зла.
Даже имена его героев – только символы: Йозеф К. – Joseph-stadt, пражское гетто, Сордини – сурдинка, "труба" последнего суда, Амалия легендарная Амальбурга, преследуемая любовью наследника Бога на земле, Замза – sam isem, "я один". Возможно, эти трактовки излишне буквальны и слишком узки для кафкианской многозначности, но даже в буквальности своей они бесконечно содержательны.
Болезненно обостренная впечатлительность, интуиция боли, открыли ему огромный тайный мир, но даже в самых ярких своих откровениях он недооценивал чудовищности человека: предугадав насилие, страх, растоптанность, он не мог представить себе количеств поверженной плоти, всепроникающей мощи оскопления. Досталинский сюрреализм был правдив, но бестелесен. Потребовались мы и еще одно поколение визионеров, потребовались Платонов и Шаламов, чтобы апокалипсис стал личным опытом, не оставляющим альтернатив насилию.
Кафка подготовил искусство боли, но жгучесть и непереносимость пришли позже – вместе с тем, от чего наши остервенело открещивались, – с искусством абсурда.
Впрочем, Кафка не верил в искусство-искупление и в искусство-спасение. Вмешательство в жизнь бесполезно – для этого она слишком "жизнь". Искусство не способно что-либо изменить, все высокие идеалы разрушаются при столкновении с ней. Художнику только и остается, что бодрствовать, когда мир спит, чтобы стать бесполезным и беспристрастным свидетелем очередной жестокости.
Погрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли, вот так быть всем существом погруженным в ночь. Вокруг тебя спят люди. Маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами; а на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, а потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимое множество людей, целая армия, целый народ, – над ними холодное небо, под ними холодная земля, они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь, ты один из стражей, и чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен.
Кафка эпичен – это-то и страшит. Он не желает знать частностей – не в них дело, его задача – всеобщность. То, что простительно мировой литературе – изображение фрагментов мировой трагедии, – становится непозволительным, когда такие, как Кафка, переходят к синтезу. Обобщать головное и грядущее счастье народов – на здоровье, обобщать реальную сегодняшнюю боль – упаси вас Бог…
У Кафки мировая трагедия происходит в сфере обыденного. Таинственная Судьба разложила свои папки и вершит дела на грязном, заплеванном чердаке. В любой точке каж-додневности мы сталкиваемся со всей силой миропорядка. И как раз в молниеносном сближении самого всеобщего и самого каждодневного заключена, быть может, характернейшая особенность искусства Кафки.
Я охочусь за конструкциями, писал он. "Всё мне кажется сконструированным. Любое замечание, любой случайный взгляд всё во мне переворачивает, даже забытое, совершенно незначительное".
Верфель, Брох, Крелль, Кафка, Музиль, Хандке – это уже вполне новый роман, хотя еще с сюжетом и героем, но уже без достоверности и однозначности того и другого. Хотя даже у Бекке-та нет недостатка в событиях, однако события эти символичны и саморазрушительны: каждая фраза отрицает самое себя, каждый персонаж обратен самому себе.
Можно сказать, что литература была для него единственной родиной, может быть, землей обетованной. Кафка писал о Моисее:
То, что ему пришлось увидеть землю обетованную лишь накануне смерти, представляется неправдоподобным. Единственный смысл этой высшей перспективы – понять, насколько человеческая жизнь является лишь одним кратким мгновением; такая жизнь (ожидание земли обетованной) могла бы длиться бесконечно, но всегда кончалась бы одним мгновением. Моисей не пришел в Ханаан не потому, что его жизнь была слишком короткой, но потому, что она была жизнью человека.
Комментарий Ж. Батая:
Это разоблачение тщетности не только того или иного блага, но всех целей, тоже лишенных смысла: цель всегда безнадежно плавает во времени как рыба в воде, как некая точка движется во вселенной: ведь речь идет о человеческой жизни.
Как все гениальные подвижники, он был предельно требователен к своему искусству – отсюда страх "за каждое слово". Вот последняя дневниковая запись, относящаяся к июню 1923 года:
Все более боязлив при писании. Это и понятно. Каждое слово, повернутое рукою духов – это взмах руки и является их характерным движением, становится копьем, обращенным против говорящего.
М. Брод:
Для Кафки было абсолютно невозможно говорить нечто незначительное. Мне не приходилось слышать из его уст слов, не имевших глубокого смысла. Даже тогда, когда он говорил о самых повседневных вещах. Для него (и для того, с кем он говорил) не существовало повседневности. И при этом он никогда не принуждал себя к отточено остроумным сентенциям, все происходило совершенно непринужденно и легко, его слово изначально рождалось самобытным и не нуждалось в поисках оригинальности. Если он не мог сказать ничего существенного, то предпочитал молчать.








