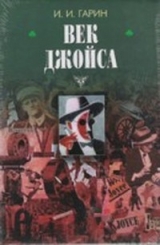
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 64 страниц)
Пессимизм был не только данью времени, но мироощущением Пруста. Даже в своем затворничестве, даже среди элиты (а, возможно, благодаря ей) он остро ощущал распад. Нет, не разложение верхов, а тотальное разложение. Сатирический гротеск "Содом и Гоморра", как явствует из самого названия, это оплакивание мира. Темы одиночества, недостижимости возвышенной человеческой близости, обреченности любви, преломленные через собственную трагическую судьбу, решены в духе углубленного психологизма. Судьба Марселя – это умирание надежды. Любовь Свана – это неоправдавшиеся ожидания, утрата иллюзий. Непреложность разочарования, неуловимость истинного, относительность нравственного – вот те мотивы, которые Пруст привнес в искусство. И еще – герметичность, человеческую закрытость, непостигаемость человека человеком. Процветают худшие, лучшим дано страдать – может быть, и не ново, но всегда актуально. Все прустовские герои, вызывающие симпатию, терпят фиаско, а сам Марсель, взыскующий всеобщей добродетели, обнаруживает, что окружен монстрами. Прожитая жизнь оказывается фикцией, время утраченным безвозвратно. Можно назвать это декадентством, но тогда декаданс и есть мироощущение, стоящее над временем. Сам Пруст тонко понимал этот "нюанс": для него утраченное время – неизменная вечность, а искусство единственное средство обрести ее, то есть цель и смысл проживаемой жизни. Своей жизни.
Мудрость нельзя получить в готовом виде, ее открываешь сам, пройдя такой путь, который никто не может пройти за тебя, от которого никто не может тебя избавить, ибо мудрость – это свой взгляд на вещи.
Да, мир Пруста сжат до пределов субъективности, и тем не менее "В поисках утраченного времени" – эпос, но не материи, а духа. Внутреннее, душевное время превращается здесь в новую Книгу Бытия. Но при всей энциклопедичности этой книги она не событийна, а психологична: книга переживание человека, который всегда и везде одинок.
Конечно, и до Пруста субъективность была самой привлекательной стороной искусства, рождающей наиболее глубокие переживания – вспомним ту же "Смерть Ивана Ильича", – но именно Прусту удалось с гениальной проникновенностью превратить свои переживания в эпос духа.
А разве не упреждал Пруста Жан-Поль с его медлительным течением мысли, зыбкостью, погруженностью во внутренний мир, самоиронией, взглядом со стороны? А Шенье – с его углубленностью в душу героя и воспоминаниями о прошлом? А Бодлер, уже полностью предвосхитивший утраченное время?
Поздний Джеймс – это уже вполне ранний Пруст: тот же огромный интерес к процессу восприятия жизни, богатая ассоциативность, причудливые скачки памяти и времени, лепка образов из ощущений.
Можно сказать, что Пруст – не для нашего века, а для века XVIII-гo, читающего медленно и обстоятельно, обгладывающего книгу, как собака кость, но это лишь первое впечатление от формы. Содержанием же Пруст – сын своего века, влиятельнейший среди модернистов.
Не потому ли такое обилие влияний, такое количество экспериментов со временем, памятью, сменой перспектив: Письма потерянному другу Бессона и Смерть Артемио Круса Фуэнтеса, фильмы О.Уэллса и Ф.Феллини, ассоциативность Фолкнера и Дос Пасоса, разрыв причинных связей Ионеско и Беккета, аналитика памяти и беспамятства Колетт, Кеннена, Гайслера, Бассани, Шеллюка, Ленца…
Память как защита от мира. Заслон. Убежище. Броня от вторжения грубой действительности.
Вирджиния Вулф, чья искусная миссис Дэллоуей – прямая дань Прусту, писала:
Что касается Пруста, то все дело в том, что у него сочетаются наивысшая чувствительность с наивысшим упорством. Он исследует эти летучие оттенки до последнего предела. Он так же прочен, как струна, и так же мимолетен, как жизнь бабочки. И он, я думаю, будет и влиять на меня, и заставлять меня выходить из себя из-за каждой моей фразы.
Р. М. Рильке:
С неизменным вниманием я следил за творчеством Марселя Пруста, все тома которого у меня имеются. Я всё еще питаю к нему чувство восхищениям… будучи великим организатором ассоциаций, он доказал свою способность заставить следить за потоком сознания во всей его обычно не замечаемой широте; при этом он держит читателя под очень строгим контролем, так что тот никогда уже не сможет отклониться от главного направления, указываемого ему автором.
Почему все попытки отыскать прототипы прустовских героев – Вентейля, Бергота, Эльстира и т. д. – потерпели неудачу? Потому что огромная культура самого Пруста, синкретическая мощь его сознания, способность придать единичному случаю значение закона и увидеть в "объективном законе" исторический хаос, синтетическое искусство соединения разных начал делают сам поиск невозможным.
Знаменитая музыкальная фраза из сонаты Вентейля, по мнению авторов специальных исследований на тему "Пруст и музыка", никогда не существовала и представляет собой созданный Прустом "образ музыки", в основе которого может быть и музыка Бетховена, о которой так много говорится в романе, и музыка Вагнера, и Сен-Санса, и Дебюсси; Бергот – это и Франс, и Рёскин, и Бергсон и т. п.
При всей близости потоков сознания героя-рассказчика и автора они далеко не адекватны: и в отношении "сына века" Пруст остается верным своему стремлению к обобщению, синтезу, высшей художественности. Из "притупленности социального мышления" Пруста возникает огромное полотно жизни общества притом отнюдь не на уровне внешних проявлений, классовости, историчности, "он сказал – она пошла" – на уровне проникновения в суть человеческого, к классовости, историчности, объективности инвариантной.
Пруст был постимпрессионистом искусства и его великим
Свидетелем.
Если бы все современные картины были уничтожены, критик двадцать пятого века мог бы, основываясь только на произведениях Пруста, вывести заключение о существовании Матисса, Сезанна, Дерена и Пикассо.
Даже в обширной, исповедальной литературе мало кому удавалось так блистательно и так широко рассказать о своих тончайших переживаниях, о своей любви и страдании, пройти по всем пластам собственного сознания, как это удалось Прусту. Его роман – торжество Горгия и Беркли: огромный, с тысячами оттенков мир, полностью выведенный из сознания. Но ведь и все самое существенное для нас в мире – любовь, привязанность, переживания, сомнения питается той же субъективностью, этим первоисточником идеализма.
Я из себя же самого извлекал всё своеобразие, все характерные особенности любимого существа, всё то, что делало его необходимым для моего счастья.
Любовь превращается в нечто огромное, но мы и не думаем о том, какую маленькую роль играет в ней реальная женщина. Альбертина была всего лишь силуэтом, и всё, что напластовывалось на него, было создано мною, ибо то, что в любовь вносится нами самими, преобладает над тем, что исходит из любимого существа.
Воистину торжество субъективного идеализма!
Множественность мира, преломляясь через ощущения личности, обращает ее саму в совокупность различных, непохожих друг на друга ликов, носящих одно и то же имя, но бесконечно разнообразных, подвижных, нередко взаимоисключающих.
Только захворав, мы отдаем себе отчет, что живем не одни, но прикованные к существу из иного царства, отделенному от нас целыми безднами, к существу, которое нас не знает и открыться которому невозможно: к нашему телу.
В отличие от соцреалистов, Пруст не фетишизировал свое мировоззрение и не освящал чувство безнадежного одиночества в мире. Обладая деликатнейшим духовным складом и утонченным изяществом воспоминаний, он чутко реагировал на мельчайшие душевные переживания окружающих. Собственное страдание, признавался Марсель, открыло ему глаза на страдание другого. Утратив иллюзии, он не утратил то, что утратили наши, – чувствительности, рассматриваемой нами как слабость. В этом есть какая-то закономерность: грядущий хам, обратившийся в хама настоящего, – оптимист-разрушитель, не знающий ответственности и обязательств. Наоборот, человек-боль – пессимист, утративший со временем надежду, но не сострадание, пессимист, живущий тоской по прошлому и тревогой о настоящем и будущем.
Самые будничные действия и предметы влекут за собой мириады мыслей, ощущений, воспоминаний, дремлющих в сознании лиц, к которым они относятся, и абсолютно безразличных другим… Основа романа Пруста – глубокий резервуар восприятий, его характеры – поднимаются из глубин этого резервуара.
В "мириаде впечатлений", "потоке атомов" выделяется тот или иной "момент", "экстаз" – не обязательно переломный или значительный, часто почти неразличимый, но делающий жизнь значительной, насыщенной, полной. Рисуя погружение в "момент", Пруст, Вирджиния Вулф, Лоуренс не ищут экстремумов и уникальных ситуаций, началом может быть малозначительный нюанс: изменение освещения, звук, беглый взгляд – неповторимость момента.
Для Пруста (и его героев) содержание сознания значительнее "реальности" и "материи", искусство – жизни. Как у Оскара Уайльда, искусство – первично, жизнь – вторична. Служанка Франсуаза может полагать, что персонажи книг "нереальны", Сван же считает, что гораздо менее реальны материальные существа, остающиеся вне его "я". Истина внутри, а не вне нас. То, что происходит внутри нас, гораздо важнее того, что проходит перед моими глазами, когда я отрываю их от книги, – говорит Сван.
Рассказчик сидит недвижно, в руках его книга. Истину и природу он ищет там. "Действует" только его сознание и только в этом действии находит себя герой, в нем он участвует. "Эти послеполуденные часы были более наполненными драматическими событиями, чем целая жизнь. Это были события в книге, которую я читал". Так же и потрясшая Свана музыкальная фраза, в реальное существование которой поверил Сван. И побывав в театре, рассказчик познал истины из "мира более реального, чем тот, в котором я жил". Искусство, по Прусту, – единственный способ "выйти из себя" и "увидеть других", убедиться в существовании других людей, поймать "утраченное время".
Не будучи сюрреалистом, Пруст большое внимание уделял фантазии, воображению, сну, бессознательному. Он дотошно "исследовал" процесс всплывания "нечто" из глубин подсознания, пытался понять, что есть "порыв", творческий импульс, озарение. Сюрреалисты ориентировались на Фрейда, Пруст на Бергсона, с которым был знаком с 1891 года, а после женитьбы философа на кузине Пруста вступил в родство.
Впрочем, проблема "Бергсон и Пруст" значительно сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Неверно интерпретировать Поиски утраченного времени как художественную версию бергсонианства. Во-первых, Пруст – пусть без философских обобщений – в своем творчестве упредил ряд идей Творческой эволюции. Во-вторых, при всем своем "бергсонианстве", он никогда не отказывался от определяющей роли разума в художественном творчестве: "моя книга – это произведение догматическое, это конструкция".
Тем не менее "память", "длительность" и "интуиция" в их философском и художественном смысле – важнейшие понятия для великого мыслителя и не менее великого писателя.
Абсолютное может быть дано только в интуиции, тогда как все остальное открывается в анализе. Интуицией мы называем род интеллектуальной симпатии, путем которой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого. Анализ же, напротив, является операцией, сводящей предметы к элементам уже известным.
Интуиция есть инстинкт, сделавшийся бескорыстным, сознающим самого себя, способным размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно.
Инстинкт отливается по форме жизни. В то время как интеллект трактует все вещи механически, инстинкт действует органически. Если бы пробудилась спящее в нем сознание, если бы он обратился вовнутрь, на познание, вместо того, чтобы переходить во внешнее действие, если бы мы умели спрашивать его, а он умел бы отвечать, он выдал бы нам самые глубокие тайны жизни.
Согласно Бергсону, разум улавливает лишь неподвижную, внешнюю, объективную сторону бытия; интуиция необходима для "схватывания" сути, не сводимой к общеизвестному, для проникновения в "длительность", содержательность, подвижность – в жизненность, творческий порыв, сознание, память.
Длительность есть "внутренне присущая самому изменению память", непрерывность течения, не содержащего текущей вещи и не предполагающего состояний, через которые переходят: ибо вещи и состояния суть только мгновения, выхваченные из перехода, – сущность же времени – длительность сама по себе, освобожденная от определенности. Длительность – поток состояний, необратимое направленное эволюционное изменение, в котором всегда имеется что-нибудь новое, внутреннее время, испытываемое нами, развертывающееся в нас.
Длительность предполагает сознание; и уже в силу того, что мы приписываем вещам длящееся время, мы вкладываем в их глубину некую долю сознания.
Длительность является памятью, но не памятью личности, внешней по отношению к тому, что она удерживает, и отличной от прошлого, чье сохранение она утверждает; это память внутренне присущая самому изменению, память, продолжающаяся "вперед" и "после" и препятствующая им быть чистыми мгновениями, появляющимися и исчезающими в виде постоянно возобновляющегося настоящего.
Мелодия, которую мы слушаем с закрытыми глазами, не думая ни о чем другом, почти совпадает с этим временем, представляющимся самой текучестью нашей внутренней жизни; но у мелодии еще слишком много определенности. Чтобы найти абсолютное время, нужно предварительно сгладить различие между звуками, затем уничтожить характерные признаки самого звука и удержать из мелодии только продолжение предшествующего в последующем и непрерывный переход, множественность без различенности и последовательность без раздельности. Такова непосредственно воспринимаемая нами длительность, не зная которой мы не имели бы никакого представления о времени.
По-Бергсону, звук, слово, язык – "материализуют" живую и подвижную длительность. Искусство дано человеку, чтобы – в жизненном порыве, с помощью интуиции, интеллектуального инстинкта – установить непосредственный контакт с сущностью, длительностью, мимолетностью – всем тем, что не поддается "обработке" рассудком.
Всякое искусство, будь то живопись, скульптура, поэзия или музыка, имеет своей единственной целью устранять практически полезные символы… Искусство, несомненно, есть лишь… непосредственное созерцание природы.
Длительность – истинное, внутреннее, непрерывное время, состоящее из "текучести оттенков", захватывающих друг друга. Длительность – время личности с ее бесконечным взаимопроникновением разнообразнейших восприятий, настроений, впечатлений. Герои Пруста – непрерывно изменяются, но не под воздействием внешнего мира, а в результате непрерывной работы сознания и подсознания, бесконечного движения "живой деятельности" внутреннего времени, памяти.
С этой точки зрения Пруст рассматривает и свою жизнь, свое прошлое "утраченное время". Для того, чтобы найти, обрести его вновь, прустовский герой должен поставить себя над ним, что возможно лишь как результат действия памяти. Как и Бергсон, Пруст признает способность воспроизводить прошлое и его эмоции во всей целостности и оттеночности только за одним видом памяти. Он называет эту память непроизвольной. Произвольная память (или память рассудка), по мнению Пруста, лишает прошлое всех его красок, дает лишь "неточные факсимиле"… Непроизвольная память делает возможным полное переживание прошлого. Для пробуждения непроизвольной памяти достаточно случайного толчка.
Внутренняя жизнь героя – "дление" памяти, непрерывная цепь ассоциаций, чувство слияния с сущностью прошлого. Воспоминание делает его счастливым более счастливым, чем во время вспоминаемых событий. В Обретенном времени он осознает, что именно воспоминание – непроизвольное, неожиданное, внезапное позволяет пережить прошлое в его "реальной" сущности, уничтожая действие физического времени и материи, возвышая сознание над ними.
Как и Бергсон, Пруст различает две формы человеческого сознания. Одну связанную с практической деятельностью, целенаправленную, "заинтересованную". Эта форма сознания, мышления, видения – общественна, традиционна, обусловлена опытом многих поколений. В силу своей "практичности" она относительна и не позволяет постичь подлинной сущности окружающего мира, усваиваемой лишь интуитивно. Для этого сознание должно освободиться от "привычного", "обманчивого" видения. Постепенный процесс этого освобождения и призваны отразить многотомные "Поиски утраченного времени".
Материализм, любой материализм – не только Бюхнера или Фохгта вульгарен. Он вульгарен превращением сознания в разновидность желудочного сока или желчи, его рационализацией, упорядочением, превращением в "чистую доску". Но сознание изначально непредсказуемо, иррационально, непоследовательно, нелогично, зыбко. Просчитать и предвидеть его нельзя.
Задача Пруста – разыскать характерные закономерности жизни сознания, скрываемые от нас автоматизмом "обыденного" мышления. Таким образом, Пруст стремится анализировать человеческую психику не в ее общественной, социальной обусловленности, как анализируют ее писатели XIX в., и в первую очередь – Бальзак и Стендаль, а в ее "истинной", как утверждает он, сущности. Для постижения этой "истинной" сущности психики писатель должен, согласно Прусту, постоянно иметь в виду временную текучесть личности и деятельность подсознания. После жуткого маскарада – приема у принцессы Германтской, во время которого рассказчик с трудом узнает в трясущихся и нарумяненных манекенах некогда знакомых ему лиц, он получает представление о том, что люди занимают во времени несоизмеримо большее место, чем в пространстве. "Обретенное время" заканчивается решением художника, пробудившегося в Марселе, изобразить своих персонажей "безмерно продолженными во времени". Пруст считает, что в человеке всегда есть неизвестные, не выявленные стороны, которые реализуются лишь последовательно ("Пленница"). Поэтому никто не может угадать тех новых черт характера, которые могут возникнуть в течение человеческой жизни. Действительно, трудно предвидеть все те новые обличил, в которых будут "реализованы" личности Свана, барона де Шарлюса, герцогони Германтской, Блоха, Леграндена. Герои "Поисков" (и в первую очередь, сам рассказчик) как бы растворяются во времени, вопреки очевидному намерению Пруста преодолеть зыбкость, развеществленность импрессионизма.
Изменчивость жизни сознания – одно из "обретений времени" Пруста. "Всё изнашивается, всё гибнет, всё разрушается", – такова глубинная суть "утрачиваемого времени". Утраты следуют за утратами: умирает горячо любимая мать, уходит любовь, рассеиваются иллюзии… Жизнь немыслима без утрат и связанных с ними страданий. Никакие социальные преобразования не способны устранить угрозы жизни, радикально изменить главное в ней – внутренние чувства человека.
Но та же подвижность сознания дарит человеку чудо многообразия, красоты, совершенства. Главное "обретение времени" – искусство, художественность, культура.
Марсель относится к жизни как чуду, способному осуществиться. Необыкновенная чуткость к красоте и "поэтическая впечатлительность" разжигают его мечтательность и питают работу воображения. Красота мира заставляет искать скрытое за ним и в его основе Совершенство. "И даже в самых плотских моих желаниях, всегда направленных в определенную сторону, сосредоточенных вокруг определенного впечатления я мог бы различить в качестве перводвигателя одну идею – идею, ради которой я пожертвовал бы жизнью и самым центральным пунктом которой, как во время моих послеполуденных мечтаний в саду, в Комбре, была идея совершенства".
Совершенство – в равной мере эстетический и этический принцип Пруста. Лучшим миром он считал такой, когда ни у кого в душе не останется зла, злопамятства. Глубочайшая интроспекция, изощренная наблюдательность позволили Прусту увидеть смутность границ, разделяющих добро и зло, предвзятость мысли человеческой, мощь сознательной и бессознательной лжи.
Ложь – существенное в человечестве. Она играет может быть такую же роль, как и поиски наслаждения, а, впрочем, диктуется этими поисками. Лгут, чтобы уберечь свое наслаждение… Лгут всю жизнь; главным образом, может быть, только лишь, – тем, кто нас любит…
Уже в Жане Сантее полностью выражено плюралистическое отношение Пруста к истине и злу: истина и мораль, волнующие одних, вполне могут вызывать неудовольствие других. Плодотворна не моральная убежденность, а моральная неопределенность, моральное искание. Жизненная нравственность так или иначе связана с нарушением общепринятых нравственных законов. Жан Сантей лжет, одновременно со слезами на глазах клянясь своей любовнице, что единственно ужасная вещь есть ложь. И это – не испорченность, это нормальное человеческое свойство.
Без угрызений совести – если бы мы не заботились о соблюдении важных запретов – мы не были бы людьми. Но мы бы не смогли всегда подчиняться этим запретам и, если иногда у нас не хватало бы смелости их нарушить, у нас не было бы выхода. Кроме того, нам не хватало бы человечности, если бы никогда не лгали или однажды не чувствовали себя неправым.
В основе добродетели заложена наша способность разорвать цепи добродетели. В традиционных выводах никогда не учитывалась эта нравственная пружина: идея морали от этого тускнеет.
Движение чередующихся верности и бунта, составляющее суть человека, зиждется на игре – то и дело вспыхивающих оппозиций. Вне этой игры мы задохнулись бы под логикой законов.
Если мрак ярости и свет мудрости наконец не совпадут, как же мы узнаем друг друга в этом мире? На самом верху осколки собираются воедино – мы познаем истину, состоящую из противоречий, – Добра и Зла.
У самого Пруста по этому поводу сказано, что в сердце Марселя зло было с чем-то перемешано, и это что-то – добродетель: совестливая и нежная душа тоже стремится убежать в "бесчеловечный мир наслаждения". Почему же бесчеловечный?..
Ж. Батай:
Зло кажется вполне понятным, но только пока ключ к нему – в Добре. Если бы ослепительная яркость Добра не сгущала еще больше мрак Зла, Зло лишилось бы своей привлекательности. Это сложная истина. В том, кто ее слышит, что-то против нее восстает. Тем не менее мы знаем, что самые сильные приступы чувственности случаются от контрастов. Движение чувственной жизни построено на страхе, вызываемом самцом у самки, и на жестоких муках брачного сезона (который скорее жестокость, а не гармония, а если последняя и возникает, то вследствие чрезмерности). Прежде чем создать союз, образующийся в результате смертельной борьбы, необходимо что-то разбить. В некотором роде мучительная сторона любви объясняется многочисленными злоключениями. Иногда любовь видится в розовом цвете, но она отлично сочетается и с черным, без которого оказалась бы бесцветной. Разве смог бы один розовый цвет без черного стать символом чувственности? Без несчастья, связанного с ним как свет с тенью, счастье превратилось бы в мгновенное безразличие. В романах постоянно описывается страдание, но удовлетворение почти никогда. В конечном счете добродетель счастья производна от его редкости. Если оно легко и доступно, то не вызывает ничего, кроме презрения и скуки. Нарушение правила само по себе обладает неотразимой привлекательностью, которой лишено длящееся блаженство.
Злодеи получают от Зла лишь одну материальную выгоду. Они стремятся причинить зло другому, но в конечном итоге это зло – только их эгоистическое добро. Мы можем распутать клубок, где в середине спрятано Зло, потянув за разные ниточки противоположности, туго переплетенные друг с другом… счастье само по себе не желанно и оно превращается в скуку, если не поверяется несчастьем или Злом, которое и вызывает в нас жажду счастья. Верно и обратное: если бы Пруст (и, может быть, в глубине души и Сад) не желал бы Добра, то Зло предстало бы перед нами как вереница пустых ощущений.
Тончайший аналитик любви, Марсель Пруст сделал парадоксальное, но извечно повторяющееся открытие: мы убиваем тех, кого любим. Причина того наш эгоизм, наше желание не быть, но иметь. Человек не только слеп в отношении предмета собственной любви – как слеп Сен-Лу в отношении Рахили, но и безжалостен к любимым. С одной стороны, "мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того, что любим", с другой, наша любовь таит в глубинах своих ненависть, отличающуюся лишь мерой, нашей культурой и страстью.
Человек – крот. Его слепота метафизична – он слеп к правде жизни, любви, к истине как таковой. Необходима невероятная по-трясенность, дабы как-то прозреть (увы, свойственная гениям интуиции или любви). Именно потому, что многим потрясенность, трепетание души недоступны, большинство неспособно увидеть реальность (в том числе реальность любви). Вот почему столь велика скотская компонента любви в человеке. Искусство, культура потому столь необходимы человеку, что они являются средствами прозрения, путями в реальность: "… задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть на самом деле, – наше действительное положение, или то, что мы действительно делаем".
Слепы не только отдельные люди и не только в отношении любви – слепы целые народы, слепы приводящей в растерянность слепотой перед тем, что есть: "народы… дают более обширные примеры – но идентичные тем, которые даются индивидами, – этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты".
Возвращаясь к слепоте любви, (одновременно – к различию точек зрения разных людей, разных видений ими любой ситуации), напомню прустовский пример: два человека – Марсель и Робер Сен-Лу – смотрят на Рахиль, для первого девушка – проститутка, встреченная им некогда в доме свиданий, для второго – небесное создание, воплощение недостижимого идеала:
Несомненно, это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели, и Робер, и я. Но мы пришли к нему по противоположным дорогам, которые никогда не вступят во взаимное общение.
Слепота в жизни, слепота в любви, слепота, не зависящая от наших способностей, даже от нашей проницательности, – вот о чем эпопея Пруста.
Начиная с Аристотеля, проницательные люди сознавали, что причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Это означает, что, чаще всего, мы любим не другого человека, но наше представление о нем. Любовь слепа еще и потому, что наше внутреннее состояние гораздо важнее сущности предмета любви. В конце концов, объект любви не так уж важен – форма легко принимается за содержание, а богатое содержание остается незамеченным вследствие ослепленности формой.
Любовь – одно из тех чувствований человека, которое невозможно объективировать, ибо оно заключено в чувствующем. Более того, любовь наделяет любимое существо свойствами, присущими самому любящему и никак не связанными с предметом любви. Любовь – это исключительно сознание любящего, все начинается и кончается в нем, тогда как любимая (любимый) – не более чем предмет, "запускающий" процесс, идущий только во мне самом:
Никогда даже самые милые моему сердцу возлюбленные не соответствовали силе моего чувства к ним. С моей стороны то была истинная любовь, ибо я жертвовал всем, чтобы только увидеться с ними, удержать их подле себя; я рыдал, когда мне случалось прождать их понапрасну. У них был дар будить во мне любовь, доводя ее до исступления, но ни одна из них не напоминала тот образ, который я себе рисовал. Когда я их видел, когда я их слышал, я не находил в них ничего похожего на мое чувство к ним, и ничто в них не могло бы объяснить, за что я их люблю. И все же единственной моей отрадой было видеть их, единственной моей тревогой – тревога ожидания их ("Содом и Гоморра").
Любовь к женщине – это проецирование на нее нашего внутреннего душевного состояния, "и самое важное не ценность женщины, а глубина этого состояния". Любовь – разновидность самообмана, самовнушения, "это любовь не к ней, а любовь во мне, мое внутреннее состояние".
Какие богатства человеческое воображение может поместить за небольшим куском лица какой-нибудь женщины.
Как ужасно обманывает любовь, когда она начинается у нас не с женщиной, принадлежащей внешнему миру, а с куклой, сидящей в нашем мозгу.
Но большей частью любовь и есть любовь к собственной выдумке, к "кукле". Пруст замечает, что истинное отношение между Марселем и Альбертиной живописец мог бы изобразить, лишь поместив Альбертину внутрь Марселя. Любовь у Пруста всегда рядом с искусством:
Сван, любуясь Боттичелли, думает об Одетте, и это сходство настолько опьяняло его, что он набрасывается на женщину, сидящую рядом с ним, словно ожившую героиню фрески великого художника и "начинает яростно целовать и кусать ее щеки". А рассказчик находит в своем сознании Альбертину в минуты, когда в полном уединении наслаждается произведениями Эльстира и Бергота.
Как и в искусстве, любовь – создание нашего сознания, внезапно возникший случайный субъект, на котором остановилось подсознательное влечение. Создавая фантазии о предмете любви, человек полностью пренебрегает реальностью, правдой, сомнительным прошлым…
Качества, которые мы сообщаем любимому человеку, являются результатом наших желаний, продуктом обманчивого воображения. Когда рассказчик подает своему другу Сен-Лу фотографию Альбертины, то он почти уверен, что тот найдет ее красивой. Однако, хотя Сен-Лу ничего не говорит, можно понять, что он разочарован и смотрит на Марселя как на безумца, верящего в реальность своих фантастических видений.
Реальность любви бедна, примитивна, физиологична, а сознание любви неисчерпаемо. Как никто из художников, Пруст воспроизводит чувство с бесконечным количеством его оттенков как непрерывный поток сменяющих друг друга, сталкивающихся, несовместимых, многогранных и многослойных состояний. Существует не столько Альбертин, Одетт, Рашелей, сколько смотрящих на них людей, – в одном Марселе существует "множество Альбертин в ней одной", причем эти разные Альбертины "мало похожи на то, чем были в прошлый раз". Впрочем, заключает Пруст, "наша общественная личность – тоже создание мысли других людей".
Но как можно судить, добро или зло, если невозможно уловить, что есть человек, если "каждый из нас – не одно существо, каждый содержит множество личностей, различных по нравственной ценности", если "Альбертина порочная существовала, то это не мешало существованию других, и той, в частности, которая любила со мной беседовать о Сен-Симоне".
Так складываются лики, образы, восприятия людей: есть Одетта Свана из репродукции Боттичелли и "другая Одетта" из дешевого борделя, образ в сознании и реальность, загадочная женщина, от которой пришел бы в восторг великий художник, и незнакомка, хорошо, однако, знакомая гулякам и распутникам…








