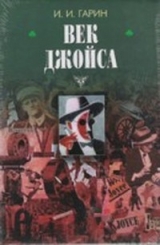
Текст книги "Век Джойса"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 64 страниц)
Искусство, говорят французы, состоит в том, чтобы не было видно искусства. Муки слова есть прежде всего муки мысли и чувства, поиск слова поиск правды.
Эксперимент со словом – не опыты языка, но искания жизни.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах…
Поэзия – это раздвоение, обоснование берется в основополагающей структуре, коей является двусмысленность.
Первостепенное значение языка для нового поколения "антироманистов" и выдвинутое понятие "письма" закрепили за ними наименование "школы письма".
Для новых романистов, писателей великой культуры, неутомимых и упорных искателей, "поэзия не предмет роскоши, живопись не предмет роскоши, музыка не развлечение бездельников". Для них поэзия, живопись, музыка – поиск, роман – исследование, изыскание. Бютор: "работа над формой романа приобретает отныне значение первостепенное", "подлинное назначение писателя – воздействовать на язык".
Почему новые романисты "добывали язык", "словами подражали тому, что художники делали с помощью камня, мозаики, мрамора", столь пристальное внимание уделяли "партитурам" Малларме, непрерывно совершенствовали "школу письма"?
Язык – это мировоззрение, идеология, образ восприятия мира. Каков язык, такова и свобода. И. Бродский говорил, что хороший стиль враждебен диктатуре. Язык – это страсти, облаченные в выразительную форму. Язык конкретизирует бесформенный поток непосредственного опыта в знаки и чувства. Слово и изображает, и выражает, и знаменует, и, кроме того, еще и проникает. Вместо описания писатель предпочитает "приручение слов": "Клочки реальности, прихотливо соединяясь союзом "и" или словом "потом", создают цельные портреты, образы целого, замкнутого серым забором с гвоздями существования". Язык, считал Пазолини, является первым и последним симптомом происходящих в обществе перемен,
В Критике и истине Р. Барт писал, что со времени Малларме происходит важнейшая "перестановка функций": "письмо" воссоединяет критика и писателя, писатель превращается в критика, художественное произведение занято описанием условий своего возникновения (этим занимался уже Марсель Пруст). В конце концов, у писателя и поэта "нет более ничего, кроме письма".
Наши считают, что башня (пробковая комната Пруста, например) – символ изоляции от жизни (а не идеальное условие для творчества). Соллерс же считал "школу письма" – способом борьбы против давления общества. "Добывать язык" говорить правду, быть активным. Соллерс: "Нам угрожают условия жизни, в которых преобладает пассивность".
П.-Х. Джонсон:
По умению воспроизводить взаимоотношения между человеком и обществом крупнейшим романистом XX века следует назвать Марселя Пруста. Правда, горизонт его был неширок, он вращался исключительно в среде высшей буржуазии и аристократии, а в рабочих видел не более чем обслуживающий класс. Но зато с какой силой изобразил он свой социальный микрокосм!
Ю. Нагибин:
А Пруст тем и велик, что в Германтах, Шарлюсах, Кон-сальви и прочих разглядел общечеловеческое; он пронизал весьма плотную защитную оболочку и увидел мягкую, податливую ткань жизни и безмерно увеличил наше знание о человеке. Герцога Германтского, высокомерного и грубого, тонкого и бестактного, добродушного и жестокого, можно обнаружить в каком-нибудь часовщике или шофере, а его очаровательную жену Ориану – в прачке или торговке рыбой. Ну а барон Шарлюс при всей своей экстравагантности на грани легкого безумия, своенравии и фантастических претензиях проглядывает в самых разных людях: от мелкого служащего до диктатора. Всё это помогает нашей ориентировке в миропорядке; непроходящее значение Пруста в том, что он дал мощный толчок к самопознанию человека и познанию окружающих.
Изоляция от жизни не только "освобождает искусство от заботы что-либо передавать или свидетельствовать", но и освобождает художника от социальных обязательств, служения идее, любого вида ангажемента. Творчество в затворничестве, на которое болезнь обрекла Пруста символизирует полную свободу и, следовательно, абсолютную правду художника. "Капитальное открытие" Пруста, переданное им в наследство "новым романистам", как раз и состоит в отстранении как способе приобщения к полноте духовной жизни. "Башня" стала символом свободы.
Впрочем, для них важен не Пруст, а его миф, его речь, его стиль, его текст. Ибо "об авторе и речи быть не может": "Лишь с того момента, как произведение становится мифическим, его нужно толковать как точный факт". Нет науки о Данте или Шекспире, считает Р. Барт, есть только "наука о речи".
"Вялость, притупленность социального мышления", "нежелание проникать в социальную сферу", "поверхностные оценки", "узкие критерии", "узость жизненного кругозора", "отсутствие интереса к общественной жизни", "книжность", непонимание причин, "разделивших людей на богатых и бедных", "мертвый груз культуры", хотя и огромной, – всё это инсинуации наших, для которых грандиозная эпопея человеческого сознания – всего лишь "изображение паразитизма буржуазной верхушки", "эпос паразитического жизнепотребления". Вот до чего договорились: "В эпосе Пруста люди не выступают как сила, формирующая своей деятельностью историческое время", "юный герой в конце концов находит лишь мертвую скорлупу без живого ядра, внешнюю форму без человеческой сути".
Хотя герои Пруста мало интересуются общественным, социальным, политическим, хотя бурная жизнь эпохи редко врывается на страницы его романов, даже мельчайшие штришки, мельком брошенные фразы свидетельствуют о том, насколько проницательнее политиков, революционеров, социалистов был Пруст. Вот на страницах Жана Сантея герой появляется в Палате депутатов и слушает речь "вождя социалистов". Речь трогает его призывами к справедливости, но вскоре он убеждается в безжалостности "ли-бертинов", еще громче взывающих к низшим инстинктам, еще сильнее воспитывающих неразборчивость в средствах. "Вождь социалистов" обесчеловечен больше других, исходящая от него угроза еще более страшна… Вот маркиз Сен-Лу, светский лев, увлекающийся социализмом, рассуждает о равенстве и свободе – идеалы этого аристократа "чище и незаинтересованнее" социализма черни, заключает Пруст, ведь его идеи не заражены низкими чувствами вожделений, животными страстями, желанием "грабить награбленное". А вот письмо Пруста Ж. Ривьеру, написавшему статью о Советской России. И здесь с проницательностью необыкновенной Пруст заявляет: социалистический идеал весьма подходящ "русскому темпераменту", но абсолютно враждебен идеалу французскому…
Эстетика Пруста антидекларативна и своим острием направлена против Ромена Роллана, всю жизнь "вытаскивающего" искусство из эстетских "башен". Роллан не случайно писал апологии Сталина, не разумея того, что не только живут в "башнях", но пытаются из краснокаменных "башен" перестраивать, перелицовывать жизнь. А Пруст знал, что "истинному искусству нечего делать с такими воззваниями [к "объективности"], оно свершается в молчании". "Башня", отстраненность, интровертирован-ность даны художнику не для ухода из мира, а как раз наоборот – для глубочайшего проникновения в самый главный мир, который внутри нас: "Лишь грубое и ошибочное представление всё помещает в объект, тогда как всё в сознании". Внешнее, объективное, социальное – фетиши жизни, единственная подлинная, настоящая жизнь – бытие "я", содержание сознания, память, интуиция, наши впечатления от мира.
Только впечатление – критерий истины. Впечатление для писателя – то же, что экспериментирование для ученого, с той разницей, что у ученого работа мысли предшествует, а у писателя идет следом.
Из "отражения", превозносимого реалистами, никогда не получалось чего-то большего, чем изображения фасада, поверхности явлений, из "реализма" слишком легко возникали "завер-бованность" и "ангажемент", а вот из субъективности художника, из его художественного инстинкта и незаинтересованной интуиции действительно вырисовывалась глубинная суть вещей.
Если писатель и поэт могут погружаться столь же глубоко в реальность вещей, как и сама метафизика, то иным путем, а помощь размышления, вместо того, чтобы усиливать, парализует порыв чувства, который только и может погрузить в глубь мира. Не с помощью философского метода, но какой-то инстинктивной мощью "Макбет", по-своему, является философией.
Запершие себя в Кремле десятилетиями предостерегали нас от "башен из слоновой кости", а оказалось, что лишь немногие, сумевшие "отгородиться" в них, знали правду… Недаром Владимир Набоков в одной из своих лекций предостерегал своих слушателей от желания бежать вместе с толпой к "общей цели", предложив взамен пожить хоть немного в "многократно отвергнутой башне из слоновой кости…".
Кстати, впервые подобную мысль высказал Анри Бергсон, требовавший тотальной отрешенности художника от социальной действительности, заинтересованности, "всякого практического интереса":
Если бы отчужденность была полной, если бы душа не соприкасалась ни одним из своих восприятий с действием, это была бы душа художника, какого еще не видел свет. Она преуспела бы во всех искусствах, или, вернее, она слила бы их все в единое искусство. Она воспринимала бы все вещи в их изначальной чистоте…
Эстетика Марселя Пруста – не отражение реальности, но обнаружение "истинной жизни" – жизни сознания, понимание духовной сущности, обретение "чего-то более глубокого, нежели [сами люди], что становится смыслом их жизни, их реальностью":
Величие подлинного искусства, того самого, которое г-н де Норпуа назвал бы дилетантской забавой, в том и состоит, чтобы найти, уловить и показать нам ту реальность, от которой мы и так далеки, и отдаляемся все больше по мере того, как растет и укрепляется воздвигнутая нами стена привычного сознания; ту реальность, которую нам, возможно, так и не придется узнать, пока мы живы, хотя это и есть наша жизнь, настоящая, наконец-то раскрытая и проясненная, единственная реально прожитая нами жизнь, та жизнь, что в каком-то смысле постоянно присуща всем и каждому так же, как художнику. Но другие не различают ее, потому что не стремятся познать. Оттого-то их прошлое захламлено бесчисленными негативами, бесполезными, потому что сознание так и не "проявило" их.
Свидетельством богатства художественного мира Пруста стали приуроченные к его юбилеям вернисажи шедевров мировой живописи, вошедших в Поиски. Только одна из таких выставок представила свыше ста картин из музеев десятка стран.
Не будет преувеличением сказать, что его герои воспринимают окружающий мир глазами любимых им художников. Так, на празднике у герцогини Германтской великолепный красный цвет ее вечернего манто напоминает герою краски Тьеполо, а пеньюар Одетты – "Семью" Ватто, выдержанную в красноватой гамме, с фигурой матери в длинном одеянии. "Перистые треугольники неподвижной пены", которые герой наблюдает из окна отеля в Бальбеке, он видит "вычерченными так же тонко, как Пизанелло писал пером или тушью", а проходящий мимо сенегалец заставляет барона де Шарлюса, с которым герой разговаривает о только что увиденном у Германтов знаменитом фонтане Юбера Робера, вспомнить вещи Фромантена, навеянные Востоком. Наконец, меняющиеся лица "девушек в цвету" в Бальбеке Пруст сравнивает с аксессуарами "Русских балетов", "иные из которых при дневном свете представляют собой обыкновенные бумажные кружочки, когда же гений Бакста погружает декорацию в бледно-алое или же затопляет ее лунным светом, то они накрепко врезываются в нее, точно бирюза на фасаде дворца, или томно распускаются бенгальской розой в саду". А вот "Голландский интерьер" Питера де Хоха, с раскрытой, как на знаменитых "Менинах", дверью на заднем плане, ведущей в залитую солнцем комнату, которую Пруст сравнивал с неким вторым планом пресловутой Сонаты Вентейля; пейзажи Брейгеля, вызывающие у писателя особый разрез человеческих воспоминаний, самих по себе ничем не примечательных, но полных очарования; вещицы Буше, при взгляде на которые герой тотчас припоминает вопросы, которые не успел задать недавно умершему Свану. Есть на выставке и картины принцессы Матильды, племянницы Наполеона (кстати, долго жившей в России), встреча с которой в Булонском лесу, где он гуляет со Сваном, производит такое впечатление на героя романа. С Петербургом связано и имя Ж. Берана, который там родился и чья интерьерная живопись, в том числе "Салон графини Потоцкой", также представлена на выставке.
Естественно, мы находим здесь немало произведений новой живописи прежде всего импрессионистов Сислея, Ренуара, Писсарро; "Весенний ледоход" Клода Моне и его же "Кувшинки" – о них герой разговаривает с г-жой де Камбре-мер. Та протестует против того, чтобы имя, по ее мнению, "бездарного салонного старика Пуссена" даже называлось вслух после имени Моне, которым она восхищается, однако готова переменить свое суждение, когда герой ссылается на Дега, ставящего Пуссена весьма высоко. Точно так же картины Э. Лами служат предметом меняющегося мнения герцогини Германтской, которая могла назвать его, а не Делакруа или Энгра, лучшим художником; в свою очередь путаница понятий и различное содержание, вкладываемое в слово "авангард", заставляли светскую публику предпочитать Энг-ру Делакруа, а герцог Германтский повесил картину Монти-челли, подаренную ему Сваном, лишь когда живопись его вошла в моду. Выставлена и картина Ж.-Д. Жерома, по поводу которой, по подсчетам Одетты, высказались сорок три из сорока пяти ее визитеров, и множество других, обсуждаемых героями романа, – Милле, Постава Моро, Рикара…
Среди отечественных "прустоведов" не нашлось ни одного, кто бы не бросил ему обвинения в "замене макрокосма больших общественных проблем микрокосмом внутренних переживаний", в "разрушении объективного соотношения величин". Что думал по этому поводу сам Пруст? Он называл глупостью утверждение, будто "крупный масштаб социальных явлений" позволяет глубже "проникать в человека". Единственный к тому путь – художественное постижение "глубин индивидуальности", предпочтение личности "масштабным событиям". Как бы противопоставляя тоталитариза-ции чувств, омассовлению человека, патриотической кровожадности истинные ценности, Пруст пишет оду поцелую матери, превращает ее редкую нежность в событие космической важности для ребенка, пред которым на второй план отступает мировая война, политика государств и всё то, к чему взывают все правительства мира, чтобы облегчить превращение цивилизации в скотобойню.
В конце концов только ценности, вышедшие из "глубин индивидуальности": субъективное чувство прекрасного и доброго, личное стремление к совершенству и правде, сострадание и сочувствие – только идущее из личности и субъекта выдержало поверки жизнью и временем, всё же общественное, социальное, масштабное, государственное оказывалось ложью, обманом, способом вербовки "соратников" для достижения несуществующей "общей цели".
Ромен Роллан требовал поставить перед обществом пример героической личности, звал к борьбе с эпидемией "неврастенического снобизма" и "паралитического бесстыдства", имея в виду обостренность чувств художников-модернистов, но именно последние, потерявшие, по его словам, точку опоры и собственное "я", творили шедевры XX века, он же славил убийц, превративших шестую часть суши в концентрационный лагерь, и звал мир брать с них пример…
ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯДа, немедленно взяться за перо меня побуждала концепция времени, которую мне к тому времени удалось создать. Время давно настало, и, как только я вошел в гостиную, при виде накрашенных лиц, напоминавших об утраченном времени, меня охватила тревога: не упустил ли я его? Чтобы наслаждаться своими пейзажами, разуму отпущено определенное время. Я прожил свой век как художник, бредущий по горной тропе над озером, которое заслоняют от него деревья и скалы. Вот оно мелькнуло сквозь просвет – и теперь расстилается перед ним, как на ладони; он хватается за кисти, но уже смеркается, а во тьме, над которой никогда не взойдет новая заря, рисовать невозможно!
М. Пруст
Время собирать камни и время разбрасывать камни. Время созидать и время разрушать. Время помнить и время забывать…
Время, нанизанное на воспоминание…
Прустовское ощущение уходящего времени – это острые утраты былого, грусть отдаления заветного, боль невозвратимости счастья, щемящая ностальгия по утраченной чистоте. Так в пьесах Чехова главное невидимое лицо беспощадно растрачиваемое, безвозвратно уходящее время.
Утрачиваемое время – эрозия, выветривание, рассыпание камня – песок, обильно покрывающий землю. Песок – кристаллы ушедшего времени…
Потерянное время как необратимость времен, как время, перевоплощенное в память.
Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.
До Паскаля, Гамана, Якоби, Киркегора человечество предвкушало happy end, после Шопенгауэра оптимизму пришлось потесниться: счастливое детство народов оказалась позади, впереди же – закат… Таково время Пруста, Джойса, Фолкнера, Элиота – тоскливое чувство потери, невозвратимости мгновения.
Таково и сюрреалистическое время, условная вечность. Это не становление и не пребывание в вечности, не прошедшее-настоящее-будущее, а скандальность времени. Время может здесь течь вспять, останавливаться, прерываться и вообще стремиться к самоуничтожению. Здесь время абсурдно. Причин и следствий нет: бытие как хаотическая разорванность, неограниченная и неопределенная длительность.
Впрочем, у Пруста до этого еще далеко. Для него не существует физического, обычного, практического времени – есть только время сознания, дление мысли… В романе практически нет развития действия, как нет и датировок вспоминаемых "моментов". Есть лишь эволюция сознания, памяти. Пруст намеренно отказывается от сюжета и драматических ситуаций, упрощающих действительность, и оставляет лишь "музыку жизни", пытаясь заменить события "партитурой" сознания. Оттого эпопея так музыкальна.
Мишель Бютор заимствовал даже ритм прустовской фразы, "чтобы выразить природу времени". Бюторовское Употребление времени – еще один навеянный Прустом способ исследования длительности.
Минута, освободившаяся от порядка времени, воссоздает в нас, в нашем ощущении, человека свободного от порядка времени.
"Вневременная сущность" – это не только основополагающее свойство человека, но и принцип устройства его сознания, памяти, интуиции. Сознание, память, интуиция – шире рассудка, логики, физического времени. Здесь мгновение может оказаться равным вечности и "всплеск" – значительнее его ровного течения. Знакомый запах "мадлены", ложечка чая, мимолетность сознания способны породить целый забытый мир:
И как в японской игре, состоящей в том, что в фарфоровую чашку, наполненную водой, опускают маленькие скомканные клочки бумаги, которые, едва только погрузившись в воду, расправляются, приобретают очертания, окрашиваются, обособляются, становятся цветами, домами, плотными и распознаваемыми персонажами, так и теперь все цветы нашего сада и парка г-на Свана, кувшинки Ви-воны, обыватели городка и их маленькие домики, церковь и весь Комбре со своими окрестностями, всё то, что обладает формой и плотностью, всё это, город и сады, всплыло из моей чашки чая.
Активность сознания в творении времени была осознана даже не Кантом или Бергсоном, а мыслителями древности – Плоти-ном, Августином, Лукрецием Каром. На Востоке представление о времени как непрерывном течении внутренней жизни, потоке сознания развивал основоположник одной из школ дзен-буддизма Хой-нэн.
Мгновенность, – по представлению Хой-нэна, – не только знак быстролетящего времени, но и знак остановленного мгновения, разросшегося в воплощение вечности. В построениях Хой-нэна вневременная вечность являет себя только в быстролетящем времени, в миге, в мгновении.
Для науки время – протяжение, для сознания время – творчество. Бергсон так и делил время на "реальное", "подлинное", "время-творчество" и на "физическое", "фиктивное":
Время – это творчество, или же оно ничто. Однако физика не может считаться с временем как с творчеством, так как она принуждена пользоваться кинематографическим методом.
Есть только одно реальное время, все другие времена фиктивны. В самом деле, что такое реальное время, как не время, переживаемое или могущее быть пережитым?
У Пруста время – поток сознания, память, поток впечатлений, дление внутренней жизни. "Реальное", "подлинное" время – жизнь сознания, которая для него, в свою очередь, – большая реальность, чем действительность, объективность, материальность.
Чтобы быть неподвластным времени, человек должен отстраниться от физического времени. Поэтому Пруст так ценит повторные впечатления – в них он ищет свободу и власть над временем.
Повторение – удвоение, умножение времени, и тем самым для Пруста победа над неумолимой единственностью пролетающих мигов. Мы читаем у Пруста: "запах, который, казалось, одновременно принадлежал и настоящему мигу и прошлому моему пребыванию здесь". Парадоксально это одновременно, – оно относится к разным двум временам.
Настоящее время – всегда неизвестное прежде, новое время; у Пруста сознание работает над настоящим моментом, лишая его новизны, сводя к какому-нибудь повторению, реминисценции. Сознание не хочет признать настоящий момент, он не допущен в чертоги сознания.
Настоящее время, присутствие – тяжкая трудность, их надо снести и преодолеть. Сознание не открыто всем впечатлениям, и не впечатление дорого для него, а лишь особое впечатление, реминисценция, что-то в присутствующем настоящем такое, что "одновременно" с прошлым отсутствующим, помещается "в промежутке", изъято из объективного времени. Причем, по Прусту, когда-то бывший момент лишь в повторении, реминисценции впервые становится подлинно настоящим, присутствующим – только когда практически он отсутствует; как сказано в "Пленнице", прошлое осуществляется лишь после будущего, мы его "давно сохраняли в себе и вдруг научаемся прочитать".
Поток современной жизни проносится мимо, человек не успевает за ним, он – жертва этого темпа, движение тащит его за собой. Он не успевает включиться, понять, разобраться, вмешаться, освоить и оценить, он лишь успевает запечатлеть собой эмпирические сиюминутные впечатления, надобности, заботы, тревоги, страхи, которые тут же стираются новыми. Их человек не усваивает себе, не хранит, не накапливает впечатления, опыты, не может ими владеть, но лишь отражает их смену, он стал отражающей пленкой. Он в самом деле "количественная единица, заполненный момент времени".
Наше прошлое, замечает Пруст в одном месте, отбрасывает от себя тень, "которую мы называем будущим". Это значит, что всякое будущее, которое может наступить и стать настоящим, должно являться как бы в тени, оно само должно быть отброшенной тенью от чего-то бывшего прежде.
Глубина этих мыслей о "прошлом, осуществляющимся после будущего", и о "прошлом, отбрасывающим тень", все еще не усвоена нами. Не оттого ли вся наша история не имеет будущего, вечно оставаясь "прошлым после будущего"?.. Чуть-чуть перефразируя Пруста, можно сказать, что "мы строим себе жизнь ради определенного призрака, и когда наконец мы можем принять его в построенном здании, он не приходит, потом умирает для нас, и мы живем пленниками дома, предназначавшегося только для него". "Разве это не классическое описание того, как строят воздушные замки?".
Прустовская проблема "время и память" обладает той будоражащей глубиной, наполнена тем чувством, которое каждый испытывает на краю бездны: память есть извлечение временного опыта во вневременном измерении. В человеке одновременно соприсутствуют все времена и все когда-либо испытанные ощущения, память устроена таким образом, что маленький толчок способен раскрыть огромный забытый мир и побывать в нем. Строку Блейка "в каждом миге видеть вечность" Пруст перелагает на язык философии времени: "это непредставимое и чувственное измерение [мгновения, времени] существует". Сам Пруст признавался, что вся его философия сводится к тому, чтобы реконструировать и оправдать реальность. Антиутопичность прустовского модернизма в этих двух моментах: вечность-в-мгновении (вневременное измерение мира и сознания) и оправдание всего существующего.
На самом деле философия Пруста в целом и философия времени в частности гораздо глубже: время – мера самораскрытия эволюционизирующего духа; сформулированные нами законы или императивы – здесь и сейчас, придут новые времена – будут новые сущности…
А наше сознание в обычном своем состоянии – неграмотное сознание, и философия просто есть один из несовершенных человеческих способов преодолевать и останавливать, потому что неграмотность, в отличие от грамотности, действует спонтанно, автоматически, а грамотность и ум предполагают усилие, ежеминутное возобновляемое и повторяемое, потому что ум – это как раз то, чего нельзя иметь раз навсегда, то есть один раз получить и потом уже держать его у себя в кармане…
Смысл времени, его божественное назначение именно в этом – движении сознания, которое и есть главный герой модернистской эпопеи.
Единственное средство восстановить потерянное время, считал Пруст, это жизнь сознания, его творчество, ослепительный свет произведения искусства. Искусство – остановленное время, возврат во времени, фантастический прорыв сквозь время.
Впрочем, Пруст не довольствуется возвратом потерянного – его дерзновение не знает границ: не просто вернуть прошлое, но воздействовать на него, изменить его собой, настоящим. В эпопее-симфонии два потока времени сосуществуют – "прошлое в настоящем" и "прошлое, измененное настоящим". Ведь парадокс времени именно в том, что не только прошлое творит настоящее, но появление каждого гения заставляет по-другому прочитывать созданное прошлым, находить в нем упущенное им самим.
М. Мамардашвили:
Но, к сожалению, все комментаторы и читатели воспринимают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое (движется к прошлому), для которого прошлое – идеал. А Пруст все время предупреждал, что не в прошлом дело, не прошлое он хочет восстановить и, восстановив прошлое, насладиться прошлыми событиями, прошлыми переживаниями, восприятиями. Именно в этих случаях, когда он говорил, предупреждал об этом, он повторял: да не там, между прошлым и настоящим. Вот это словечко "между" нас должно заинтересовать. Тем более что потом он вместо "между" будет говорить – вне времени. Время в чистом виде, вне времени. Это – противоречивое словосочетание. И вот это словечко "между" нужно соединить с тем словом, которое я приводил вам и пометил, со словом "вне". Вне себя. То есть со словом "экстериоризация". Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического богатства души, не во внутренний духовный мир, духовную жизнь, в то, что мы называем внутренней духовной жизнью, – есть якобы какие-то глубины сердца, непостижимые глубины чувства и т. д. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечатления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение – вне.
Новое переживание времени обусловлено ослаблением связей Пруста с жизнью: пребывание как бы вне времени рождалось воображением, обостренностью чувств, потребностью обрести новые наслаждения взамен навсегда утраченных.
Всю жизнь реальность меня разочаровывала, потому что в тот миг, когда я ее воспринимал, воображение – единственный орган восприятия прекрасного – не могло наслаждаться ею в силу неотвратимого закона, гласящего, что нельзя вообразить то, что и так существует. И вдруг суровый закон отменяется на время благодаря волшебной хитрости природы, поманившей меня полузабытым ощущением… из прошлого, что дало возможность воображению расцветить его всеми красками, и позволившей моим органам чувств, в настоящем уловившим звук и прикосновение, добавить к полету фантазии то, чего ему обычно недостает – ощущение реальности происходящего; благодаря этой уловке мое существо смогло получить, вычленить и остановить – лишь на короткое мгновение – то, что ему никогда не удавалось удержать: частицу времени в чистом виде. Существо, возродившееся во мне, когда, трепеща от счастья, я уловил звук, напомнивший и звяканье ложечки о тарелку, и молоток, бьющий по колесу; когда почувствовал под ногами неровную мостовую во дворе у Германтов и в базилике св. Марка – существо это питалось только сутью вещей, только в ней обретало оно плоть и отраду. Оно томилось в наблюдениях за настоящим, где органы чувств не могли дать ему эту пишу, в размышлениях, иссушающих прошлое, в ожидании будущего, которое воля выстраивает из обрывков прошлого и настоящего, лишая их всякой реальности и оставляя лишь то, что может послужить сугубо практическому и житейскому назначению. Но стоит нам вновь заслышать знакомый звук, вдохнуть знакомый запах, принадлежащий и прошлому и настоящему, реальный, но не насущный, идеальный, но не абстрактный, – как непреходящая и обычно скрытая суть вещей высвобождается, и наше истинное "я", казавшееся давно умершим (но, как выясняется, не вполне), пробуждается и оживает при виде снизошедшей к нему манны небесной. Само мгновение, освобожденное от связи времен, чтобы мы смогли его познать, возрождает в нас человека, свободного от этой связи.
Обнаружение нового измерения времени – мгновений бытия, ускользающих от его обычного течения, рождало в переживающем такие мгновения гамму чувств до экстаза, ощущаемого как проникновение в суть вещей:
Получалось, что существо, и трижды и четырежды возрождавшееся во мне, переживало наяву некие мгновения бытия, ускользнувшие от времени, мимолетные, хоть они и принадлежали вечности. И я чувствовал, что только наслаждение, испытанное в эти минуты экстаза, – пусть оно и нечасто выпадало на мою долю, – было истинно и плодотворно.
Я преисполнился решимости ухватить, остановить те мгновения, когда мне приоткрывалась самая суть вещей: но как? каким образом?
Единственным способом сполна насладиться ими было познать их там, где они гнездились, то есть внутри меня, проникнув до самых их глубин. Ни тогда, в Бальбеке, ни когда был с Альбертиной, не умел я наслаждаться жизнью – эти радости мне удалось познать лишь задним числом. Подводя итог разочарованиям, которые мне довелось пережить и которые внушили мне мысль, что реальная жизнь заключается отнюдь не в действии, – и вместе с тем не сопрягая произвольно, следуя лишь превратностям собственной судьбы, самые разнородные крушения своих чаяний, – я не мог не осознавать, что неудачная поездка, несчастная любовь – вовсе не различные разочарования, но лишь внешние проявления (чья форма зависит от жизненных обстоятельств) заложенной в нас самих неспособности осуществиться в чувственной радости, в действенном усилии.








