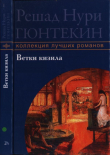Текст книги "Честь"
Автор книги: Гумер Баширов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
На солнышке возле конюшни, огороженной длинными жердями, распустив уныло губы, дремали худые, костлявые лошади. Высокий, горбоносый, крепкого сложения старик, с седоватыми усами, концы которых опускались на круглую бородку, выговаривал что-то сердито и громко стоявшей тут же женщине. Это был Тимери, которому правление колхоза недавно поручило конюшню.
Чтобы не мешать ему, Айсылу отошла в сторону. Старик гудел, тряся пучком соломы:
– Ну, скажи, сестрица Хаерниса, куда это годится? Толкуешь тебе: руби солому мелко, не длинней пяти сантиметров, а ты, дай бог тебе здоровья, чуть ли не целыми снопами кладешь! Говоришь: обвари кипятком, а ты обдашь холодной водой и суешь!
Круглолицая, в больших кожаных сапогах женщина долго молчала, закрыв рот уголком передника, потом не выдержала:
– Проспала я, Тимергали-абзы![15]15
Абзы – так же как и абы, обращение к старшему по возрасту пожилому мужчине.
[Закрыть] Пришлось замешать второпях, кое-как...
– Ха, вот именно кое-как! Не дорожите вы колхозным добром. Ну, погляди на этого коня! Как пахать на нем, как на нем хлеб возить, а? Совесть надо бы иметь!
– Нечаянно ведь! Уж не ругайся, Тимергали-абзы. Больше укорять не придется!
Был, видно, Тимери отходчив – смущение Хаернисы сразу смягчило его.
– Не годится так! – уже спокойнее сказал он, отбросив пук соломы. – Не годится! Колхоз тебе коней доверил – тебе за них и ответ держать! Ежели хотим, чтобы «Чулпан» наш ожил, поставим перво-наперво коней на ноги.
– Мучицы им мало перепадает, Тимергали-абзы.
– Ха! С мукой и столетняя старуха их выходит. А нам нужно тем, что у нас есть, поднять лошадок. Как, говоришь? Вот ты послушай! Встаешь с первыми петухами и даешь им обваренную сечку. Со вторыми петухами подбавляешь. Так? А душа все равно неспокойна: идешь к коням, смотришь, как жуют – с хрупом или так себе. Ежели жуют нехотя, подсыпь горсточку-другую сечки, помешай, по спине погладь, под холкой почеши. Ну, а как увидишь, что кони твои похрупают, похрупают да вздохнут, тут и тебе можно вздохнуть спокойно. Сыты, значит. И куда бы их ни запрягли, краснеть за них не придется...
Тут Тимери заметил Айсылу и подошел к ней.
– Что, сестрица Айсылу, на лошадок зашла поглядеть?
– Нет, Тимергали-абзы, на этот раз тебя самого повидать. Зачем – ты и сам знаешь. Так ведь? Ну, на чем же ты порешил?
По выражению лица Айсылу Тимери понял, что нельзя больше оттягивать.
– Охо-хо! – вздохнул он. – Пора бы порешить, сестрица Айсылу, да ведь дело-то большое. А у меня с грамотой не шибко, да и за шестой десяток перевалило.
– Переписку, бумаги там всякие Гюльзэбэр поручим, понимаешь? Во всем поможем. Ты только управляй, следи за всем, поручай, заботься. Вместе ведь налаживать будем.
Не успел старик ответить, как из переулка выбежал мальчонка лет тринадцати в черном пиджачке и в пилотке.
– Айсылу-апа! – закричал он еще издали. – Из Аланбаша представители приехали: два деда и одна тетка. – Потом Ильгизар перебрался через изгородь и сообщил отцу: – Папа, обед готов!
Айсылу послала мальчика за Сайфи и бригадирами.
– Тимергали-абзы, хорошо бы и тебе с представителями походить. А заседание пока отложим.
– Ну что ж...
Тимери вытащил из-за кушака кожаные рукавицы, надел их и, заложив руки за спину, зашагал к центру деревни.
Колхоз «Интернационал» не впервые присылал своих представителей в «Чулпан». Это была давнишняя хорошая традиция. А в былые времена две эти деревни жестоко враждовали между собой. Случалось, деды нынешних байтиракских дедов в молодые годы, нарядившись в домотканые штаны и камзолы поверх длинных холщовых рубах, пробирались в Аланбаш к приглянувшимся девушкам, кокетливо позванивающим монистами и чулпы[16]16
Чулпы – украшение из серебряных монет и цветных камней. Привязывались к концу кос.
[Закрыть]. Аланбашцы гнали их вон и частенько разбивали им в кровь носы.
Откуда взялась эта вражда?
Аланбашцы утверждали, что некогда байтиракские богатеи поставили землемеру кадку меду да впридачу дали двух баранов, тот и прирезал Яурышкан Байтираку, хотя он якобы принадлежал искони Аланбашу. С того, мол, все и началось.
Байтиракцы же корни вражды находили в другом. По-ихнему выходило так. Давным-давно жил в Байтираке мулла. Говорил он своим прихожанам: «Аланбашцы – неправильной веры. У них на каждые сорок душ – свой бог. Там и русские, и татары, и чуваши – все перепутались, все переженились. Потому и тамошние девушки – харам, и пища – харам, всё – харам!»[17]17
Харам – запретно, не дозволено исламом.
[Закрыть]
Этот мулла отказывался венчать, если невеста была из Аланбаша; не разрешал хоронить на байтиракском кладбище, если покойник родом был из соседней деревни.
Вот этот мулла и посеял, мол, вражду между двумя деревнями.
Как бы там ни было, Байтирак и Аланбаш помирились только при Советской власти, а окончательно – когда организовались колхозы. Подумали, поговорили по душам: у вас, мол, колхоз, и у нас колхоз, общая у нас дорога. Не к лицу соседям не в ладу жить!.. И в один из Октябрьских дней на общем праздничном пиру смыли навсегда позор дикой вражды.
С той поры стали «Интернационал» и «Чулпан» соревноваться между собой. Победит ли один, возьмет ли верх другой – обиды нет ни у кого. В конечном счете никто не проигрывал. Два колхоза ревностно трудились, в дружном состязании тянули друг друга вперед, перенимали хорошее. И джигиты уже без страха выбирали себе невест в любой деревне.
На праздники к соседям наезжали из Аланбаша и татары, и русские, и чуваши. Впрочем, и чулпановцы не отставали от своих друзей. Сколько раз в избе главы «Интернационала» Григория Ивановича они под свою тальянку отплясывали со Степанами да Мифтахутдинами, с Акулинами да Нарспи то эпипэ, то барыню или распевали песни, будоража до утра весь Аланбаш!
К приходу Тимери все уже были в сборе. На аланбашских делегатах одежда была как напоказ: отличные шубы, перехваченные кушаками, новые кожаные сапоги. Хозяевам даже почудилось, что гости, постукивая длинными батожками, вышагивают по улице особо важно, как хорошие гусаки; и будто разговаривают свысока: знай, мол, наших!..
С присущей старикам дотошностью осматривали гости хозяйство «Чулпан», переворачивали, трясли, ощупывали всё. Многое пришлось им явно не по душе.
Глава делегации – круглобородый старик с тонкими, как соломинка, усами, в подпоясанной красным кушаком желтой дубленой шубе, засунув руку в сусек, захватил с самого дна горсть семенного овса. Шевеля тонкими усами, он долго нюхал его, пробовал зерно на зуб, пересчитал, прикинул, сжимая в руке, влажность семян, потом высказал свое мнение:
– Гм... Так! На пять зерен – одна соринка. И прелью вроде попахивает!.. Ну, конечно, наш «Интернационал» такими семенами давно уже не сеет. Хотя, не знаю, может, для вас они и пригодны...
Подвыпивший, как всегда, Сайфи хотел было извернуться:
– Эти семена мы думаем... немного того... прокрутить.
Но на лице старика не появилось и тени снисхождения:
– Скажи-ка прямо, что семена к севу не готовы...
Сайфи замялся и поспешил увести приезжих в сарай, где стояли машины и другой инвентарь. Но и там было неблагополучно. Нашлись неотремонтированные плуги, у хомутов не хватало гужей, у телег – оглоблей. Старик провел пальцами по усам и озабоченно покачал головой:
– Эге-ге! Неважны у вас дела, неважны...
Он повернулся к своему старому знакомцу Тимери:
– Что это с вами случилось, ровесник? Не помнится мне, чтобы у вас такое бывало прежде...
Тимери и без того не знал, куда деваться от стыда, а тут...
– Прежде?.. Ха! Что и говорить, «Чулпану» прежде, так сказать, краснеть не приходилось... Молодежь тогда была дома, ровесник!
Не понравился этот ответ гостю.
– Молодежь, молодежь! У нас зато много молодежи! Приходите, одолжим... Нельзя так, ровесник, нельзя. Не знаю уж, кто виноват: конь ли или оглобли – для нас это дело темное, – кольнул он и без того расстроенного соседа.
Не понравились аланбашцам и лошади.
– Вконец истощены! Эге... и чесоточные есть... Не пойму, как пахоту осилите, – искренне огорчался старик.
А Сайфи все еще не хотел сдаваться:
– Не осилят кони – коров запряжем. Мы по пять коров на бригаду к упряжи обучили.
Приезжие не на шутку заинтересовались этим:
– Надо будет и нам поразмыслить. Обязательно расскажем своим, как вернемся. Запрягите-ка одну коровку, поглядим, как оно получается!..
Но лучше бы не запрягали!
Все гурьбой направились к Бикбулату, свату Тимери. Сноха Бикбулата, ладная, крепкая, как дубовая колода, Юзлебикэ, бросая шуточки да прибауточки, вывела обученную ею корову.
– Ох, не привыкла моя дочка к смотринам, как бы не застеснялась чужих...
Она загнала корову в оглобли и только начала подтягивать гуж, как та, выпучив глазищи, брыкнула, рванулась и сбила с ног одного гостя. Говорят, если корова взбесится, так понесет пуще лошади. Действительно, «дочка» поломала оглобли, опрокинула телегу и, свалив плетень, поскакала по огородам.
Хорошо еще, у Хадичэ оказался копченый гусь, а в лавке нашлось кое-что целебное. Гостя полечили так, что пришлось его потом подсаживать в телегу, и был он при этом не так чтобы очень грустен.
На прощанье глава делегации сказал свое последнее слово:
– Обо всем, что видели, что узнали, расскажем без утайки у себя. Захотят ли с вами соревноваться или нет – дело ихнее. Но ежели ваш колхоз и дальше так покатится, не обессудьте...
4Проводив делегатов, Тимери пошел домой посоветоваться еще раз со своей старухой.
Как же поступить?
С той поры как Айсылу просила Тимери стать председателем колхоза, он долго ломал голову и все не мог решиться. Иногда старику казалось, что есть в нем такая сила, которая поможет ему выдюжить, и даже становилось лестно, что ни к кому другому, а только к нему, Тимери, обратились в такое тяжкое время. Но тут перед ним вставали тощие лошади, разбитые плуги, поля, тянувшиеся от околицы до самого леса, поля, ожидавшие сева, и его вновь охватывали сомнения.
Однако чувство стыда, которое он испытывал перед аланбашцами, было настолько глубоко, что к своему дому он подошел уже почти с готовым решением.
Хадичэ, хотя и не ответила прямо на его вопрос, говорила обиняком, но смысл ее речей был совершенно ясен.
– Говорили раньше, если слепая курица в путь отправится, обязательно буран будет. Колхоз наш того и гляди рассыплется... Как бы мы, желая бровь подсурьмить, глаз не вышибли... Стоящие люди и без тебя найдутся...
Ничего не ответил ей Тимери. Был он обижен, даже оскорблен. «Ладно, поживем – увидим!» – сказал он про себя и, вопреки совету жены, с которой прожил тридцать пять лет, окончательно решил принять предложение Айсылу. «Мелко плавает! – подумал он про Хадичэ. – Голова у нее не так работает!»
Нет, было бы несправедливо считать Тимери «нестоящим» человеком. Разве его сын, большевик, не прославился и делами и умом на все Поволжье? А то, что теперь он – батальонный комиссар и за какие-нибудь девять месяцев получил на фронте два ордена, – разве в этом нет и его, Тимери, заслуги?!
А потом, давно известно, что Акбитовы не из той породы, их не тянет на готовенькое. Когда надо – работа горит у них в руках; когда надо – сражаются без страха; и умирают, когда надо, как батыры.
Сказывают древние старики, что Акбитовы ведут свое начало от самого Муратая. А был Муратай батыр отчаянный, еще при жизни прославленный.
Так говорит о нем легенда:
В стародавние времена, когда верховодили на Руси помещики, объявился на Яике Пугачау-батыр[18]18
Пугачау-батыр – Емельян Пугачев.
[Закрыть]. И бросил он клич народу:
– Повешу белую царицу, бедняков наделю и водой и землицей!..
Прослышал об этом Муратай. Собрал он джигитов и впереди своих девяноста конников поскакал на подмогу Пугачау-батыру. Волгу Муратай переплыл, много земель прошел, много помещиков саблей порубал.
Долгие месяцы сражался Муратай и прославился своею храбростью.
Ехал в те времена Пугачау с казаками берегом Волги, заехал в Байтирак. И сказал он:
– Салават-батыр – правая моя рука, Муратай-батыр – левая моя рука. Справа от меня Волга-матушка течет, дорога моя к Москве ведет.
Сказал он так, вскочил на белого коня и повел свое войско на Казань.
Много ли, мало ли дней прошло, много ли, мало ли крови пролилось, только разбили войско Пугачау-батыра. И схватили его продажные души и выдали царским генералам.
Долго еще бродил Муратай по Волге со своими джигитами; в конце концов с уцелевшими пятнадцатью, будто сокол с подбитым крылом, прилетел в Байтирак.
– Был Ямэлькэ[19]19
Ямэлькэ – Емельян.
[Закрыть], батыр был Ямэлькэ, погиб Ямэлькэ! – простонал он. – Не дотянулась его рука до царской шеи; самому отсекли голову...
Жил тогда в тех краях мурза Байгильде. Объявил мурза Байгильде:
– Голова Пугачау-батыра под мечом, правая его рука – на цепи. Кто отрубит его левую руку, тому дарю скакуна да шубу кенгуровую.
Был жесток тот мурза. Заставлял на себя работать и татар, и русских, и чувашей... Не стал Муратай дожидаться, когда словят его. Оседлал скакуна Чал-койрыка, помчался к Байгильде. А усадьба мурзы по ту сторону Волги была.
Переплыл Муратай Волгу, держась за хвост своего скакуна, примчался к ночи в усадьбу.
Вот перемахнул он на коне через высокую ограду, зацепил за карниз аркан с крюком, взобрался наверх в покои мурзы.
Мурза и ахнуть не успел, как смолк навеки.
Сполз по аркану Муратай, сел на коня, вздыбил его. Перепрыгнул скакун ограду, да один, без хозяина: сбил Муратая выстрелом слуга мурзы.
Раз проржал верный Чал-койрык – не вышел хозяин. Второй раз проржал верный Чал-койрык – не вышел хозяин. Проржал Чал-койрык в третий раз и поскакал, закусив удила, в деревню. На зорьке было дело – всех разбудил скакун, растревожил: знать, случилось недоброе с Муратаем. Побежали к околице, видят: лежит, кончается верный конь Муратая. Поднялись тогда люди и пошли по его следам к усадьбе мурзы, и пустили они красного петуха. А тело батыра привезли и похоронили с почестями у двух сосен, на пригорке. И не было предела гневу людскому, и поднялись они опять. И вот произошла у байтиракского леса кровавая сеча царских войск с крестьянами. С той поры и прозвали то место «Яурышкан», что означает «место боя».
Гордился Тимери славным своим предком. А при случае не забывал и себя помянуть:
– Было время, и Тимери скакал на коне, саблей германцам головы рубил.
Был Тимери старший сын у отца и немало потрудился на своего родителя. Но пожить как следует в родительском доме ему не довелось. Подросли младшие братья, и однажды отец его Сайфутдин, всю ночь проругав за что-то Тимери, наутро заявил:
– Птенец – и тот, когда окрепнут крылья, вылетает из гнезда. Пора и тебе свить свое гнездо. Получай родительское благословение...
Отец сел с краю на саке и воздел руки для молитвы. Вслед за ним расселась кто куда и вся семья. Проведя ладонями по лицу, Сайфутдин строго посмотрел на жену, которая, дрожа, стояла у печки. Плакать при муже она не смела...
– Ну-ка, неси!
Старику передали каравай хлеба, и он, шепча молитву, протянул его сыну:
– Возьми, пусть этот хлеб станет основой твоего дома. Благословляю!..
Но когда старик увидел, что уходит Тимери с женой и ребенком из родного дома с одним только караваем хлеба под мышкой, смягчился:
– Не гневайся, не храни на сердце обиды. Ты много потрудился для дома, много поту пролил, да ведь сам видишь, семья большая. Вон время настало еще четырех сыновей оженить. Коли даже по лучине начну раздавать, и то от дома ничего не останется! Ты еще молод и здоров, заработаешь... Благословляю...
Хотя из благословения дома и не построишь, Тимери не обиделся. Можно ли таить обиду на родного отца?
Тимери оставил жену с сыном у одного из соседей, надел широкие холщовые шаровары, повязался красным кушаком и с первым же пароходом уплыл в Астрахань – стал крючником. А к зиме, в ледостав, пошел лашманить.
Нет, было бы несправедливо считать Тимери «нестоящим» человеком! Через несколько лет он поставил хоть и маленькую, да свою избу. А там появились у него пара овец да коза. Недоедал Тимери, недосыпал. Думал – растут дети, надо, покуда есть силы в руках, построить просторную избу, завести скота побольше.
Избу-то построил, а вот со скотом... Так и не удалось ему купить больше одной лошадки да коровы.
Все же Тимери не терял надежды. «Будет, все будет!» – говорил он, лелея в душе мечту и о белой бане, и о крытых, на русский лад, воротах. Ему даже во сне являлась та баня. Стоит она в саду среди деревьев, с прихожей, с предбанником, с белыми занавесками на окнах. Однако так и не свел он концы с концами, и на том месте, где должна была красоваться баня, каждое лето пышно разрастались одни только лопухи. Долгие годы Тимери гонялся за достатком, но достаток не давался ему в руки, а забот и тяжелых дум, как и морщин на лбу, становилось все больше и больше.
Уже начал было Тимери терять всякую надежду на благополучие, как пришли колхозы. Сначала он качался из стороны в сторону, словно одинокая полынь у дороги. Не одну ночь провел без сна, прислушиваясь, как хрупает сено гнедая кобыла в конюшне. Но потом всем сомнениям пришел конец. «Не станут партийные зря болтать! Значит, так надо!» – решил он и понес в колхоз измятое, затасканное заявление с просьбой принять его в свою семью.
К тому времени две его дочки и сын Газиз уже начали, как говорится, выходить в люди. Во главе колхоза стояли крепкие коммунисты, и в «Чулпане» (крестьяне дали своему колхозу красивое имя «Чулпан» – утренняя звезда) дела пошли в гору. На полях густо зрели хлеба, в деревне поднимались новые постройки. Оказалось, что белая баня и русские ворота не за семью сводами небес сокрыты. На третий или четвертый год колхозной жизни трудодни семьи воздвигли ему и баню и ворота.
Не успел Тимери оглянуться, как преобразилась вся его жизнь. В простенке между двух окон заговорило радио, и Тимери в часы досуга мог слушать теперь Москву и Казань. А стенные часы с золоченым циферблатом и гулким боем он проверял по курантам Кремля. Вскоре стали приходить на имя сына газеты и журналы из самой Москвы и Казани. На них было написано «Газизу Тимергалиевичу Акбитову». Вот ведь как пошли дела!
И в избе все изменилось. Деревянный саке, который по обычаю дедов и прадедов стоял в красном углу, дочки вынесли, и на его место поставили пружинную кровать с блестящими шариками и ножную швейную машину. На первых порах Тимери терялся в своем собственном доме. Мимо нарядной, как городская барышня, кровати он проходил с опаской, боясь что-либо задеть и испортить. А перед сном он долго топтался возле нее и, дождавшись, когда дочери уйдут, стелил палас и укладывался прямо на полу.
С тех пор как Газиз начал учиться в городе на агронома, а в летние каникулы работать агротехником в «Чулпане», Тимери увидел много необычного. Чудно было наблюдать, как брали щепотку обыкновенной земли, затем, завернув ее вроде лекарства в белую бумажку, делали мудреную надпись и прятали в шкаф под замок; или в пору цветения пшеницы ходили по полю с докторскими ножницами и стригли усики у колосьев. Газиз уже с весны определял, какой урожай получится с какого поля. Тимери самому очень хотелось, чтобы предсказания сына сбылись, однако он считал такие заключения поспешными.
– Скажи, если бог даст, сынок!.. Пусть минуют нас беды!.. – говорил он суеверно.
Радости старика не было границ, когда Газиз, окончив институт, стал работать агрономом в районе. Он видел, как его голубая машина мелькает то тут, то там, как советуется с ним сам секретарь райкома Мансуров, и думал: «Толковый вышел малый!»
Так на глазах у Тимери рождалась жизнь – новая, ничем не похожая на прежнюю. Как пойдет она дальше, во что выльется, Тимери еще не мог себе представить. Но понял он – не будет больше жить крестьянин в вечном страхе перед небом: как бы хлеб градом не выбило! Как бы мор не напал на скот! И сознание, что одним из тех, кто прокладывает дорогу в новую, невиданную доселе жизнь, был его сын Газиз, наполняло Тимери бесконечной гордостью.
Тимери ожидала спокойная старость. Накануне войны он даже стал подумывать, не передать ли вожжи по дому сыну; дочери давно вышли замуж, уехали в другие деревни.
– Ох, старость одолевает, – кряхтел он частенько, жалуясь на боль в пояснице, на одышку.
Дело, конечно, было не в старческих недомоганиях. Просто хотелось ему отдохнуть немного, почувствовать заботу сына о себе.
Как и другие старики, Тимери любил с наступлением сумерек выйти на улицу и, сидя на лавке у ворот, посудачить с соседями, и не только о хлебах и о погоде... Война в Испании, зверства фашистов, события в Китае – все волновало его, все его касалось.
Хорошая старость выпала на долю Тимери. Для полноты счастья ему не хватало только внучонка, чтобы, закутав полой бешмета, укачивать его на коленях. Хотя, не будь войны, недолго пришлось бы Тимери ждать и этой радости. Тимери поговаривал о покое, но слишком беспокойное сердце было у него. Не мог он стоять в стороне от колхозных дел. Если, случалось, не вызывали старика на работу, он места себе не находил, ревновал к молодым, которые обходятся без него.
А когда началась война, Тимери даже сон потерял: трудился день и ночь; один ставил по три-четыре скирды, косил горох, чечевицу, намолачивал уйму хлеба.
Только не впрок пошел колхозу прошлый год. Гречиху побило морозом, горох осыпался на жнитве, овес в копнах под снегом остался, хлеб наполовину пропал до засыпки в амбары, и сусеки были пусты, будто в них ничего и не засыпали. Видя такое, люди начали понемногу остывать к работе. И впервые за много лет «Чулпан» задолжал государству, опозорился перед всем районом.
Что же случилось с колхозом? Ночи напролет думал об этом Тимери. Злился, что вместе с другими голосовал за Сайфи на выборах. А этому прохвосту достаточно было шести месяцев, чтобы выбить колхоз из колеи.