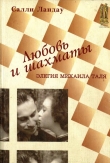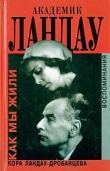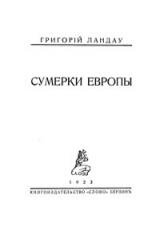
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Мало того, не трудно усмотрѣть, что идея національнаго государства, именно, въ отношеніи къ національному принципу приводила здѣсь къ неизбѣжнымъ отрицательнымъ явленіямъ, къ его явному попранію. Въ Италіи этихъ національно-отрицательныхъ явленій не было, но не слѣдуетъ забывать, что она и не доосуществила своего національнаго выдѣленія, оставивъ рядъ этнически-родственныхъ земель въ составѣ чужихъ государствъ. Но вотъ уже въ Германіи идея національнаго государства привела къ національнымъ притѣсненіямъ датчанъ, поляковъ, французовъ, притѣсненіямъ, вполнѣ логически изъ нея вытекавшимъ. Особенно характерна въ этомъ отношеніи судьба Венгріи. Здѣсь съ примѣрной наглядностью проявляется, какъ на принципѣ національности построенное государство приводитъ къ національному преслѣдованію тѣхъ инородцевъ, которые оказываются въ его сферѣ, – будь то славяне, румыны, хорваты (а не оказаться инородцамъ въ составѣ восточно-европейскаго или юго-восточно-европейскаго государства, какъ выше было указано, невозможно). И какъ же можетъ дѣло обстоять иначе, разъ государство должно строиться по признаку единонаціональности? Что же дѣлать съ необходимо вкрапленными въ него инородческими элементами, какъ не ассимилировать ихъ – не мытьемъ, такъ катаньемъ, – иначе вѣдь не будетъ единонаціональнаго государства? Этого не замѣчаетъ Милюковъ, какъ то по меньшей мѣрѣ причудливо сочетающій этническій принципъ для внѣшняго употребленія съ многонаціональнымъ принципомъ для употребленія внутренняго. Но логика историческихъ событій подобныхъ противорѣчій не терпитъ. Образовавшіяся въ XIX в. національныя государства проявили большую силу роста и прогресса, посколько явились образованіемъ государствъ болѣе высокой организаціонной формаціи, болѣе свободнаго, культурнаго строя, объединеніемъ слабыхъ въ сильное единство. Посколько же они дѣйствовали, именно, какъ государства національныя, они приводили ко внутренне-національнымъ притѣсненіямъ, что въ свою очередь вредно отражалось и на ихъ общегосударственной мощи и культурѣ, было источникомъ задержки и искаженія въ ихъ правовомъ и духовномъ строѣ.
Безспорно значительны положительныя стороны національнаго момента, упрощающаго отношенія, сберегающаго силы, уплотняющаго культурный процессъ. Но единонаціоналъность государства есть его счастье, его удача, – а не задача, неі цѣль которую ему надлежало бы преслѣдовать. Конечно, въ опредѣленныхъ конкретныхъ случаяхъ правильная политика будетъ руководиться соображеніемъ нежелательности чрезмѣрно увеличить разноэтническій составъ населенія, или нежелательности нарушить однородность даннаго населенія, – и откажется отъ пріобрѣтенія новыхъ земель, населенныхъ «инородцами». Изъ тѣхъ же соображеній въ опредѣленныхъ конкретныхъ случаяхъ мыслимо стремиться къ округленію своей страны землями, населенными родственными элементами. Но это можетъ быть только однимъ изъ частичныхъ соображеній политики, лишь при опредѣленномъ конкретномъ стеченіи обстоятельствъ получающимъ рѣшающій вѣсъ. Въ общемъ же руководиться идеей этнической государственности при этнической разнородности населенія значитъ – во внутренней политикѣ идти къ угнетенію, во внѣшней – рисковать нежизнеспособностью, неустойчивостью государственнаго организма.
* * *
Можно[5]5
Настоящій параграфъ вставленъ сюда изъ другой моей статьи («Единая Россія»), напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы», 1917 г. кн. IV–VI.
[Закрыть] думать, что и апологеты національнаго расщепленія государства иной разъ вспоминаютъ объ экономическихъ, географическихъ и прочихъ связяхъ населенія, иной разъ задумываются надъ той путаницей и реакціей, которую можетъ внести прямое проведеніе ихъ идеи. Но на такія сомнѣнія у нихъ имѣется готовый отвѣтъ и выходъ: пустъ сами націи рѣшатъ, какъ имъ устраиваться, въ какой имъ оставаться степени независимости или связности съ другими націями и съ цѣлымъ. Національное самоопредѣленіе путемъ плебисцита – такой отвѣтъ кажется уже вершиной свободомыслія, демократизма, политическаго идеализма.
Я не буду останавливаться подробнѣе на вопросѣ о томъ, что если такой выходъ примѣнимъ, напримѣръ, къ опредѣленію формы правленія въ предѣлахъ уже преднамѣченнаго государства или области, то менѣе всего онъ примѣнимъ къ опредѣленію самихъ предѣловъ государства или области, ибо ясно, что результатъ плебисцита и самоопредѣленія здѣсь всегда будетъ уже предрѣшенъ тѣмъ кругомъ населенія, въ которомъ онъ производится, и слѣдовательно результатъ плебисцита и самоопредѣленія предрѣшенъ уже до плебисцита и до самоопредѣленія.
Но оставимъ въ сторонѣ этотъ рядъ соображеній. Вопросъ долженъ быть поставленъ глубже и принципіальнѣе. Допуская даже, что предрѣшенія нѣтъ, а есть подлинный процессъ національнаго самоопредѣленія, можно-ли на этомъ успокоиться? Проявляется ли въ этомъ демократизмъ и свобода?
Думать такъ, значитъ, повторять ту же роковую ошибку, которую нѣкогда допустилъ старый узко-доктринерскій либерализмъ примѣнительно къ личности. Онъ тоже стоялъ на идеѣ самоопредѣленія личности – и какъ давно уже выяснено, что безоговорочно и безоглядно проведенная, эта идея приводитъ къ угнетенію одной личности другою, къ угнетенію слабыхъ, – становится пустой формулой, за фасадомъ которой укрывается и притѣсненіе и гнетъ. Это настолько давно и твердо усвоено, что отрицаніе узко-либеральной формулы привело къ необоснованному и зловредному отрицанію того вѣчнаго содержанія личной свободы, независимости и самостоятельности, которая по существу въ ней все же имѣется. Но во всякомъ случаѣ ограниченіе этой формулы – или вѣрнѣе, сочетаніе ея съ демократической формулой коллективной воли и съ соціальной формулой организаціи интересовъ массъ – являться твердымъ достояніемъ современнаго сознанія. А между тѣмъ по отношенію къ національности повторяется старая ошибка узко-доктринерскаго либерализма. Ходячая формула національной автономіи есть только доктринерски – либеральная, антидемократическая, антисоціальная формула въ примѣненіи къ соціальному коллективу.
Ибо въ самомъ дѣлѣ, вопросъ стоялъ бы просто, если бы человѣкъ не жилъ въ сообществѣ людей, если бы нація не жила въ сообществѣ націй. Здѣсь принципъ самоопредѣленія личности – и націи – былъ бы вполнѣ умѣстнымъ и достаточнымъ. Но люди и націи живутъ въ фактической связности, въ отношеніяхъ фактической зависимости. Дѣятельности лица – и націи – фактически затрагиваютъ другихъ лицъ, другія націи; дѣятельности слабыхъ лицъ и націй въ меньшей степени, сильныхъ – въ степени большей; дѣятельности лицъ и націй, занимающихъ благопріятное положеніе – въ большей степени, занимающихъ положеніе неблагопріятное – въ степени меньшей. И если не ограничить самоопредѣленія лицъ и націй не только самоопредѣленіемъ же другихъ лицъ и націй, но и просто охраной основныхъ насущныхъ интересовъ другихъ лицъ и націй – всѣхъ организованно существующихъ лицъ и націй, – то съ совершенной неизбѣжностью самоопредѣленіе однихъ перейдетъ во власть надъ другими, или въ подчиненіе другимъ, въ эксплоатацію другихъ или въ эксплоатируемость другими. Безоговорочная автономія перейдетъ въ неограниченную гетерономію. А такъ какъ вдобавокъ зависимости сплетаются и скрещиваются, то безоговорочное самоопредѣленіе лицъ и націй перейдетъ въ слѣпую и ожесточенную борьбу. Если одна нація сидитъ на территоріи даже весьма малой, но положимъ, заключающей въ себѣ мѣсторожденіе минераловъ, абсолютно необходимыхъ для жизни и работы націй сосѣднихъ, то конечно, она своимъ безоговорочнымъ самоопредѣленіемъ будетъ надъ ними господствовать. Но если при этомъ другая нація сидитъ на приморской полосѣ, черезъ которую проходитъ единственный путь жизненно необходимаго тран-зита для другихъ, – и въ томъ числѣ для первой націи – она съ своей стороны будетъ имѣть элементы господства надъ ними; и какъ всегда между господствующими – либо между ними будетъ борьба за гегемонію, либо они стакнутся для наиболѣе устойчиваго совмѣстнаго господства надъ другими. Все это – въ предположеніи безоговорочнаго самоопредѣленія, хотя бы и путемъ чистѣйшаго плебисцита. Разумѣется, противъ этого господства пойдетъ немедленно борьба физическая, экономическая или какая бы то ни было, пока самоопредѣленіе благопріятно расположенныхъ націй не окажется ограниченнымъ общей волею другихъ націй, пока не будетъ организованнымъ образомъ обезпечено удовлетвореніе насущнѣйшихъ интересовъ всѣхъ (если только они не окажутся подавленными тѣми). Принципъ національной автономіи столь же цѣненъ въ своей тенденціи, какъ и принципъ свободы личности. Но въ безоговорочномъ примѣненіи онъ ведетъ къ аналогичнымъ зловреднымъ реакціоннымъ послѣдствіямъ. Какъ и принципъ узко-либеральный, онъ долженъ быть ограниченъ, подчиненъ, сочетанъ съ принципами коллективной воли, общей организаціи насущныхъ интересовъ. Въ примѣненіи къ автономіи національностей, входящихъ въ составъ государства, это означаетъ первенство общегосударственнаго начала надъ началомъ мѣстнаго національнаго сепаратизма.
Общая воля, организація общихъ интересовъ, охрана интересовъ слабѣйшихъ – лицъ, классовъ, національностей – такова основа, на которой (и на которой одной) могутъ свободно развиваться отдѣльныя націи, самоуправляться отдѣльныя области.
* * *
Этническая однородность для государства – не цѣль, не задача, а фактъ. Но какъ фактъ, она осуществлена лишь въ нѣкоторыхъ странахъ Западной Европы, гдѣ государственный процессъ объединенія начался въ давнишнія времена при условіяхъ, допускавшихъ сравнительно легкое примѣненіе всяческаго насилія, – и длился много столѣтій. Да и тамъ онъ собственно не достигъ полнаго завершенія, – въ самой Англіи напримѣръ, имѣются самобытныя этническія группы, не слившіяся съ британскимъ населеніемъ; уже не говоря о томъ, что Шотландія, Англія и Ирландія представляютъ различныя этническія образованія; разнородныя образованія сохранились преимущественно на окраинахъ и въ Германіи, и даже во Франціи, но чѣмъ больше на востокъ и юго-востокъ Европы, тѣмъ сильнѣе и причудливѣе перемѣшаны не слившіяся національности. Здѣсь задача достиженія этнически однороднаго состава становится уже не только не должной, но. и просто невозможной. И невозможность эта въ современности все возрастаетъ.
Нѣкогда затерянный среди чужой національности инородный островокъ, отрѣзанный отъ своего этническаго материка и лишенный поэтому культурнаго взаимодѣйствія съ нимъ, а съ другой стороны подверженный воздѣйствіямъ окружающаго населенія – сравнительно легче терялъ свой національный обликъ; однако, и при этомъ онъ, при благопріятныхъ для себя обстоятельствахъ, все же выдерживалъ, хотя и блѣднѣя и линяя, цѣлые вѣка. Нынѣ при быстротѣ сообщеній, легкости общенія, переѣздовъ, при развитіи печати, почты, телеграфа, – общеніе съ основнымъ національнымъ коллективомъ сохраняется на какихъ угодно разстояніяхъ, даже и для малыхъ группъ; нѣмецкіе выходцы въ Америкѣ и Китаѣ, итальянцы въ Африкѣ и Соединенныхъ Штатахъ, евреи въ Капштадтѣ, Нью-Іоркѣ и Бердичевѣ – знаютъ другъ о другѣ, другъ за другомъ слѣдятъ, при желаніи могутъ участвовать въ нѣкоторой степени въ общей духовной жизни. Сосѣдство, территоріальная близость теряетъ свою рѣшающую силу какъ факторъ общенія, духовнаго взаимодѣйствія и общаго развитія – по мѣрѣ прокладки рельсъ, телеграфныхъ проволокъ, усовершенствованія ротаціонныхъ машинъ, фотографіи и прочихъ техническихъ завоеваній. Отсюда вытекаетъ взаимное проникновеніе всѣхъ народныхъ культуръ, подверженность общеміровымъ воздѣйствіямъ, ослабленіе территоріально-сосѣдской отъединенности; но отсюда же, между прочимъ, получается и большая независимость частнаго національно-духовнаго комплекса отъ давленія непосредственныхъ сосѣдей, хотя бы и численно-господствующихъ, даже численно-подавляющихъ. Изъ общей матеріальной основы вырастаетъ одновременно и сила всечеловѣческой тенденціи, и устойчивость національно-духовныхъ коллективовъ, – вообще, устойчивость внѣпространственныхъ объединеній за счетъ косной силы смежности и сосѣдства.
Нѣкогда легко было прибѣгать къ самымъ грознымъ давленіямъ денаціонализаціи, – частью даже простого искорененія; нынѣ и въ наиболѣе отсталыхъ странахъ смягчились эти давленія, или встрѣчаютъ возросшее сопротивленіе на почвѣ какъ ни какъ распространяющейся современной гражданственности, на почвѣ демократизаціи политическихъ и уже во всякомъ случаѣ экономическихъ учрежденій и быта, на почвѣ всюду возрастающей силы общественнаго мнѣнія.
Нѣкогда сила ассимиляціи опредѣлялась не только мощью уничтожающихъ національныя особенности механизмовъ, но въ неменьшей степени и положительными факторами. Высшая общегосударственная культура, когда наступила пора таковой, была по преимуществу аристократической, творилась верхами для верховъ. Отсюда ни съ чѣмъ не соизмѣримая способность поглощенія господствующей національностью. Будучи культурно слабѣе завоеванной, подчиненной – она могла – и сама иной разъ даже подчиниться ей, впитать въ себя культуру завоеваннаго народа: побѣжденные культурно побѣждали побѣдителей, но какъ бы то ни было, разъ овладѣвъ культурными вершинами, господствующій народъ становился монополистомъ культуры. Тѣ члены подчиненной націи, которые подымались къ экономическимъ и политическимъ верхамъ, тѣмъ самымъ попадали въ сферу исключительнаго культурнаго вліянія господствующаго народа, сливались съ нимъ, уподоблялись ему; и, работая культурно, работали въ его культурѣ для его культуры. Господствующій народъ уже въ силу своего господства, распоряжался культуроносными факторами; онъ при этомъ пользовался силами подчиненныхъ народовъ, естественно и неизбѣжно отдававшихъ ему свои подымающіеся соки. Общая культура создавалась всѣми факторами, средствами всего населенія, но по руслу господствующаго народа; высшія ея достиженія создавались высшими слоями для высшихъ слоевъ. При этомъ въ мало подвижной средѣ низшихъ слоевъ, въ глухихъ углахъ и темныхъ низахъ, куда не доходили или доходили медленно плоды высшаго государственнаго развитія, могла продолжать теплиться исконная мѣстная этническая культура, почти застывшая, почти не замѣчаемая господствующими и культурными, – не языкъ, а арго, не музыка, а пѣсенка, не литература, а сказка, не театръ, а коляды, не живопись, а кустарный узоръ, не наука, не философія, а поговорка; церковный обрядъ создавалъ здѣсь твердую опору. Отсюда, съ наступленіемъ демократическаго и просвѣтительнаго вѣка, при подъемѣ низовъ внезапно стали вырастать національныя особи, казавшіяся исчезнувшими, превратившимися въ субстратъ лишь для нѣкоей couleur locale. Отсюда же – полнѣе сохранялись національныя особи тѣхъ народовъ, которые удерживались въ состояніи оффиціальнаго неравноправія, и потому не могли терять своихъ творческихъ силъ въ морѣ господствующаго народа, ибо въ его составъ вовсе и не допускались. Отсюда – чѣмъ старѣе процессъ устойчиваго государственнаго существованія въ данной странѣ, чѣмъ длительнѣе состояніе неизмѣннаго господства опредѣленнаго коллектива безъ сдвиговъ, безъ переходовъ отъ одной державы къ другой, тѣмъ крѣпче и глубже сплачивалась культура данной страны, тѣмъ плотнѣе устанавливался ея синтетически-національный типъ, ея національное единство. И чѣмъ раньше въ линіи государственнаго развитія развернулась господствующая культура страны, чѣмъ раньше до наступленія политико-общественнаго демократизма развернулся демократизмъ просвѣтительный, просвѣтительное внѣдреніе въ низы, въ глубокіе народные пласты, – тѣмъ болѣе и глубже однородной сформировывалась страна; тѣмъ полнѣе сливались ея разноэтническія составныя части, сохраняя лишь ограниченныя различія провинціальныхъ окрасокъ, мѣстныхъ малозначащихъ особенностей. Такъ было на Западѣ. Но чѣмъ дальше на Востокъ и Юго-востокъ, тѣмъ менѣе напряженными и законченными, тѣмъ болѣе запоздалыми были эти процессы. И теперь установленіе этнической однородности стало и вовсе невозможнымъ. И не только по причинамъ, о которыхъ выше сказано (какъ то – преодолѣнія пространства и сосѣдства, уменьшенія насильственнаго давленія), но и въ силу измѣненія положительнаго момента въ культурномъ творчествѣ и объединеніи. Культура во всемъ своемъ составѣ демократизируется, творится уже не одними верхами для верховъ, а въ большей степени всѣмъ народомъ и въ большей степени для всего народа. Въ связи съ этимъ и культура «инородцевъ» уже не остается на зачаточныхъ ступеняхъ, а – хотя слабѣе и меньше, хотя и отдавая многое господствующему коллективу, – все же въ мѣру своихъ возможностей развертываетъ свои особенности, раститъ свои отличія, развивается.
Итакъ, на счетъ прежде всеподавлявшаго значенія территоріальной смежности возрастаетъ въ современности одновременно и всечеловѣческая (или, по крайней мѣрѣ, общеевропейская) близость и частнонаціональное самодовлѣніе. Въ связи съ этимъ на ряду съ тенденціей къ общему многонаціональному, даже многогосударственному единству получаетъ силу и тенденція къ внутри и внѣгосударственной національной устойчивости; затрудняется возможность государственной націонализаціи.
Эти отношенія коренятся въ существѣ современнаго соціальнаго развитія, опирающагося на все большія массы, на все облегчающуюся ихъ группировку и общеніе. Вотъ почему все труднѣе становится подавлять въ современномъ государствѣ національности меньшинства, все безнадежнѣе стремиться къ этнической однородности государства. Дѣло здѣсь не только въ томъ, что подавлять разноэтническія группы значитъ совершать насиліе надъ человѣческимъ сознаніемъ, надъ человѣческою волею, значитъ искоренять цѣнности культуры, значитъ идти противъ духа современности. Дѣло еще въ томъ, что это значитъ идти противъ стихіи современности, вызывая все усиливающіяся затрудненія и тренія, это значитъ – направлять государство вспять. Разнонаціональный составъ государства можетъ представлять своеобразныя трудности и проблемы; но стремиться къ однонаціональному составу значитъ дѣлать реакціонное дѣло, идти наперекоръ и человѣческой совѣсти, и соціальной стихіи.
* * *
Въ силу многихъ и сложныхъ причинъ къ началу XX в. сугубо обострился и выдвинулся національный вопросъ; глубокой значительности національныя отношенія сложились въ современности и осознаны рѣшающими общественными кругами. Смутнымъ и общимъ образомъ, какъ и всегда бываетъ въ такія эпохи, сочувствіе къ справедливымъ національнымъ рѣшеніямъ разсѣяно среди всѣхъ по-человѣчному благожелательно настроенныхъ людей. Въ связи съ этимъ лозунгъ этнической государственности – предоставленія національностямъ государственной самостоятельности, представляется съ перваго взгляда превосходнымъ, благороднымъ, передовымъ, справедливымъ лозунгомъ и вызываетъ неопредѣленно-широкое сочувствіе. Въ силу обычной односторонности формуловыхъ увлеченій и эта формула – можетъ быть, лишь на короткій срокъ – заслоняетъ всѣ другія, и вотъ уже готовъ спасительный флагъ, которымъ можно прикрыть и подъ которымъ провезти не мало контрабанды.
Присматриваясь къ реальности, которая за формулою скрывается, мы замѣтимъ менѣе соблазняющую картину. Фактически формула въ чистомъ видѣ и вообще только въ рѣдкихъ случаяхъ примѣнима, потому что націи живутъ вперемежку; примѣненіе же при такихъ обстоятельствахъ единоэтническаго принципа можетъ только вести къ угнетенію національнаго меньшинства. Фактически формула, и будучи примѣнена, далеко не всегда могла бы въ реальности удовлетворить націю, къ которой примѣняется, потому что государственная устойчивость, а тѣмъ болѣе процвѣтаніе, требуетъ своеобразныхъ рамокъ, которыя только случайно могутъ совпадать съ географическими линіями распредѣленія націй.
Поскольку существуетъ государство и государственность съ культурными задачами незамѣнимой важности, постольку проблема его устойчивости, возможности сосуществованія съ другими (съ наименьшими приманками для нихъ, съ наименьшими соблазнами для себя), проблема равновѣсія въ системѣ государствъ, проблема наиболѣе полнаго и свободнаго разрѣшенія экономическихъ и культурныхъ нуждъ населенія, – вся эта сложная сѣть глубочайшихъ задачъ будетъ стоять на первой очереди для обоснованнаго опредѣленія государственныхъ границъ. Конечно, государство можетъ существовать въ различныхъ оформленіяхъ; незыблемыхъ границъ, отъ вѣка ему предназначенныхъ, и на вѣкъ неизмѣнныхъ – у него нѣтъ. Въ конкретности своего бытія государство есть образованіе историческое и фактическое. Но исходя изъ даннаго фактическаго его состоянія, – его нормальныя границы, нормальное оформленіе должно опредѣляться равнодѣйствующей тѣхъ многихъ линій его задачъ и возможностей, о которыхъ было выше упомянуто, а отнюдь не однимъ этническимъ составомъ населенія. И этническій моментъ, разумѣется входитъ въ составъ этой равнодѣйствующей; въ томъ или иномъ конкретномъ случаѣ имъ надлежитъ руководиться при опредѣленіи наиболѣе желательныхъ границъ, жертвуя въ нѣкоторой степени другими интересами. Но именно лишь какъ одинъ изъ факторовъ онъ только и можетъ быть принять во вниманіе, не какъ единственный, не какъ важнѣйшій.
Менѣе всего, разумѣется, возможно допускать, что и наиболѣе удачнымъ разрѣшеніемъ вопроса о государственныхъ предѣлахъ, объ очертаніи границъ можетъ быть достигнуто разрѣшеніе задачъ современности, – какъ думаютъ, или притворяются, что думаютъ, иные современные публицисты, ожидая, или притворяясь, что ожидаютъ, отъ перераспредѣленія войны всякихъ земныхъ благъ. Безконечно важныхъ задачъ даже и не касаются вопросы государственнаго оформленія, – ибо это вопросы внутренне-государственной, а отчасти и межгосударственной общественно-политической, культурно-экономической организаціи. Государственное оформленіе даетъ лишь нѣкоторую опору, основу для внутренне-государственной и межгосударственной дѣятельности по разрѣшенію этихъ проблемъ. Къ этой сферѣ проблемъ – неотъемлемыхъ задачъ человѣчества, соціальныхъ, политическихъ, культурныхъ – въ качествѣ одной изъ нихъ относится и проблема національная. И она подлежитъ разрѣшенію внутри государства, а отчасти и въ межгосударственной организаціи, но (по общему правилу по крайней мѣрѣ) отнюдь не въ оформленіи самого государства; очертаніе государственныхъ границъ даетъ еще только предпосылку этихъ разрѣшеній, вѣрнѣе – борьбы за разрѣшенія, предпосылку весьма важную, во многомъ предопредѣляющую дальнѣйшія возможности борьбы. Но не по этому пути можно разрѣшенія достигнуть.
Не такъ давно подобныя положенія могли казаться широко признанными; въ частности еще недавно, именно, во внутригосударственной структурѣ (въ чемъ бы она ни заключалась – въ культурно ли національной, или областной автономіи, или въ иныхъ правовыхъ организаціяхъ) стремились найти удовлетвореніе неотъемлемымъ правамъ и интересамъ національности. Но вотъ разразилась война – и произошло смятеніе установившихся понятій. Старая идея національнаго государства сплелась съ интересами и соблазнами дня; потребность въ идеальной формулѣ «для души» слилась съ приманками нѣсколько иного содержанія, – и получился лозунгъ этнографическаго государства, государства въ этнографическихъ границахъ, впрочемъ, взятый въ нѣсколько односторонней трактовкѣ. Этимъ лозунгомъ разсчитываютъ разрѣшить больные вопросы и установить благоволеніе, если и не на землѣ, то въ Европѣ. Что на самомъ дѣлѣ имъ не желаютъ руководиться даже и непосредственно заинтересованные – въ этомъ заключается одна сторона дѣла; что онъ психологически вводитъ въ заблужденіе людей, заслоняя существо вопросовъ – къ этому сводится другая.
Однако, кажется, наступаетъ уже пора отучаться отъ слѣпоты періодически смѣняющихся наивныхъ односторонностей, отъ идейнаго дальтонизма, возведеннаго въ принципъ; пора за пріятнымъ арабескомъ словесной формулы научиться усматривать ея фактическое, реальное содержаніе. На самомъ дѣлѣ, идея этнографическихъ границъ государственности и не будетъ имѣть за себя достаточныхъ силъ, и не принесетъ съ собою ожидаемаго удовлетворенія. Отчасти она привела бы даже къ новымъ угнетеніямъ и новой неустойчивости. Границы государства могутъ обоснованно опредѣлять-ся лишь обще-государственными же, а не спеціально-этническими задачами, – задачами государственнной устойчивости, возможностями наилучшаго культурно-соціальнаго использованія. Проблема же національная лежитъ главной своею тяжестью внутри государства, въ его правовой структурѣ, культурно-общественной организаціи. И перемѣщать оттуда эту проблему – значитъ одновременно искажать государственные запросы и заслонять запросы національные.
III
Самоопредѣленіе національностей, самоопредѣленіе государствъ. Защита каждаго малаго государства отъ вмѣшательства извнѣ, предоставленіе каждой націи самостоятельно располагать своей судьбой. Каждый малый народъ долженъ быть хозяиномъ въ своемъ домѣ, и свое хозяйское положеніе можетъ использовать путемъ договоровъ, подлежащихъ святому соблюденію. Извнѣ никто не вправѣ вмѣшиваться въ его бытіе. Тѣмъ самымъ отрицаются болѣе значительные болѣе общіе интересы, которые могутъ охватывать разные народы въ ихъ общемъ и совокупномъ дѣйствованіи, которые могутъ идти въ разрѣзъ съ выдѣленнымъ, самостоятельно разсматриваемымъ интересомъ каждаго. Или, точнѣе сказать, эти общіе объемлющіе интересы признаются постолъко, посколько они признаются и каждымъ отдѣльнымъ народомъ – въ результатѣ свободнаго волеизъявленія и принятыхъ на себя обязательствъ – въ результатѣ ихъ самоопредѣленія. Общность, связность, взаимная сплетенность судебъ, предпосылочность объемлющихъ задачъ рѣшеніямъ отдѣльныхъ ея участниковъ – не признается или допускается лишь въ результатѣ утвержденныхъ правомъ ихъ соглашеній.
Каждый народъ какъ бы ограждается заборомъ отъ всего остального міра, отъ человѣчества; для каждаго народа и націи выдѣляется особый закутокъ, особый огородъ, который ему предоставляется самостоятельно воздѣлывать, въ которомъ онъ хозяинъ; и съ остальными народами ему предоставляется мирно столковываться, въ случаѣ недоразумѣній прибѣгая къ суду, въ случаѣ нарушеній – къ міровой полиціи безопасности. Если въ святости договоровъ, пересиливающей всякую другую задачу, мы имѣли гражданско-правную внутригосударственную точку зрѣнія, перенесенную на межгосударственныя отношенія, психологію честнѣйшаго коммерсанта, то и въ самоопредѣленіи національностей мы имѣемъ яркое воплощеніе психологіи мелкаго хозяина, скорѣе всего, типа хозяина собственника, обносящаго свой клочекъ земли высокимъ заборомъ, строящаго глухую стѣну противъ оконъ сосѣда, распоряжающагося – съ правомъ utendi et abutendi – въ предѣлахъ своего владѣнія, а съ другими такими же хозяевами сносящагося путемъ договоровъ, защищенныхъ судомъ и полиціей. Это – идеологія гражданскаго, римскаго права, концепція городского мѣщанства и сельскаго крестьянства, перенесенная на международныя отношенія, концепція международнаго мѣщанства.
Далека отъ меня мысль желать уже этимъ терминомъ опорочить что бы то ни было и менѣе всего само мѣщанство. Дешевый способъ уязвленія этимъ якобы превзойденнымъ въ современномъ соціализмѣ сочетаніемъ чувствъ, навыковъ, міросозерцанія, какъ чѣмъ то малоцѣннымъ, отъ меня чрезвычайно далекъ. Отмѣчу попутно, что именно въ мѣщанской духовности – наряду съ отрицательными корнями узости и ограниченности горизонта – нетрудно усмотрѣть одинъ изъ цѣннѣйшихъ соціальныхъ типовъ человѣчества. Въ немъ сочетается непрерывная трудовая дисциплина (при томъ съ тенденціей къ увеличенію трудового напряженія, а не къ ограниченію его, какъ это имѣетъ мѣсто въ пролетарской духовности) съ отвѣтственнымъ, самостоятельнымъ распорядительствомъ; въ немъ сочетается предпосылка равнозначности многихъ (служащая основой демократизма) съ ощущеніемъ выдѣленной и все же устойчивой самозначности каждой ячейки и даже съ сознаніемъ ея непрерывно-преемственной традиціонной устойчивости (что даетъ точку касанія съ традиціями аристократизма). Крестьянскій дворъ раститъ чувство незыблемости; иная ремесленная мастерская воспитываетъ въ традиціяхъ преемственно накопляемыхъ навыковъ; иная посредническая дѣятельность, впрочемъ скорѣе уже буржуазная, чѣмъ мелко-буржуазная создаетъ духъ смѣлости, увѣренности въ себѣ, подчасъ авантюризма дерзаній.
Но какъ бы то ни было, переносъ этой личной (хотя и массово-повторной) внутригосударственной крестьянско-торговой психологіи на дѣла государственныя и международныя – дѣйствительно не только неумѣстенъ, но и глубоко опасенъ. И въ этомъ смыслѣ крестьянская психологія законная въ крестьянскомъ быту и торговая психологія, умѣстная въ торговомъ быту – къ тому же заключающія въ себѣ и общечеловѣческія духовныя цѣнности, – безспорно мало умѣстны и мало подходящи къ государственной жизни, къ жизни межгосударственной и международной.
Я не хочу сказать, чтобы хозяйственный строй страны просто опредѣлялъ здѣсь идеи военнаго времени, чтобы онѣ были надстройкой надъ хозяйственной структурой современныхъ государствъ. Современный хозяйственный строй существуетъ не первый годъ и видѣлъ не первую войну, а между тѣмъ впервые характеръ лозунговъ отражаетъ въ столь яркой степени внутреннюю классовую психологію. Мало того, можно отмѣтить, что эта психологія и не исчерпывающе характерна именно для господствующихъ слоевъ послѣднихъ десятилѣтій; мѣщанство, мелкая буржуазія, сельская и городская – не вновь выработанные, а исконные элементы современнаго общества, для послѣднихъ-же его претвореній характерны не они, а тѣ капиталистическіе, крупно-капиталистическіе слои, чья власть и значеніе выработались и превзошли буржуазное общество, опредѣляя его послѣднюю разновидность. И однако именно теперь мѣщанская психологія оказалась подоплекой военныхъ идей. Конечно, здѣсь имѣло большое значеніе то, что по своему содержанію эти идеи были выгодны для политики Антанты; но этимъ дѣло еще не объясняется до конца, ибо если эта выгода отчасти заключалась въ томъ, что ихъ осуществленіе приводило къ ущербу для врага, то все же значительная – какъ знать, не наибольшая ли – часть этой выгоды заключалась, именно, въ ихъ вербующей силѣ. Имѣло существенное значеніе и сближеніе съ мѣщанской психологіей нѣкоторыхъ особенностей въ государственномъ положеніи странъ Антанты; но все же была и другая сторона въ этихъ явленіяхъ, всего проще выясняющаяся на Англіи.
Англія искони страна торговли и торговцевъ. Тѣмъ не менѣе до послѣдняго времени она сохраняла на ряду со строемъ свободы и всевластіемъ народнаго представительства – могучую аристократію, и эта аристократія сохранила свои и прерогативы и власть въ нѣкоторыхъ отрасляхъ государственнаго – а въ частности именно международнаго управленія. Доступъ былъ открытъ низамъ, но эти низы проходили, достигая власти, школу традиціоннаго аристократизма. Почему старая аристократія по своей психологіи отвѣчала задачамъ международно – государственнаго распорядительства, – это вопросъ особый: отчасти въ ея классовой и сословной подосновѣ была предзаложена соотвѣтствующая созвучность; отчасти же она традиціонно, нарочито воспитывала своихъ сыновей въ требующейся духовности. Въ послѣднее время это измѣняется. Не одинъ премьеръ пришелъ къ власти не изъ тренировавшихъ себя на власть круговъ (Bonar Law); но особенно показательнымъ является вождь и руководитель англійской имперіи Ллойдъ Джорджъ. Этотъ маленькій провинціальный адвокатъ принесъ на вершины власти не одни только государственныя большія свои дарованія и личныя блестящія данныя, не одинъ только свой валійскій горячій темпераментъ, но и духовный строй радикала – человѣка изъ толпы, адвоката, дѣльца, спорщика, агитатора. Но и не въ этомъ еще самомъ по себѣ суть дѣла; въ былыя времена его бы переварила среда власти, въ которую онъ попалъ; даже если онъ тамъ и не одинъ, она бы всѣхъ къ себѣ приспособила и уподобила, оставивъ различіе лишь въ оттѣнкахъ а не въ существѣ. Но произошло и болѣе глубокое измѣненіе: измѣненіе въ средѣ резонанса. Раньше ближайшій резонансъ имѣла государственная дѣятельность въ сравнительно тѣсныхъ высшихъ кругахъ и чѣмъ дальше, чѣмъ шире круги, – тѣмъ болѣе производнымъ становился резонансъ. Въ этомъ отношеніи послѣднія десятилѣтія внесли рѣшающее измѣненіе, – отчасти и измѣненія государственно-правныя, (расширеніе избирательнаго закона), но въ еще большей степени измѣненія хозяйственныя, духовныя, бытовыя. Грамотность выросла, выросъ интересъ къ политикѣ, газета стала дешевой и доступной, рабочее время сократилось – такія и подобныя перемѣны имѣютъ, быть можетъ, еще большее значеніе, нежели измѣненіе избирательнаго права. Средой непосредственнаго резонанса для государственной дѣятельности стала не организованная государственность, а неоформленныя широчайшія массы; при нормальныхъ условіяхъ – можно сказать: народъ, а въ взболомученныя, обостренныя, спѣшно рѣшительныя минуты – улица. Отсюда идетъ откликъ, сюда обращается власть, отсюда идутъ на нее встрѣчныя воздѣйствія. И въ своихъ содержаніяхъ и въ своемъ тонѣ власть должна приспособляться именно къ этой средѣ. Эта среда неорганизована и не расчленена; она воспринимаетъ и отвѣчаетъ огуломъ; въ ней преобладаютъ не тѣ, кто соціально сильны и не тѣ, кто духовно сильны, въ ней преобладаетъ неопредѣленная разсѣянная толпа, знаменитый «человѣкъ съ улицы», на котораго давно обратила вниманіе англо-саксонская политическая мысль, т. е. всякій человѣкъ, т. е. преимущественно мѣщанинъ. И вотъ почему къ мѣщанской психологіи приспособилась и мѣщанскую психологію отразила государственная мысль и политика западныхъ странъ современности.