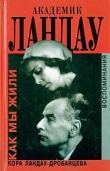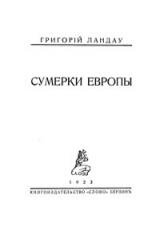
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
* * *
Мы подошли къ третьему изъ намѣченныхъ вопросовъ: была ли самая война неизбѣжной. Излюбленный какъ пацифистами, такъ и прокурорами побѣдоносной войны вопросъ этотъ ставится чаще всего въ плоскости вмѣненія. Онъ могъ бы быть и независимо отъ того поставленъ въ плоскости исторической причинности.
Безспорно, что не будь, напримѣръ, вовсе Германіи – не было бы и этой войны; или будь она маленькой, спокойно живущей, мало развивающейся страной – войны бы тоже не было, и слѣдовательно въ этомъ смыслѣ ясно, что причина войны заключается въ мощномъ ростѣ и развитіи Германіи. Конечно, съ другой стороны можно сказать: не будь Англіи, или будь Англія скромной и благодушной страной, привѣтствующей появленіе всякой новой державы на міровомъ поприщѣ, – этой войны тоже не было бы. Она въ одинаковой степени была вызвана возрастаніемъ германскаго государства изъ внутри-европейскаго въ міровое, какъ и нежеланіемъ допустить такой ростъ, какъ со стороны другихъ только европейскихъ народовъ, такъ и со стороны другихъ народовъ, уже міровыхъ.
Въ этомъ смыслѣ, если виновна Германія, то вина здѣсь не на правительствѣ, не на юнкерствѣ, не на милитаризмѣ, а на самомъ германскомъ народѣ; и вина не въ милитаризмѣ, а въ творчествѣ, въ ростѣ и созиданіи. Если это вина, то Германія виновата. Можно, конечно, сказать, что виноваты тѣ кто не хотѣлъ уступать своихъ завоеванныхъ ранѣе позицій завоевательному напору германской дѣятельности и культуры. Одна формулировка стоитъ другой. У однихъ вина въ творчествѣ и дѣятельности, у другихъ – въ сохраненіи завоеванныхъ или созданныхъ ранѣе благъ; у однихъ въ томъ, что они своей работой вытѣсняли, у другихъ въ томъ, что они не соглашались быть вытѣсненными. Воля каждаго выбрать, что онъ считаетъ недопустимымъ, или въ чемъ видитъ смягчающія вину обстоятельства, или что онъ и вовсе виной не считаетъ. Безспорно священна самозащита, хотя бы она приводила къ гибели, ибо все существующее предъявляетъ право на свое дальнѣйшее существованіе; но трудно не сочувствовать творчеству и созиданію, хотя бы оно вытѣсняло уже созданное и установленное другими. Ибо носителемъ не только будущаго, но и настоящаго, является именно оно; ибо безъ него ничего нѣтъ, не было бы и того, что сейчасъ отстаивается; ибо нѣтъ того законнаго Навина, который обоснованно могъ бы сказать солнцу человѣческой энергіи – остановись; ибо оно есть послѣднее оправданіе и смыслъ самаго существованія человѣческаго – а слѣдовательно и смерти. И именно потому, что самозаконны оба, потому и неизбѣжны и трагически безвинны ихъ столкновенія.
Но немыслимо ли преодолѣніе и вырѣшеніе споровъ между творчествомъ и самосохраненіемъ – мирное, безъ пролитія крови, безъ массовыхъ смертей и физическихъ страданій – безъ войны.
Присмотримся къ фактамъ. Едва ли бывалъ когда либо случай, чтобы государство переходило съ одного уровня на другой, высшій – безъ силового утвержденія себя на этомъ новомъ уровнѣ. Еще недавно Японія утвердила свою нынѣшнюю великодержавность въ рядѣ войнъ; Америка, выраставшая въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ удаленности и независимости, къ тому же безспорно по традиціямъ, убѣжденіямъ и, можетъ быть, инстинктамъ настроенная глубоко антимилитарно, свой выходъ на міровую державную арену ознаменовала войной съ Испаніей. Англія рядомъ войнъ закрѣпляла свое державное положеніе, и рядомъ войнъ ознаменовывали на протяженіи 19 вѣка Германія и Италія послѣдовательныя стадіи своего роста. Общимъ образомъ можно сказать: государство устанавливаетъ свой новый государственный status неизмѣнно силовымъ путемъ. Задача соціологіи отвѣтить на вопросъ, почему это такъ, и слѣдовательно поднять вопросъ, мыслимо-ли, чтобы стало иначе. Но до сихъ поръ это было такъ, и потому незачѣмъ притворяться, будто въ данномъ случаѣ просто могло быть иначе Можно надѣяться, что когда либо безъ силового утвержденія будутъ разрѣшаться конфликты. Пусть люди уже сейчасъ добросовѣстно ставятъ подобныя задачи, стремясь къ ихъ выясненію. Но возможность добросовѣстно ставить этотъ вопросъ по отношенію уже къ прошлому или настоящему – да еще въ порядкѣ виновности – мнѣ представляется просто исключенной. Думать, что въ 1914 году уже были данныя для разрѣшенія подобныхъ проблемъ безъ войны, когда въ 1905 году и во всѣ предшествовавшіе годы объ этомъ не было и помину, – просто непозволительно. И потому вообще заниматься выясненіемъ того, почему силовымъ путемъ устанавливается державное перераспредѣленіе, возможно, какъ возможно заняться всякимъ теоретическимъ вопросомъ; но конкретно исходить изъ отрицанія этого пути при разсмотрѣніи великой европейской войны, или японо-русской, или испано-американской, или какой бы то ни было другой державно-знаменательной войны прошлаго – представляется методомъ слишкомъ мало плодотворнымъ. Что великій конфликтъ державнаго перераспредѣленія разразился въ такой моментъ, а не въ другой, въ такой, а не въ другой конъюнктурѣ – въ этомъ можетъ быть личная вина, ибо это можетъ быть сводимо къ конкретно-выдѣлимымъ дѣяніямъ; что вообще силовымъ путемъ разрѣшаются конфликты державнаго перераспредѣленія – въ этомъ личной вины не бываетъ.
Вовсе этимъ я не хочу сказать, чтобы не слѣдовало государственнымъ людямъ и народамъ производить всевозможныя усилія во избѣжаніе войны или хотя бы для ея отсрочки или смягченія. Я только утверждаю, что въ современномъ мірѣ подобныя усилія, даже умѣлыя и добросовѣстныя, никоимъ образомъ не могутъ предполагаться обезпеченными успѣхомъ. И потому исходить – при установленіи вины и вмѣненія – изъ предположенія, что сохраненіе мира есть нѣчто естественное, а переходъ къ войнѣ предполагаетъ преступно на то направленную волю, значитъ ставить на голову подлинное соотношеніе вещей. Въ частности, болѣе чѣмъ сомнительно, чтобы безъ войны могъ обойтись росгъ германской культуры и государственности; но вполнѣ допустимо, что онъ могъ бы обойтись безъ этой войны.
3. ВОСТАНОВЛЕНІЕI. Средняя Европа
Разгромлена Европа войной, разгромлена Европа миромъ. Каковы бы ни были причины – что же съ ней будетъ дальше? Будетъ ли дальнѣйшее лишь реализаціей занесеннаго удара, медленной смертью уже переставшаго нормально жить ор-ганизма. Или еще есть возможность спасенія и продолженія творческой жизни. О прежнемъ положеніи говорить не приходится; тотъ томъ міровой исторіи законченъ и можетъ быть поставленъ на полку къ другимъ томамъ отошедшихъ въ прошлое эпохъ, но остаются вѣдь жить люди, остаются жить народы, живутъ культуры. И остается вопрос ь, каковы же возможности для новой Европы, для Европы уже только какъ частичной міровой силы, какъ одного изъ факторовъ человѣчества.
Германія до войны стояла во главѣ европейскаго движенія; на ея долю выпало осуществлять очередную міровую европейскую задачу; ея историческое движеніе было поэтому прогрессивно и идеи его – идеями творческими. Въ центрѣ войны, ея судебъ и усилій стояла Германія, какъ носительница будущаго противъ охранительства прошлаго, какъ индивидуально наиболѣе могучая противъ превышавшаго ее союза всѣхъ, какъ Европа противъ міра. И соотвѣтственно – паденіе Германіи обнаружилось, какъ паденіе Европы. Естественно, что и въ центрѣ возстановленія Европы, хотя бы въ томъ частичномъ смыслѣ, о которомъ шла выше рѣчь, – становится возстановленіе Германіи. И не только въ томъ смыслѣ связано съ возстановленіемъ материка возстановленіе Германіи, что она сама по себѣ является наиболѣе многочисленнымъ – послѣ Россіи – его народомъ, что съ ея платежами связалось будущее Франціи, что съ ея производительностью, емкостью, валютой, связана производительность и емкость другихъ, и. т. п. Но и глубже. Европа, обезкровленная, безъ посторонней помощи возстановиться не можетъ. Но посторонняя помощь – есть и постороннее руководство и въ томъ или иномъ смыслѣ господство. Возстановиться въ самодовлѣніи она можетъ только сосредоточеніемъ около нѣкоторой внутренней силы, внутренняго центра. Англія уже стала для нея центромъ внѣшнимъ, Россія надолго выведена изъ строя, Франція рокомъ своей исторіи обречена руководящее положеніе оплачивать подавленіемъ Европы. Безспорная страна будущаго – Италія, но она все же слишкомъ исчерпывающе оріентирована на частичный средиземно-морской бассейнъ и лишена нѣкоторыхъ основъ міровой державности. У другихъ странъ порознь – нѣтъ достаточной массы и человѣческой, и матеріальной, и духовной; сближенія между ними одними, конечно, вполнѣ возможны, но они и географически, и культурно останутся частичными сближеніями – Скандинавскихъ странъ отдѣльно взятыхъ, или югосредне-европейскихъ тоже взятыхъ отдѣльно. Уже самое географическое положеніе приводитъ къ тому, что линіи дальнѣйшаго движенія этихъ группъ или отдѣльныхъ ихъ членовъ между собой – скрещиваются на территоріи Германіи; и къ тому же ведутъ и культурныя особенности и отношенія. Мало внутренней связи и близости – между Латвіей и Чехіей, Литвой и Швейцаріей и даже Швейцаріей и Швеціей; но всѣ эти, да и другія страны, какими либо своими сторонами – не только географически, но и духовно-экономически – примыкаютъ къ Германіи. Тысячи нитей сосѣдства, вѣковой исторической близости, хозяйственнаго сожительства связываютъ съ отдѣльными частями Германіи эти географически примыкающіе къ ней съ разныхъ сторонъ народы. Одни, какъ Швейцарія, Австрія связаны съ ней языковымъ и племеннымъ родствомъ; и племеннымъ же, хотя и болѣе отдаленнымъ родствомъ связаны съ ней скандинавскіе народы; въ средѣ другихъ – Чехіи и Польши – живутъ ея соплеменники въ большомъ числѣ; даже и какъ будто враждебные ей народы – чехи, латыши – въ концѣ концовъ прошли многовѣковую общую историческую выучку въ значительной степени именно въ школѣ германской. Пока вопросъ стоялъ о внутри-европейскихъ силахъ и соревнованіяхъ – центральное положеніе не могло имѣть того значенія и даже, наоборотъ, положеніе периферическое, близость къ океану, легкость сношенія и использованія заморскихъ богатствъ могли играть рѣшающую роль. Центральное положеніе только увеличивало давленіе со всѣхъ сторонъ и отсѣкало источники обогащенія и внѣшняго господства. Но когда вопросъ зашелъ о собираніи Европы, то здѣсь именно это центральное положеніе получаетъ опредѣляющій вѣсъ, – и быть можетъ, именно въ этомъ и заключалось одно изъ основаній (хотя и не единственное), почему осуществлять задачу европейскаго имперіализма выпало на долю именно Германіи. Имперіализмъ въ Европѣ могла создавать и Франція, имперіализмъ Европы можетъ создать одна только Германія.
Въ нѣкоторомъ отношеніи можно сказать, что теперешнее ослабленное положеніе Германіи даже можетъ содѣйствовать болѣе легкому и полному закрѣпленію связей съ сосѣдями. Былая военная мощь Германіи заставляла малыя страны оставаться насторожѣ, въ опасливомъ отгораживаніи. Сейчасъ Германія въ военномъ отношеніи не опасна ни для кого. Мало того, Германія нуждается въ помощи, и эту помощь – съ вы-годой для себя легко могутъ ей оказывать иные богатые, насыщенные культурой сосѣди, – Голландія, Швейцарія; другія наоборотъ нуждаются въ ней для своего закрѣпленія. И только черезъ ея посредство и посредничество могутъ въ одну систему собираться столь глубоко различные по культурному уровню народы, изъ которыхъ иные стоятъ на уровнѣ высшихъ германскихъ составныхъ честей, а другіе – ниже наименѣе культурныхъ провинцій. Гамбургъ также родственъ Роттердаму, или Любекъ – Мальме, какъ баварскіе Альпы близки Тиролю или Зальцбургу; какъ неразличимо переходитъ одинъ въ другой Баденъ и Базель; Саксонія родная сестра нѣмецкой Богеміи, Восточная Пруссія издавна находилась въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ сѣверо-западной Россіей, связанная общими рѣками; одинаково – балтійскіе порты Кенигсбергъ и Рига, Данцигъ и Либава; Бреславль, несмотря на государственное расхожденіе, сохранитъ близость къ Познани. Такъ къ различнымъ федеративнымъ частямъ Германіи, единой въ своей разнохарактерности, примыкаютъ порознь различныя сосѣднія страны, въ ней находя соединительное географически духовное звено.
Тяга и шансы такого сближенія и совмѣстной работы нисколько не заключаются въ чемъ либо похожемъ на военныя предпріятія или планы, на вооруженіе, или наступленіе; для него не нужна даже и особенная дипломатическая или политическая подготовка, хотя, конечно, таковая можетъ облегчать или закрѣплять достиженія. Тяга заключается въ элементарной жизни, въ простѣйшихъ экономическихъ отношеніяхъ, въ повседневнокультурныхъ интересахъ, – и тѣмъ труднѣе ей помѣшать. Чтобы ей воспрепятствовать, необходимо у каждаго предпріятія поставить сторожа и около каждаго народа завести сложную дипломатическую сѣть; помѣшать можно – въ сущности говоря, только держа все и всѣхъ въ развалинахъ и подавленности. И, значитъ, снова встаетъ альтернатива: либо Европа въ искусственно удерживаемыхъ развалинахъ, либо сплетеніе средне-европейской близости около и въ связи съ Германіей.
* * *
Различныя силы естественно могутъ способствовать такой неудержимо стихійной концентраціи; всѣ онѣ совпадаютъ въ понятіи жизненныхъ потребностей заинтересованныхъ странъ.
Страны малой культуры совершенно естественно устремятся воспользоваться резервуаромъ культуры и производительности, заключеннымъ въ Германіи. Въ нѣкоторыхъ изъ вновь образовавшихся въ средней Европѣ государствъ можетъ сложиться даже и вопреки путямъ ихъ образованія тяга къ тому, чтобы найти опору въ сближеніи съ Германіей. Самая наличность нѣмецкаго населенія въ странахъ новообразованныхъ можетъ послужить основой – не взаимныхъ притѣсненій, а сближенія этихъ государствъ съ комплексомъ государствъ германскихъ.
Было бы для Германіи ложной политикой – задаться цѣлью всѣхъ нѣмцевъ объединить, выдѣлить въ одно государство. Національный вопросъ, какъ вопросъ культуры и администраціи, сравнительно не трудно удовлетворительно разрѣшить въ маленькой Европѣ и безъ территоріально государственныхъ передѣловъ, – когда взоры будутъ направлены на болѣе далекія задачи; а для задачъ сближенія наличность нѣмцевъ въ составѣ сосѣднихъ странъ можетъ лишь служить сближающимъ моментомъ. Она можетъ политически нисколько не быть опасной для самихъ этихъ государствъ, посколько устанавливается согласный modus vivendi. Эта наличность можетъ культурно быть нисколько не опасной для нѣмецкаго меньшинства въ силу – сосѣдства культурно-значительной германской массы: и во всякомъ случаѣ всякія національныя опасности могутъ безъ труда быть устранены путемъ встрѣчныхъ соглашеній; и наконецъ и для общеевропейскаго имперіализма такая національная черезполосица можетъ оказаться даже выгодной. Нѣмецкій черезполосный элементъ можетъ явиться естественнымъ посредствующимъ звеномъ между своей государственной и своей культурной родиной, и тѣмъ послужить сближенію въ одну общую сферу этихъ (точнѣе – нѣкоторыхъ изъ этихъ) государствъ въ общій средне европейскій комплексъ.
Въ другихъ малыхъ – искони самостоятельныхъ, глубоко культурныхъ – народахъ, примыкающихъ къ Германіи, имѣются – или во всякомъ случаѣ могутъ обнаружиться стимулы новаго обще-европейскаго возстановленія. Эти малыя государства – въ первую голову поставлю Голландію, но сюда же относятся и Швейцарія и скандинавскія страны – насыщенныя богатствомъ и культурой, старинные резервуары, а въ не малой степени и творцы европеизма (опять таки на первую очередь поставлю Голландію) и всегда его неизмѣнные подлинные носители – потеряли нынѣ всякія основанія для опасенія какихъ либо злыхъ умысловъ со стороны Германіи. Безспорно, здѣсь Германія и найдетъ опору для своего хозяйственнаго возстановленія. Но, можетъ быть, именно на почвѣ уничтоженныхъ политическихъ опасеній здѣсь возможнымъ окажется и иное сближеніе, – культурное, хозяйственное; сближеніе, пожалуй, даже международнаго типа, хотя бы и не формальное. Можетъ быть въ этихъ малыхъ резервуарахъ европеизма проснется передъ угрозой – и кто знаетъ, не передъ рокомъ ли – окончательнаго погасанія европейскій патріотизмъ, у нихъ болѣе европейскій, чѣмъ у какого либо изъ крупнѣйшихъ народовъ. У тѣхъ европейство неизбѣжно окрашивается германствомъ, англосаксонствомъ, франко-галльствомъ, даже итальянствомъ; но у Голландіи – голландская культура не можетъ заслонить или замѣнить западноевропейской. Мы вѣдь знаемъ, какъ обманчива и даже облыжна видимость матеріальнаго благополучія и мирной удовлетворенности. Бываютъ великія теченія, охватывающія народы, изъ какихъ то глубинъ подымающія ихъ на призывы и велѣнія судьбы и бросающія на великія игры, въ которыхъ созидаются кульминаціонныя точки человѣческой жизни. Для этого не требуется сознательныхъ рѣшеній; для этого – въ данномъ случаѣ – не требуется и военныхъ тяготѣній; больше чѣмъ когда либо, это вопросъ простѣйшаго дѣланія не однихъ государствъ, а и народа, отдѣльныхъ слоевъ, отдѣльныхъ группъ и даже лицъ. И эти теченія сказываются не въ какой либо планомѣрной политикѣ народовъ и парламента, а въ массовыхъ дѣйствіяхъ, въ широкихъ устремленіяхъ и симпатіяхъ, въ логикѣ конкретныхъ государственныхъ проявленій. Можетъ быть ходъ событій создастъ въ этихъ малыхъ странахъ новую дѣйственную, неистраченную и полную духовной мощи опору для послѣдняго самоотстаиванія и подъема Европы, для послѣдняго ея возгоранія. Такое развитіе придастъ безспорно средней Европѣ новый видъ, новое распредѣленіе центровъ и перестановку ихъ вѣса, но въ корнѣ не измѣнитъ того существа новой Европы, которое центръ ея тяжести расположилъ въ сѣверо-центральной ея части.
И наконецъ въ самой Германіи имѣются условія, благопріятствующія возстановленію путемъ трудовыхъ усилій и производительныхъ напряженій; а именно, – помимо ея трудовой и творческой мощи и упорной жажды жить – то, что она объективно не нуждается въ реваншѣ за военное пораженіе, а въ одномъ лишь возстановленіи. Она должна покрыть и возмѣстить себѣ не войну, а только результаты войны.
Въ самомъ дѣлѣ бываетъ такъ, что самая война настолько глубоко проявляетъ народную несостоятельность даннаго періода народной жизни, что народъ не въ силахъ подняться въ чужомъ и своемъ собственномъ самосознаніи, въ своемъ моральномъ самоощущеніи – не возмѣстивъ безчестія проигранной войны, не загладивъ пораженія честью новой побѣды. Конечно, и безъ новыхъ войнъ и побѣдъ можетъ быть возстановлено народное самосознаніе – доблестью мирнаго строительства и культурныхъ успѣховъ; но это путь долгій, трудно уловимый въ безспорности своихъ достиженій, медлительно разсасывающій ядъ пораженія.
Ничего подобнаго нѣтъ въ случаѣ съ Германіей. Война, закончившаяся пораженіемъ, въ своемъ протеченіи была по рѣдкому исключенію настолько побѣдоносной, въ такой мѣрѣ проявила доблесть и исключительныя качества, что останется въ исторіи страницей славы побѣжденнаго. И потому ни объективно, ни субъективно Германіи не требуется для возстановленія своего моральнаго равновѣсія и нормальнаго историческаго самочувствія – реваншнаго успѣха. Да, впрочемъ нѣтъ и додлиннаго объекта для реванша: побѣдитель – коалиція, разсѣянная по всѣмъ материкамъ – растаялъ вмѣстѣ съ побѣдой, и нѣкоторые его важнѣйшіе составные элементы въ такой мѣрѣ оказываются лишенными враждебности и одіозности для Германіи, что о реваншѣ по отношенію къ нимъ и вообще никакой рѣчи быть не можетъ. Было бы неправдой скрывать отъ себя, что послѣвоенное обращеніе съ Германіей, безпорно оскорбляя страну тысячью мелкихъ уколовъ и крупныхъ ударовъ, выводитъ изъ этого положенія, внушая чувство нарастающей обиды. Но это уже вопросъ послѣдующаго времени; сама война поставила вопросъ не реванша, а возстановленія.
II. Еврейство
Но есть силы и интересы, которые дѣйствуютъ въ томъ же направленіи помимо средне-европейскаго состава государствъ. Быть можетъ, покажется страннымъ, если въ этомъ отношеніи я сопоставлю столь различныя величины, какъ еврейство и Россію.
Своеобразна въ тысячелѣтіяхъ судьба еврейскаго народа. Длительность его существованія обусловливается, конечно частью внутренними духовными его свойствами, но частью и внѣшними соотношеніями съ народами окружающими. Во всякомъ случаѣ періоды расцвѣта и упадка всецѣло опредѣляются той государственно культурной средой, сквозь которую въ данный отрѣзокъ своей исторіи проходилъ еврейскій народъ. И общимъ образомъ можно сказать, что въ тѣ эпохи расцвѣтала еврейская жизнь, которыя общимъ тономъ своимъ были конгеніальны еврейской духовности или соотносительны съ ней, нуждаясь въ ней, какъ въ своемъ дополненіи; и, только въ тѣхъ государственныхъ рамкахъ расцвѣталъ еврейскій народъ, которыя отвѣчали его соціальныму и духовному строенію. На протяженіи вѣковъ бывали періоды еврейскаго расцвѣта, сравнительно болѣе короткіе, и сравнительно болѣе длинные періоды еврейскаго упадка, въ продолженіе которыхъ однако накапливались различныя отрицательныя и положительныя свойства, находившія свое проявленіе въ дни расцвѣта. Здѣсь не мѣсто по содержанію уяснять духовныя и соціальныя особенности, коими опредѣляется возможность расцвѣта въ чужой культурѣ и въ чужой государственности[11]11
Въ другихъ мѣстахъ мнѣ приходилось дѣлать соотвѣтствующія попытки: «Отрывки объ изученіи еврейства» въ Еврейской Библіотекѣ, т. X и др.
[Закрыть]. Отмѣчу здѣсь существенныя для нашего разсмотрѣнія черты.
Во первыхъ, какъ народъ не только разсѣянія, но выработавшійся и выработавшій въ разсѣяніи свою духовность, преимущественно городской жизни, своеобразно самобытный, но вмѣстѣ съ тѣмъ соціально незамкнутый, не включающій въ себя исчерпывающихъ соціальныхъ функцій – еврейство можетъ процвѣтать, какъ своеобразный коллективъ только въ морѣ широкаго имперіализма. Мелкая государственность его дробитъ, онъ сохраняетъ свою массу только въ государственности крупной, имперіалистической; а масса имѣетъ для него сугубое значеніе, ибо онъ лишенъ другихъ сцѣпляющихъ началъ – территоріи и политической организованности. Обширность территоріи и связанность съ ней разнородныхъ населеній имѣетъ для него еще и то значеніе, что при сочетаніи въ одной имперіи многихъ вѣръ и національностей онъ легче и, пожалуй, единственно имѣетъ шансы сохранить свою вѣру и свою національность не въ конфликтѣ и противопоставліеніи, а въ сочетаніи съ государственнымъ укладомъ, въ согласованности съ имперской структурой, какъ ея нормальную составную часть. Обширность государственной среды имѣетъ для него и еще другое значеніе, открывая возможности для развертыванія его спеціально городскихъ и даже крупно городскихъ торговыхъ и интеллигентскихъ функцій – создавая поприще для его своеобразно кочевой, двигательно-напряженной, активно-экспансивной природы. Въ мелкомъ государствѣ еврейство обречено либо обезличиться, поглощенное господствующимъ населеніемъ, либо противостоитъ ему, какъ механически чуждое, инородное, непереваримое тѣло. То, что въ многонаселенной, многонаціональной и многовѣрной имперіи является естественнымъ или во всякомъ случаѣ пріемлемымъ, становится тамъ аномаліей и болѣзненностью. Скованность тѣсными границами, а въ ихъ предѣлахъ городской жизнью, отрѣзаетъ благія производительныя возможности своеобразно еврейской разсѣянной связанности и сковываетъ положительныя стороны ихъ активности. Поэтому еврейство и расцвѣтало въ эпохи имперіализма, играло въ нихъ значительную роль, было обычной ихъ опорой или даже зиждительной силой; такъ въ разныхъ степеняхъ обстояло дѣло и въ Римской имперіи, и въ арабскомъ калифатѣ, въ имперіи Каролинговъ, и въ современной Европѣ.
Есть и второй моментъ на ряду съ этимъ (къ которому ниже еще прійдется вернуться въ другой связи) – это моментъ духовной активности, волевой напряженности, въ послѣднемъ своемъ корнѣ, опирающійся на неизмѣнную устремленность пустыннаго кочевья на зарѣ народной жизни и городскаго разсѣянія на всемъ ея протяженіи. Бываютъ эпохи органической законченности жизни, ея пригнанности въ уравновѣшенныя рамки; бываютъ эпохи строительства безъ устали и ограниченія, устремленія въ даль и въ высь, все опрокидывающаго или все побѣждающаго напора. Эти послѣднія эпохи особенно конгеніальны съ духомъ еврейства и въ эти эпохи еврейская работа особенно естественно и безпрепятственно укладывается въ общее стремленіе вѣка. Таковыми были эпоха арабская и ново-европейская; и въ обѣ – еврейство играло особенно видную роль, крѣпко спаявъ свою работу съ работой и устремленіями вѣка, сохраняя, однако, свою самость въ общемъ строительствѣ.
И наконецъ третья черта, выработавшаяся въ еврействѣ, какъ въ народѣ въ общемъ преслѣдуемомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пред ставляющемъ нѣкій, хотя и не замкнутый, духовный коллективъ, который въ себѣ включаетъ всѣ духовныя функціи народа, – это система идей и чувствъ преодолѣнія угнетенности. Во всякомъ народѣ главная его масса можетъ оказаться въ состояніи подавленности. Но даже когда эти такъ угнетенныя массы составляютъ въ духовномъ смыслѣ одно цѣлое съ другими частями народа, онѣ не вырабатываютъ своей особой идеологіи, системы чувствъ и учрежденій, соотвѣтствующихъ состоянію угнетенности и борьбѣ съ угнетенностью. Наоборотъ идеологія, общая духовность, вырабатываемая народомъ въ его высшихъ и среднихъ слояхъ, обыкновенно соотвѣтствуетъ положенію, точкѣ зрѣнія и чувствамъ господствующихъ круговъ, или во всякомъ случаѣ положенію народа въ его цѣломъ; соотвѣтствуетъ положенію его въ мірѣ среди другихъ народовъ, въ природѣ или – его внутреннему состоянію. То же, конечно, имѣетъ мѣсто и въ народѣ еврейскомъ. Но онъ обычно находился цѣликомъ въ положеніи въ общемъ безправнаго или неравноправнаго, угнетаемаго или угрожаемаго угнетеніями; и потому и духовность его, чувства, соціальныя убѣжденія вырабатывались при рѣшающемъ участіи духовныхъ и соціальныхъ верховъ, но соотвѣтствовали совокупному положенію народа, положенію общей угнетенности и притѣсненности. Къ тому же при этомъ угнетенность есть состояніе пассивное, обреченное; притѣсняемые обречены на исчезновеніе или на ниспаденіе въ безотвѣтственные низы, на болѣе или менѣе соціально-объектное, а не соціальносубъектное состояніе. Наоборотъ еврейство, какъ группа притѣсняемая, но вмѣстѣ съ тѣмъ не неизбѣжная въ строеніи общества (какъ неизбѣжны, напримѣръ, соціальные «низы») могло бы исчезнуть, если бы она была чисто пассивной, претерпѣвающей. Разъ она сохранялась, ясно, что она вмѣстѣ съ тѣмъ проявляла непрерывную историческую активность, непрерывное противленіе (и вѣроятно встрѣтила для того достаточно благопріятныя внутреннія или внѣшнія основанія); она не только была въ положеніи претерпѣвающей, но и въ положеніи преодолѣвающей угнетеніе, – борющейся или уклоняющейся, но во всякомъ случаѣ преодолѣвающей. Отсюда новое сближеніе съ современной Европой, демократической, протестующей, борющейся противъ угнетенія массъ; съ новой Европой, въ которой въ силу распространенія образованія и повышенія благосостоянія – сами массы перешли отъ положенія униженности къ его преодолѣнію. И поразительно въ какой мѣрѣ рядъ идей и учрежденій современнаго демократическаго общества имѣютъ своихъ предтечъ въ еврейскомъ обществѣ былыхъ вѣковъ, взятомъ какъ цѣлое (хотя и оно въ своей собственной средѣ включало господствующихъ и подвластныхъ, подчиняющихся и подчиненныхъ). Оно выработало чувство переживанія угнетенія и вмѣстѣ съ тѣмъ напряженія его преодолѣть – во всемъ томъ, что это заключаетъ одновременно и дурного и хорошаго: одновременно и въ системѣ чувствъ приниженности и забитости, но и чувствъ борьбы и напора; одновременно въ системѣ притязаній, на что, не имѣя, чувствуешь свое право, претензій, обидъ, чувствъ вызова и протеста, солидарности въ страданіи и гуманности. Здѣсь не мѣсто обстоятельно развернуть различныя перекрещивающіяся послѣдствія, вытекающія изъ этой исходной точки. Достаточно напомнить, какой громадной струей влился еврейскій субстратъ въ процессъ европейской демократической, либеральной и соціалистической борьбы, въ процессъ подъема низовъ и революціи[12]12
Въ вышеупомянутой статьѣ сдѣлана попытка выяснить изъ тѣхъ же предпосылокъ, почему еврейство, принявшее столь большое участіе въ процессѣ демократическомъ и соціалистическомъ, осталось въ общемъ чуждымъ анархизму.
[Закрыть]. Можно по разному оцѣнивать это участіе въ европейской жизни; до губительнаго катаклизма послѣднихъ лѣтъ естественно было оцѣнивать это участіе преимущественно въ его положительномъ значеніи; послѣ совершившихся нынѣ разгромовъ, столь же естественно преувеличивать и отрицательную сторону. Я здѣсь ни въ малѣйшей мѣрѣ не занимаюсь обвиненіемъ или апологетикой, а исключительно только установленіемъ фактическихъ зависимостей. И въ этомъ смыслѣ существенно уяснить, что и въ этомъ отношеніи еврейство оказалось созвучнымъ глубинному процессу – одному изъ рѣшающихъ процессовъ, происходившихъ въ современномъ европейскомъ обществѣ. Это не было разложеніемъ европейскаго общества со стороны еврейства, какъ думаютъ многіе; это было участіе въ одномъ изъ рѣшающихъ процессовъ, происходившихъ въ самомъ этомъ обществѣ – въ процессѣ подъема низовъ; и если здѣсь было разложеніе, то это было его саморазложеніемъ.
Вѣками выработанной стихіей еврейства было обусловлено его участіе въ жизни современной Европы; въ этомъ и находитъ свое объясненіе совмѣстность того, что кажется противоположнымъ и взаимно противорѣчивымъ: одновременно мірового торговаго организаторства, участія въ высшихъ формахъ крупно-городского хозяйства (финансовый капиталъ), имперіализма (напр., въ лицѣ Дизраэли) и демократической борьбы (напр. у Лассаля), иногда своеобразно сочетающихся и въ личности, и въ содержаніяхъ.
Можно сочувствовать этимъ особенностямъ или ихъ отвергать, можно ихъ благословлять или проклинать; но надо ихъ признать, и надо признать и понять, почему и какъ еврейство глубочайшими своими особенностями вложилось въ ново-европейскую культуру; не въ культуру Западной Европы, какъ она; складывалась со временъ готики, и не въ ту ея стадію, которая складывалась со временъ Возрожденія, а именно въ тотъ послѣдній ея отрывокъ, который, зачатый еще въ 18 вѣкѣ, собственнаго расцвѣта своего достигъ лишь къ концу 19 в., въ культуру ново-европейскую въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Здѣсь дѣло отнюдь не только въ томъ, что освобожденное или постепенно допущенное къ свободѣ, къ гражданственности и къ просвѣщенію еврейство влило свои личныя силы въ общее дѣло европеизма. Конечно, есть и и это; есть и то, что самое освобожденіе и пріобщеніе къ европеизму проявляло внутреннее ихъ сродство. Но главное здѣсь въ томъ, что въ рѣшающихъ своихъ чертахъ ново-европейская культура оказалась конгеніальной съ основными пружинами еврейской души, съ основными тяготѣніями еврейской стихіи, съ основнымъ чертежомъ еврейской общественности, какъ онъ былъ выработанъ въ прошлые вѣка; и вливаясь въ нее, еврейство – себя осуществляя – осуществляло и ея заданія и ея тяготѣнія: напряженный (едва ли не бѣшеный) натискъ волевого строительства, имперіализмъ, всемірно-городскую культуру, демократическій разливъ. И именно поэтому – отнюдь не только, какъ это обыкновенно говорится, въ силу личной даровитости, напористости, наглости, или энергіи – еврейство сыграло свою большую роль въ наше время; оно оказалось однимъ изъ его предустановленныхъ носителей и воплотителей. Наведенная долгими вѣками пружина было спущена либерализмомъ эпохи, двигавшейся въ направленіи дѣйствія этой пружины. Вліяніе еврейства въ послѣднія десятилѣтія бросалось въ глаза наблюдателю; теоретики и романисты, соціологи и публицисты посвятили ему не мало вниманія. Какъ всякое дѣйствіе, въ особенности столь напористое, вызываетъ противодѣйствіе, такъ и еврейское участіе въ ново-европейской культурѣ вызвало рѣзкій отпоръ; и именно черезъ этотъ отпоръ антисемитизма оно стало нагляднѣе раньше, чѣмъ черезъ признаніе. Но факты остаются; дѣйствительно глубокое значеніе имѣло въ ней еврейство, невытравимое ни въ дурномъ, ни въ хорошемъ.