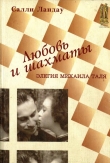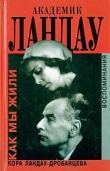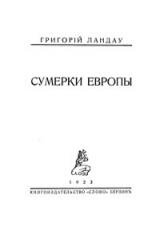
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
* * *
Выше вопросъ ставился о защитѣ уже признаннаго положительнаго права (малыхъ державъ) отъ нарушенія (со стороны сильныхъ); слѣдовательно формально мы имѣли все еще ту же задачу соблюденія положительнаго права, договора, что составляло и содержаніе перваго разсмотрѣннаго выше лозунга войны, въ примѣненіи къ спеціальному случаю къ – международному положенію малыхъ государствъ. Иначе стоитъ вопросъ во второмъ случаѣ – при примѣненіи принципа самоопредѣленія къ національностямъ не государственнымъ. Онѣ вкраплены въ чужія государства и принципъ здѣсь заключается въ предоставленіи имъ возможности выдѣлиться изъ нихъ и создать на національной основѣ свою новую государственность, уничтожающую тѣ. Здѣсь принципъ самоопредѣленія оказывается направленнымъ противъ существующихъ государствъ, противъ существующаго права, противъ существующихъ договоровъ и представляетъ изъ себя подлинно революціонное взрывчатое начало, отрицающее установленныя, историческія, вѣками сложившіяся отношенія. Нѣтъ болѣе кричащаго противорѣчія противъ принципа легальности и права (позитивнаго), нежели принципъ государственнаго самоопредѣленія негосударственныхъ національностей. Нѣтъ болѣе кричащаго противорѣчія, какъ между святостью подписи на документѣ, нерушимостью нормъ и договоровъ международнаго и государственнаго права – и одновременной святостью права націи опрокинуть всякое историческое государственное, международное право съ цѣлью создать свою новую государственность.
Но если принципъ самоопредѣленія (негосударственныхъ національностей) не совмѣстимъ съ идеей правовой легальности, то его можно подвести подъ другую правовую идею – справедливости. Неразличеніе права дѣйствующаго отъ права идеальнаго, естественнаго, можетъ служить хорошимъ прикрытіемъ для отмѣченнаго противорѣчія: пусть тамъ дѣйствуетъ принципъ права положительнаго, здѣсь вѣдь тоже дѣйствуетъ нѣкій принципъ права; и то, что оно уже иное – естественное – можетъ быть оставлено безъ особаго вниманія.
Но вѣдь кромѣ тою, что оба права дѣйствуютъ, они еще другъ другу противодѣйствуютъ. Какъ же быть со святостью нарушающихъ одинъ другой принциповъ? Точка зрѣнія нерушимости права положительнаго, хотя бы противъ него были выдвинуты какія угодно глубокія требованія и объемлющіе интересы, можетъ быть признаваема антисоціальной, но во всякомъ случаѣ она остается внутренно-обоснованной. Но дозволить, чтобы требованія справедливости, права естественнаго преодолѣли право позитивное – допустить разрушеніе государства во имя національнаго интереса – значитъ тѣмъ самымъ признать, что критерій лойяльности и легальности не является основополагающимъ; а тѣмъ самымъ исчезаетъ и всякая опора для принципа нерушимой легальности. Если можно право нарушить во имя національныхъ требованій малыхъ народовъ, то становится мало понятнымъ, почему его нельзя нарушить и во имя соціальныхъ или культурныхъ требованій большого народа, во имя творчества народа великаго. Остается непринципіальное, а фактическое различіе: во имя однихъ интересовъ можно нарушить законность, во имя другихъ нельзя. Тѣмъ самымъ различіе уже переходитъ отъ принциповъ къ взвѣшиванію конкретныхъ человѣческихъ содержаній, желаній и интересовъ. Естественно, что интересы, ихъ критеріи и іерархія не могутъ быть для всѣхъ общезначимыми, они должны и во всякомъ случаѣ могутъ расходиться. Интересы, справедливые для одного народа, могутъ стать въ неразрѣшимое противорѣчіе къ интересамъ и справедливости другого; и неизбѣжнымъ становится либо нарушеніе справедливыхъ требованій одного изъ нихъ, либо борьба каждаго за свои, борьба, при которой каждая сторона будетъ стремиться выставить себя, какъ единственную справедливо и основательно заинтересованную. На самомъ дѣлѣ верховный интересъ правды требуетъ въ подобныхъ случаяхъ признанія самозаконности столкнувшихся точекъ зрѣнія и ихъ возможной непримиримости. И тогда дѣло человѣческой совѣсти признать борьбу, хотя бы и со скорбью въ духѣ, – признать ея неизбѣжность и законность, смягчая, посколько это возможно, ея протеченіе и ея послѣдствія, сводя ее до неотвратимаго минимума. Обманчивость же поверхностнаго оптимизма заранѣе предполагающаго, что можно обойтись безъ борьбы, безъ роковыхъ столкновеній и неоправдываемыхъ потерь, всегда все разрѣшая согласно единой для всѣхъ справедливости и общимъ интересамъ – становится лишь прикрытіемъ для беззастѣнчивыхъ бойцовъ; этой недально-видностью не борьба предупреждается, а лишь связываются руки одному изъ борющихся, чтобы тѣмъ вѣрнѣе другой могъ его поразить.
Не впервые высокія чувства и идеи, когда ихъ разносятъ потоки слишкомъ звонкихъ словъ, служатъ заградительной завѣсой, за которой происходитъ закланіе вполнѣ обоснованнаго притязанія. Что идея самоопредѣленія національностей противорѣчитъ формальному принципу соблюденія права – въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Посмотримъ, каковы тѣ историческія содержанія, которыя пришли здѣсь въ столкновеніе.
II[3]3
Настоящая глава представляетъ перепечатку статьи «Идея этнической государственности», помѣщенной въ «Сѣверныхъ Запискахъ), Апр. 1915 г. Въ виду того, что послѣдующія событія подтвердили на мой взглядъ изложенныя здѣсь указанія и предвидѣнія, я ее здѣсь воспроизвожу безъ измѣненій и лишь съ незначительными сокращеніями.
[Закрыть]
Кажется, англійскіе государственные дѣятели первые формулировали въ качествѣ одной изъ цѣлей войны – защиту права малыхъ народовъ на самостоятельное государственное существованіе. По содержанію они въ этой формулѣ лишь воплотили свою вѣковую политику отстаиванія независимости малыхъ европейскихъ народовъ (напр., Греціи, Италіи) противъ большихъ и угрожающихъ опасной гегемоніей; по формѣ они въ ней воплотили свою традиціонную логику – выводить полуконкретныя обобщенія изъ наличныхъ реально существенныхъ фактовъ въ виду практически важныхъ цѣлей. Бельгія и Сербія всецѣло подходили подъ обобщеніе; оно могло пригодиться и для кое какихъ другихъ случаевъ – защиты Голландіи отъ возможнаго нашествія, сочувствія Польшѣ. Этого было вполнѣ достаточно для англійскаго обобщенія: мы воюемъ за самостоятельность Бельгіи, за самостоятельность Сербіи, за самостоятельность маленькихъ народовъ.
Но перейдя въ публицистическую обработку – въ особенности на материкѣ, въ частности въ Россіи – англійская государственная формула, какъ это бывало уже не съ однимъ англійскимъ частичнымъ обобщеніемъ, претерпѣла существенное преобразованіе. Она стала отвлеченной нормой, общимъ сужденіемъ: мы воюемъ за государственную самостоятельность всякой націи, за идеалъ этническаго государства, который долженъ благополучно разрѣшить наболѣвшія задачи. Такая формула казалась преисполненной чистаго духа народолюбія и права; ее вдобавокъ поддерживали отзвуки эпохи борьбы за національную самостоятельность и объединеніе Греціи, Италіи, Венгріи, Германіи; и, наконецъ, она казалась верхомъ соблазняющей мудрости, маня нейтральныя страны выгодными пріобрѣтеніями.
* * *
Лозунгъ государственнаго выдѣленія національностей съ самаго начала возможно было поддерживать лишь въ едва-ли подобающей для общей нормы односторонности. Правда, иной англійскій публицистъ – по крайней мѣрѣ въ началѣ войны – высказывалъ готовность даже на героическіе выводы, даже на отдачу Германіи нѣмецкихъ земель Австріи. Но все же этотъ героизмъ не доходилъ до примѣненія его, напр., и къ Италіи: Тріентъ съ Тріестомъ ей предлагали; но вѣдь и Мальта, и Сардинія, и Ницца, и Тессинъ населены итальянцами, а Савойя даже дала свое имя династіи. Само собой разумѣется, что увлеченіе формулой, примѣненной къ Трансильваніи и Буковинѣ, не дошло до распространенія ея на южную Бессарабію. Но распространять лозунгъ на Востокъ отъ Италіи и не распространять его на западъ или югъ или сѣверъ – не значитъ ли признаваться въ неподобающей для лозунга половинчатости. Послѣдовательность же оказалась бы не только непріемлемой, но и вызвала бы справедливыя нареканія и противодѣйствія, притомъ исходящія не изъ однихъ только интересовъ наличнаго обладанія, но еще и изъ серьезныхъ задачъ государственности. Не наводитъ ли это уже съ перваго подхода на мысль какъ о неосуществимости, такъ и о несовершенствѣ лозунга этнической государственности, – и даже о неполной искренности тѣхъ, кто его въ радужной обобщенности поддерживаетъ.
И замѣчательно, что и вербующая сила этого лозунга для государствъ, въ интересахъ которыхъ онъ, повидимому, былъ созданъ, оказалась до крайности ничтожной. Можно было питать обоснованную надежду на то, что южныя нейтральныя государства вступятъ въ борьбу на сторонѣ тройственнаго согласія, но самая исторія ихъ колебаній и проволочекъ ясно обнаруживаетъ, насколько этническая идея не оказалась для нихъ безраздѣльно увлекательной. Ибо не слѣдуетъ думать, что, вопреки осознаннымъ интересамъ, ихъ удерживало опасеніе быть раздавленными двойственнымъ союзомъ. Если они и могли колебаться относительно шансовъ войны, то уже давно все больше разсѣивалось сомнѣніе въ томъ, что ихъ то вмѣшательство рѣзко склонило бы вѣсы на сторону соглашенія. И тѣмъ не менѣе они не вмѣшивались, – не потому, что опасались быть раздавленными, и уже во всякомъ случаѣ не только поэтому, а отчасти и потому, что не уяснили себѣ до конца, на чьей сторонѣ ихъ ожидаетъ большая выгода. Здѣсь дѣйствовало не только уже отмѣченное соображеніе, что этнически близкое населеніе эти государства имѣютъ въ различныхъ странахъ; здѣсь дѣйствовало и то соображеніе, что вообще государственные интересы не связаны исключительно или главнымъ образомъ съ присоединеніемъ этнически родственнаго населенія. Конечно, не однимъ націоналистамъ и романтикамъ Италіи лестно пріобщить Тріентъ и Тріестъ; но интересы родины – въ глазахъ итальянца – требуютъ овладѣнія и Далмаціей и албанской Валлоной для обезпеченія за собой полнаго господства въ Адріатикѣ; требуютъ расширенія и укрѣпленія африканскихъ владѣній, требуютъ утвержденія на восточныхъ островахъ Средиземнаго моря. И для этого тоже имѣется своя – не національная, такъ имперіалистская – традиція; это вѣдь страны, нѣкогда колонизованныя Римомъ, это давнее достояніе латинской державы. Вообще традиціи, хотя и обосновываются уже свершившимся прошлымъ, отнюдь не представляютъ изъ себя гранитной незыблемости. Долго жившіе народы имѣютъ обыкновенно въ своей исторіи возможность выбора традиціи заднимъ числомъ; и уже отъ обстоятельствъ зависитъ, на чемъ остановиться и что возвести въ непоколебимый – хотя и безъ труда замѣстимый – завѣтъ.
И не одна Италія находится въ такомъ положеніи. Болгарія, можно думать, какъ одинъ человѣкъ жаждала возвращенія этнически родственной Македоніи; но едва-ли многимъ слабѣе настойчивость, хотя, повидимому, блѣднѣе страстность, съ которой она домогалась этнически чуждыхъ Кавалы и Адріанополя. Да и Сербія, стремясь къ родной Босніи, не отказывалась отъ Македоніи и стремится къ берегу моря «безъ различія національности», да и Румынія, мечтая о румынскихъ земляхъ Венгрш, прихватила незадолго этнически болгаро-турецкій край, выказывая себя заинтересованной въ вопросѣ о Дарданеллахъ; Греція же рвется къ господству надъ островами, Византіей, прибрежной Малой Азіей, и тоже выставляетъ традицію, ибо и ея предполагаемые предки были нѣкогда хозяевами этихъ странъ[4]4
К акъ извѣстно, эти скромныя указанія 1915 г. были впослѣдствіи сторицей превзойдены дѣйствительностью.
[Закрыть].
Можно, конечно, говорить о жадности этихъ малыхъ государства Но и жадность иной разъ есть только естественное проявленіе нормальнаго роста сильныхъ организмовъ, жизнеспособныхъ, культуроносныхъ, творчески цѣнныхъ для человѣчества; и не такъ просто съ перваго взгляда опредѣлить, что здѣсь соотвѣтствуетъ законной жаждѣ культуроноснаго роста, что – только прожорливости, не встрѣчающей серьезныхъ препятствій силы. Вѣдь не могла же въ самомъ дѣлѣ свободная Англія отказаться отъ аннексіи Кипра, нужнаго ей, какъ ей нуженъ Гибралтаръ, и Мальта, и Суэцъ для охраны своихъ великихъ путей, безъ которыхъ зашатается ея державная мощь, а съ нею вмѣстѣ и культурная тяга великаго народа. И какой русскій человѣкъ отречется отъ дѣла Петра, прорублившаго окно въ Европу занятіемъ этнически чуждыхъ провинцій?
А если бы, съ другой стороны, кому либо вздумалось разнести тріединую въ этническомъ отношеніи Швейцарію по тремъ этнически родственнымъ ея частямъ сосѣдямъ, то не трудно представить себѣ то геройское сопротивленіе, которое встрѣтило бы здѣсь примѣненіе этнической идеи, и не понятно-ли заранѣе то возмущеніе, которымъ отвѣтило бы на него міровое общественное мнѣніе. Да вѣдь и Франція никогда не собиралась, не собирается и теперь, аннектировать этнически родственную ей часть Бельгіи, хотя это и соотвѣтствовало бы торжеству идеи этнической государственности. И одно только предположеніе, что Германія намѣревалась присоединить фламандскія провинціи, какъ этнически родственныя, встрѣчало разумѣется, не сочувствіе, а негодованіе не однихъ только этническихъ идеалистовъ.
Требованія свободной жизни и самосохраненія государствъ, культурныя и экономическія потребности населенія, – тысяча запросовъ и правъ входящихъ въ его составъ лицъ, группъ, народовъ – не совпадаютъ съ географическими линіями этническаго разселенія; и подчинить этническимъ соображеніямъ всѣ остальныя – значитъ жертвоватъ правами и интересами, благосостояніемъ и культурой людей и народовъ, тѣхъ самыхъ этническихъ группъ, которыхъ будто хотятъ облагодѣтельствовать идеаломъ этническаго государства.
* * *
Но и помимо отмѣченныхъ сторонъ ближайшее разсмотрѣніе лозунга этнической государственности должно обнаружить, что въ общей своей формѣ онъ и вообще по самому существу неосуществимъ въ тѣхъ освободительныхъ цѣляхъ, которыя ему приписываются.
Въ самомъ дѣлѣ, онъ заключается въ томъ, чтобы въ одинъ организмъ собрать разсѣянные по разнымъ государствамъ члены одной этнической особи и эту особь освободить отъ подчиненія или отъ соучастія въ чужомъ по національному составу государствѣ. И вотъ хорошо ли это или не хорошо, но достаточно присмотрѣться къ составу странъ, о которыхъ идетъ рѣчь, чтобы убѣдиться въ томъ, что это невозможно.
Немного есть странъ, – внѣ странъ давнишней культурно-государственной объединенной жизни, – которыя были бы населены одною національностью. Націи на протяженіи вѣковъ въ особенности на востокѣ и юго-востокѣ Европы – вѣчно тасовались, вѣчно переплетались; а быстрота и легкость общенія и передвиженія только убыстряетъ и усугубляетъ этотъ процессъ и понынѣ. Люди передвигаются, населеніе переливается со все большею легкостью. И распредѣлить эти территоріи по этнографическому признаку представляется объективно невозможнымъ. Конечно, имѣются территоріи, сплошь засеяныя одною націей; но нерѣдко они вкраплены, или въ нихъ вкраплены территоріи съ инонаціональнымъ или многонаціональнымъ составомъ такъ, что онѣ оказываются въ полномъ смыслѣ слова черезполосными.
Какъ же быть съ мѣстностями, гдѣ населеніе составлено изъ разныхъ національностей? Предоставить ихъ тому народу, который является въ нихъ большинствомъ? Но и это – выходъ, болѣе словесно, нежели по существу разрѣшающій вопросъ. Прежде всего ясно, что самое опредѣленіе націи, составляющей большинство, зависитъ отъ произвольной кройки территоріи. Извѣстно, что турки присоединеніемъ къ вилайетамъ, заселеннымъ въ большинствѣ армянами, нѣкоторыхъ территорій съ мусульманскимъ большинствомъ превратили большинство армянское въ меньшинство, что, впрочемъ, можно соотвѣтственной перекройкой обратить и въ противоположную сторону. Если, примѣрно, взять области, населенныя вперемежку преимущественно румынами и венгерцами, связать ихъ съ другими территоріями, гдѣ преобладаютъ венгерцы, то получится венгерское большинство; если же связать съ территоріями, гдѣ преобладаютъ румыны, – получится румынское. Точно также той или иной перекройкой мѣстностей, занятыхъ поляками и нѣмцами, можно получить и польское и нѣмецкое большинство. Здѣсь открываются широкія перспективы для прикрытія территоріальныхъ аппетитовъ этническою словесностью. Но далѣе, имѣются и земли, гдѣ и вообще нѣтъ ни у одного народа абсолютнаго большинства, гдѣ при сожительствѣ трехъ или четырехъ народностей рѣчь можетъ идти лишь о большинствѣ относительномъ. Въ этихъ случаяхъ согласно разбираемой формулѣ пришлось бы отнести подобныя территоріи къ этнической группѣ, обладающей, положимъ, двумя пятыми населенія, подчинивъ ей большинство въ три пятыхъ, и притомъ подчинивъ его не государству, а именно чужой національности, признанной хозяиномъ государства, – и тѣмъ отвергнутъ за этимъ мѣстнымъ большинствомъ національныя права и возможности.
Но и помимо этого возникаетъ и болѣе основной вопросъ: по какому праву, стоя на этнической точкѣ зрѣнія, отрицать національную самобытность хотя бы и за меньшинствомъ; во имя какой идеи, предлагаемой къ тому же въ качествѣ освободительной, повергать одну націю подъ пяту другой, только потому, что она численно меньше той на данной территоріи? Такой вопросъ можетъ не возникнуть, когда государство строится вообще не по этническому, не по національному признаку. Здѣсь націи – въ идеѣ по крайней мѣрѣ – подчинены общей государственной организаціи, въ предѣлахъ которой онѣ могутъ сохранить или завоевать равноправіе. Но когда государство строится по этническому принципу, тогда одна нація дѣлается хозяиномъ государства, а, слѣд., оказывающіяся на ея территоріи другія націи становятся ея подчиненными, подвластными, неравноправными, лишь терпимыми, – лишенными свободы своей національной жизни. Если это дѣлается съ помощью силы, то здѣсь не о чемъ дальше и говорить, – мало ли какія совершаются въ жизни и исторіи насилія и преступленія. Но если это дѣлается во имя права и свободы, во имя свободы національной жизни, во имя разрѣшенія тяжкихъ конфликтовъ и избѣжанія безплодной борьбы, какъ, повидимому, предполагаютъ защитники этой идеи, вродѣ Милюкова или Уэлса, – то откуда же рѣшимость отдать на національный потокъ и разграбленіе этническую группу только потому, что она представляетъ меньшинство на данной территоріи; неужели не замѣчаютъ, что этимъ не разрѣшаются, а обостряются національные конфликты, становящіеся безнадежными и роковыми; неужели не видятъ, что, строя государство по этническому типу, узаконяютъ національное угнетеніе меньшинства, включеннаго въ государство и лишеннаго государственности? И къ тому же этимъ методомъ принципіально подрывается та основа, на которой строится здѣсь самая государственность. Игра на меньшинство и большинство – обоюдоострая игра, и прежде всего, именно, игра, могущая въ томъ или иномъ случаѣ удовлетворить національнымъ аппетитамъ, но не могущая разрѣшитъ національные конфликты.
* * *
Однако, оформленіе государства по этническому признаку ведетъ не только къ отмѣченнымъ вредоноснымъ послѣдствіямъ въ области національнаго же вопроса; оно можетъ оказаться чреватымъ большими бѣдствіями и съ точки зрѣнія объемлющихъ обще-государственныхъ интересовъ.
Вѣдь если, создавая этнографическую географію, руководиться ею для установленія государственныхъ очертаній, то получается, въ особенности на юго-востокѣ Европы, весьма причудливое распредѣленіе, гдѣ городъ долженъ отойти къ другому государству, чѣмъ окружающая его область, гдѣ Hinterland долженъ быть отъединенъ отъ той области, которой онъ служитъ Hinterland'омъ; гдѣ область, тяготѣющая экономически или стратегически къ другой, окажется по этническимъ признакамъ отнесенной къ третьей, съ нею мало общаго имѣющей, гдѣ этнографически выдѣленное государство окажется всецѣло зависимымъ отъ чужого государства въ виду несовпаденія стратегическихъ или экономическихъ границъ съ этническими; гдѣ выходъ къ морю или къ рѣкѣ одной страны окажется въ рукахъ другой, въ немъ вовсе не нуждающейся. Этническій признакъ произведетъ разрывъ другихъ государственно оформляющихъ моментовъ и, слѣд., приведетъ къ слабости, или даже гибели столь эфемернаго государства, либо же къ немедленному нарушенію имъ самимъ того самаго принциgа, на которомъ онъ построяется.
Дробленіе на мелкія суверенныя государства, когда оно происходитъ во имя одного лишь этническаго принципа, представляетъ изъ себя, такимъ образомъ, весьма проблематическую цѣнность не только съ точки зрѣнія спеціальныхъ интересовъ тѣхъ самыхъ этническихъ группъ, права которыхъ являются будто единственнымъ стимуломъ европейской заботливости, но и съ точки зрѣнія общихъ задачъ европейской культуры. Что касается самихъ народовъ, то совершенно ясно, что если этнически обусловленная территорія не соотвѣтствуетъ жизненнымъ потребностямъ государственности, то весь народъ можетъ быть поставленъ въ подчиненное положеніе къ другому сосѣднему народу, болѣе сильному, господствующему надъ нимъ въ силу благопріятнаго положенія. И это подчиненное положеніе можетъ привести къ тяжелой эксплуатаціи, къ застою, и въ концѣ концовъ – либо къ фактической, хотя и прикрытой, подчиненности со всѣми сопровождающими ее явленіями, либо превратиться въ изнуряющую дипломатическую, а затѣмъ и военную борьбу. Такой народъ, по этнографическому признаку выдѣленный въ государство, можетъ, оказавшись самодовлѣющимъ и независимымъ отъ государственнаго сожительства съ другими націями, попасть въ еще горшую международную кабалу. Его этническій суверенитетъ будетъ обезпеченъ цѣною упадка самого этноса; національный принципъ восторжествуетъ цѣною упадка національности. И международный миръ будетъ тѣмъ менѣе обезпеченъ, что націи будутъ всѣми силами сопротивляться упадку. Такъ мало можетъ этническая государственность осуществить возлагаемыя на нее задачи.
Что же касается общихъ всенародныхъ интересовъ европейской, міровой культуры, то не слѣдуетъ забывать, что выдѣленіе этническихъ группъ въ особые государственные! организмы, если бы это и представлялось возможнымъ и посколько это осуществимо, неизбѣжно имѣетъ своимъ послѣдствіемъ – общую провинціализацію культуры. Выдѣленіе мелкихъ этническихъ уютовъ, могущихъ, какъ выше отмѣчено, оказаться весьма неуютными въ экономическомъ и соціальномъ отношеніи, съ точки зрѣнія широко культурной, приводитъ къ измельчанію, къ дробленію творческихъ усилій человѣчества, міровыхъ накопленій культурной мощи, подрываетъ въ корень и реальную возможность и субъективную охоту къ постановкѣ и разрѣшенію великихъ задачъ; въ особенности же это имѣетъ мѣсто, когда выдѣляющіеся коллективы стоятъ на болѣе низкой культурной ступени. Инте-ресы колокольни и кругозоръ колокольни – замѣняютъ здѣсь широкіе просторы; энергія человѣческая мельчаетъ въ мелкопомѣстной государственности. Своего рода мѣщански-государственный провинціализмъ, мѣстечковая государственность затягиваетъ общество и личность.
Конечно, не одними этими соображеніями разрѣшимъ вопросъ о связи культуры и творчества народовъ съ объемомъ и вмѣстимостью ихъ государственнаго носителя. Мелкія государственныя формы, органически вырастая изъ мѣстной народной стихіи по дорогѣ къ величію, имѣютъ свои положительныя стороны, незамѣнимыя крупными общеніями. При нѣкоторыхъ условіяхъ они являются какъ бы зачинателями, аккумуляторами, въ которыхъ скопляются силы великаго напряженія, долженствующія разрядиться въ послѣдующія эпохи: какъ бы колыбелями, въ тихомъ теплѣ, въ малоподвижномъ постоянствѣ которыхъ выпестовываются ярко-обозначенныя индивидуальныя культуры, позже разливающіяся на міръ уже въ рамкахъ широкихъ осуществляющихъ общеній. Кажется, чаще всего, именно, въ тѣсныхъ народныхъ организмахъ творятся новыя культурныя достиженія. Но въ подобныхъ случаяхъ организмы эти вырастаютъ изъ коллективной гущи, въ процессѣ ея интеграціи, въ процессѣ скопленія ея творческихъ силъ въ какихъ либо узловыхъ точкахъ, – а не получаются въ процессѣ раздѣловъ и передѣловъ; и уже во всякомъ случаѣ едва-ли могутъ получиться при выдѣленіи менѣе культурныхъ группъ изъ болѣе культурнаго въ своемъ центрѣ общенія.
Впрочемъ, и другое международно-политическое значеніе могутъ имѣть при опредѣленныхъ условіяхъ мелкія государственныя образованія, поскольку они исторически выработались въ точкахъ сплетенія или расхожденія великихъ державъ, поскольку, вкрапленныя среди нихъ, они уменьшаютъ тренія между своими сосѣдями и сближаютъ ихъ, устраняя непосредственное соприкосновеніе. И крупныя и мелкія формы имѣютъ свои преимущества. Можетъ быть, особо благопріятными для творчества и расцвѣта являются тѣ государственныя образованія новаго времени, которыя объединяютъ своеобразную формовку мелкихъ организацій съ мощью и напоромъ крупныхъ, – подобно тому какъ Америка или Германія, а въ иной плоскости, и Англія объединяютъ въ единство мощныхъ державъ множество болѣе или менѣе самобытныхъ и своеобразныхъ штатовъ, государствъ, колоній, земель. Я только хотѣлъ отмѣтить, что сама по себѣ тенденція къ суверенитетно-этническому дробленію представляетъ больше опасностей разнаго порядка – государственныхъ, экономическихъ, международныхъ, общекультурныхъ и даже специфически національныхъ, – чѣмъ это, повидимому, представляется тѣмъ, кто считаетъ, – или дѣлаетъ видъ, что считаетъ – этническій принципъ воплощающимъ идеалъ государственности, кто видитъ въ немъ рѣшающій государственный критерій.
* * *
Неотъемлемы права націй, но ими не ограничиваются запросы народовъ; и ни эти запросы, ни тѣ права не реализуются этнической государственностью.
Намѣченнымъ взглядамъ – спасительна ли этническая идея – можетъ быть противопоставленъ авторитетъ эпохи войнъ за національное освобожденіе и объединеніе. Пусть національное государство не оправдало всѣхъ возлагавшихся на него въ девятнадцатомъ вѣкѣ упованій, но ореолъ борьбы за него живетъ до сихъ поръ въ общественномъ сознаніи. Однако, и совершенно независимо отъ того, въ какой мѣрѣ могутъ быть санкціонированы результаты національныхъ движеній XIX в., – необходимо отмѣтить, что здѣсь дѣло идетъ о существенно различныхъ явленіяхъ.
Въ двухъ наиболѣе разительныхъ проявленіяхъ національнаго объединенія – въ Германіи и Италіи – дѣло шло о собираніи въ одно обширное цѣлое разрозненныхъ, мелкихъ, безсильныхъ частей, т. е. задача была отлична отъ той, которая теперь преслѣдуется идеей этническаго государства. Незачѣмъ, конечно, умалять, несомнѣнно, громаднаго значенія и здѣсь національнаго момента – національнаго единства, которое являлось основой общаго грандіознаго одушевленія, основой сугубой сплоченности, а отчасти простоты и ясности въ отношеніяхъ, а, слѣд., и великой важности экономіи силъ. Тѣмъ не менѣе нельзя же упускать изъ вниманія, что состоялъ то процессъ здѣсь не только въ національномъ выдѣленіи (въ Германіи же этого процесса и вовсе не было), а въ собираніи, въ сплоченіи, въ образованіи крупныхъ единицъ. Это былъ процессъ перехода на высшую организаціонную ступень, объемлющую разрозненныя и раздробленныя раньше силы и извлекающую изъ нихъ путемъ единства и согласованности экономической и культурной государственной работы совершенно неизмѣримо возрастающій эффектъ. Въ частности, въ Германіи, съ наибольшимъ блескомъ оправдавшей періодъ образованія національнаго государства, процессъ собиранія, сплоченія въ высшую организаціонную единицу не замѣнилъ, а лишь связалъ воедино подчиненныя части, оставшіяся въ новомъ единствѣ болѣе или менѣе самобытными. Этотъ процессъ сплоченія оказался и процессомъ демократизаціи, утвержденія конституціонныхъ формъ. Въ чисто національномъ отношеніи слѣдуетъ, впрочемъ, отмѣтить, что этотъ процессъ сопровождался даже и нѣкоторымъ поглощеніемъ инонаціональныхъ областей (датскихъ и лотарингскихъ), подобно тому какъ оформленіе Пруссіи сопровождалось раньше поглощеніемъ нѣкоторыхъ польскихъ земель. Словомъ, расцвѣтъ и мощь Германской имперіи подтверждаетъ не спасительную силу національнаго государства, а въ первую очередь – великую силу болѣе объемлющей и высокой организаціи, охватывающей, но не подавляющей организаціи подчиненныя.
Въ нѣкоторой степени это приходится сказать и относительно Италіи, гдѣ тоже произошло собираніе воедино мелкихъ земель. Впрочемъ, здѣсь уже большое значеніе имѣло и національное выдѣленіе изъ-подъ инонаціональнаго господства. Однако, и въ этомъ отношеніи, думается, было бы ошибочно приписать эффектъ одному моменту специфически національнаго (притомъ же не этническаго, а историконаціональнаго) освобожденія; на самомъ дѣлѣ здѣсь дѣйствовала и великая сила освобожденія вообще, освобожденія отъ гнета полицейскаго, политическаго, хозяйственнаго; освобожденіе отъ власти хирѣющей, дореформенной Австріи, отъ реакціонной затхлости режима Метерниховскихъ наслѣдниковъ. Здѣсь дѣйствовало предоставленіе странѣ давнишней культуры, самостоятельной исторіи и своеобразнаго географическаго положенія – всесторонней государственной самодѣятельности. Ошибочно относить результаты столь сложнаго процесса, захватывающаго самую суть и политической, и экономической, и моральной жизни страны на долю одного только признака, на счетъ одного только того, что выдѣленная цѣльная и самостоятельная область, будучи страною одной національности, дала и государство однонаціональное.
Процессъ освобожденія балканскихъ народовъ, процессъ созиданія національныхъ государствъ, греческаго, болгарскаго, румынскаго, сербскаго, – въ отличіе отъ Германіи и Италіи – ужъ и вовсе не былъ процессомъ собиранія въ крупныя организаціи; но плодотворные результаты едва-ли и здѣсь относимы исключительно или хотя бы главнымъ образомъ на счетъ образованія государства единонаціональнаго. Ибо вмѣстѣ съ тѣмъ это было и процессомъ созиданія государствъ свободныхъ (въ большей или меньшей степени), самоуправляющихся, конституціонныхъ, свободно живущихъ въ національномъ и въ религіозномъ, но и вообще въ государственно-гражданскомъ отношеніи, съ современною школою, съ университетомъ, съ европейскимъ правомъ, – изъ-подъ давленія султанскаго режима, умерщвлявшаго и собственный народъ, а не только народы чужой расы, чужой вѣры, чужой культуры; удерживавшагося отъ распада и на своихъ исконныхъ земляхъ, лишь благодаря давленіямъ международныхъ отношеній.
Даже и относительно Венгріи, гдѣ не было ни германоитальянскаго процесса объединенія, ни балканскаго процесса освобожденія отъ кроваво-султанскаго маразма, – даже и здѣсь борьба за національное государство совпадала съ борьбою противъ коснѣвшаго, отсталаго не въ одномъ національномъ отношеніи строя старой Австрійской имперіи; къ тому же эта борьба и не привела къ государственному отъединенію и, слѣд., умаленію, мельчанію.
Конечно, и специфически національный моментъ имѣлъ во всѣхъ этихъ процессахъ весьма серьезное значеніе, моральное и государственное. Но крайне поверхностнымъ, повторяю, было бы предположеніе, будто успѣхи этихъ государствъ опредѣлялись исключительно или въ первую голову осуществленіемъ въ нихъ государства національнаго; ибо на самомъ дѣлѣ здѣсь параллельно съ этимъ осуществлялись и болѣе совершенныя и могучія организаціонныя формы, совершался переходъ къ свободному режиму, къ высшей культурѣ отъ культуры болѣе низкой.