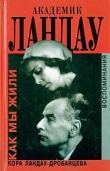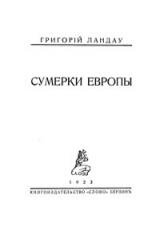
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Но и помимо этого, суть въ томъ, что и самый французскій революціонизмъ не такъ исчерпывающе безспоренъ, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Роменъ Ролланъ гдѣ то говоритъ, что во Франціи двѣ души и неожиданно просыпается и выступаетъ наружу одна, казавшаяся отсутствующей, когда засыпаетъ другая. Оставимъ здѣсь въ сторонѣ вопросъ о подосновѣ такой множественности народнаго характера: идетъ ли рѣчь о разныхъ расовыхъ этническихъ типахъ – о гальскомъ и франкскомъ, загрунтованныхъ общероманской традиціей – которые перемежаясь овладѣваютъ руководствомъ страны; идетъ ли рѣчь о разныхъ климатическихъ вліяніяхъ сѣверо-востока и югозапада (не былъ ли вѣкъ революціонизма вѣкомъ гальскаго юга-Марселя и Жиронды въ противоположность германскому сѣверу и востоку). Какъ бы то ни было, для Франціи исторической ужъ во всякомъ случаѣ характерно на ряду съ революціонизмомъ и нѣчто другое, едва ли не противоположное ему. И характерно не только сейчасъ, не только одновременно съ эпохой революціонизма, но еще ярко и явно до нея. Уравновѣшенная размѣренность – мѣра и вѣсъ – закругленность, законченность, отмѣренность, академизмъ и классицизмъ. Парки Людовиковъ, единицы измѣренія физиковъ, единства трагедіи, взвѣшенность языка предшествуютъ и соприсутствуютъ, какъ нѣчто болѣе глубокое и опредѣляющее, – французскому революціонизму. Самый революціонизмъ, можетъ быть, – лишь бросающаяся въ глаза, но все же поверхностная и во всякомъ случаѣ производная функція отъ живости характера, особенностей историческаго момента, внутренней изжитости культуры и раціонализма мышленія. Раціонализмъ – какъ будто характерная и глубокая черта французской духовности, хотя разумѣется есть въ ней также и другое – мистика германскаго типа, столь внятно заговорившая снова въ послѣднее время. Раціонализмъ этотъ – внѣшняго, зрительнаго типа (преобладающее искусство Франціи революціоннаго вѣка – не музыка, а живопись) – даетъ подходъ извнѣ, напр., въ искусствѣ изображенія души даетъ внѣшнюю соціальную ея изображаемость (въ романѣ и частью въ музыкѣ въ отличіе отъ выразительной музыки германской). Зрительный раціонализмъ даетъ геометрію, соразмѣрность частей и ихъ обозримую симметрію – все характерныя для французовъ вещи – и тяготѣетъ къ закругленной законченности, къ обозримо завершенному предѣлу. Но вмѣстѣ съ тѣмъ раціонализмъ запросовъ, геометрія требованій въ приложеніи къ ирраціональной фактичности человѣческой жизни приводитъ къ ея отрицанію и отверженію, къ построеніямъ ея заново по чертежамъ, къ извнѣшней ея формальной перестройкѣ въ ущербъ внутреннему содержательному развертыванію. Вмѣстѣ съ тѣмъ подвижность характера безъ устремленія въ даль даетъ разрядъ энергіи внутри страны вмѣсто устремленія ея наружу. Настроеніе революціонизма такимъ образомъ и можетъ – при опредѣленныхъ соціальныхъ условіяхъ – оказаться производнымъ отъ духовнаго раціонализма – при южной экспансивной живости, не находящей выхода, направленнаго на обозримую завершенность, достигнутую и превзойденную въ долгомъ историческомъ процессѣ.
Какъ бы то ни было, эта законченность безспорно сказывается во всевозможныхъ крупныхъ и мелкихъ чертахъ жизни, – на историческомъ отступленіи Франціи передъ Англіей въ дѣлѣ міровой колонизаціи, на сравнительной неприспособленности по сравненію съ итальянцами къ хозяйственному использованію колоній и въ наше время, въ малой промышленной экспансивности, въ фактѣ и психологіи рантьерства, въ сравнительно маломъ туризмѣ, въ изсяканіи элементарной органической жизненности. Къ тому же за полтораста лѣтъ Франція оказалась обезкровленной и потрясенной революціями и войнами; сугубо потрясенной и обезкровленной небывалой послѣдней войной. Исторически насыщенная и законченная, политически и соціально удовлетворенная, слабая и побѣдоносная она въ слабости имѣетъ стимулъ, а въ побѣдѣ видитъ возможность навсегда себя обезпечить. Самообезпеченіе – вотъ задача, въ которой совпалъ историческій запросъ Франціи данной эпохи съ субъективнымъ привычнымъ настроеніемъ ея гражданъ – настроеніемъ рантьерства. Конечно, задача обезпеченія своего будущаго шире рантьерства въ тѣсномъ смыслѣ слова; вся система государственнаго пенсіонерства съ одной стороны и рабочаго, а также и иного, страхованія съ другой – преслѣдуетъ ту же задачу. Задача охраны добытаго, пріобрѣтенныхъ правъ и обезпеченія въ будущемъ достиженіи прошлаго – коренится глубоко въ духовныхъ основахъ культуры, достигшей опредѣленной степени завершенности. Молодость, творчество, давая напряженность – не ищутъ внѣшней обезпеченности своего будущаго, ибо носятъ ее въ себѣ, въ своей творящей силѣ, переживаемой въ ея жизненности и не представимой въ ея изсякновеніи. Нужно выйти изъ непосредственно наивной погруженности въ творчество, нужна извнѣшняя оглядка на него, на его судьбы, превратности и крушенія для того, чтобы поставить задачу внѣшняго обезпеченія его результатовъ. Въ иной плоскости мы имѣемъ тотъ же процессъ и въ области отвлеченнаго мышленія: по завершеніи метафизической стадіи наступаетъ стадія гносеологическаго мышленія, задача провѣрки его предпосылокъ съ главной, быть можетъ, цѣлью – обезпеченія опредѣленныхъ его результатовъ. Этотъ сдвигъ отъ метафизическаго творчества къ гносеологической провѣркѣ и обезпеченію сотвореннаго – какъ признакъ и проявленіе нѣкоторой культурной завершенности, преобладаніе рефлекса на содѣянное, недовѣріе къ дальнѣйшему творчеству, даже, пожалуй, неисканіе его получаетъ особо типичное выраженіе въ психологіи рантьерства. И всецѣло этой задачей проникнуто отношеніе Франціи къ ликвидаціи войны. Дѣло не только въ рантьерствѣ финансовомъ, въ желаніи нѣмецкими платежами обезпечитъ свой бюджетъ; дѣло глубже – въ желаніи на крови, лишеніяхъ и ущербахъ войны построить навѣки свою государственную обезпеченность; получить историческую ренту вѣчной государственной неуязвимости – на жертвы и усилія войны. Та психологія мѣщанства въ государственности, о значеніи которой для Антанты шла рѣчь въ другомъ мѣстѣ, обостряется во Франціи до чрезвычайной выпуклости – въ форму мѣщанства рантьерскаго. Устроить такъ, чтобы уже навсегда быть государственно обезпеченнымъ – такова задача Франціи; изъ нея вытекаетъ тяга обезсилить, до конца доканать, поставить отъ себя въ неотмѣнимую зависимость бывшаго врага.
* * *
Эту цѣль обезпеченія разъ добытаго положенія преслѣдуетъ и французскій милитаризмъ. Положеніе Франціи въ мірѣ защитное, оборонительное и орудіемъ ея охранительства и самообезпеченія является ея милитаризмъ.
Милитаризмъ наступательный разрушительнѣе милитаризма оборонительнаго; но вопреки поверхностной кажимости милитаризмъ, какъ орудіе самосохраняющейся культуры, зловреднѣе и разрушительнѣе милитаризма, какъ орудія культуры наступательной и разливающейся; зловреднѣе и разрушительнѣе не случайно, а въ своемъ существѣ, въ своемъ имманентномъ напряженіи. Ибо культура наступательная, разливаясь, сталкивается съ уже установленными, закрѣпившимися, отстоявшимися и даже застывающими цѣнностями и обществами; тревожитъ ихъ, вызываетъ въ нихъ опасеніе и противодѣйствіе, вызываетъ въ нихъ тревогу и отпоръ. Ей нужна сила для того, чтобы предохранить себя отъ противодѣйствія испуганныхъ за свое господство или безтревожное существованіе, для того, чтобы обезпечить возможность своего творческаго распространенія. Впрочемъ, ей сила можетъ быть нужной и не только для обезпеченія своего наступленія отъ противонаступленій, но и для того, чтобы самочинно прокладывать себѣ дорогу, освободить поле для своего возможнаго строительства. Солдатъ не только служитъ здѣсь охраной купцу, инженеру, рабочему и ученому, онъ еще можетъ выступать впередъ для того, чтобы расчистить тѣмъ путь. Милитаризмъ, какъ орудіе наступательной культуры, можетъ быть и агрессивнымъ ея проводникомъ. Тѣмъ не менѣе есть въ немъ, посколько за нимъ дѣйствительно стоитъ наступательная культура, – внутреннее мѣрило и ограниченіе агрессивности. Я говорю, конечно, о тенденціи, ему присущей, не о всегда возможныхъ конкретныхъ разбѣгахъ и преувеличеніяхъ. Этимъ внутреннимъ мѣриломъ и ограниченіемъ служитъ именно творческая наступательность цѣлаго общества. Общество живетъ самочувствіемъ своихъ задачъ, оно эти задачи и преслѣдуетъ; въ мѣру этихъ задачъ оно и прокладываетъ себѣ путь. Гдѣ нѣтъ задачъ, нѣтъ и стимуловъ агрессивности, нѣтъ и основы для нея, потому что наступательная энергія направляется въ другія мѣста. Гдѣ есть задача, для осуществленія которой имѣются и сознаются силы и возможности, тамъ въ мѣру ихъ и производится давленіе на окружающихъ. На большее нѣтъ не только надобности, нѣтъ и охоты, нѣтъ и возможности, – посколько задачи сами по себѣ велики, соблазнительны и увлекающи. Могутъ быть соблазны и запросы отдѣльныхъ государственныхъ силъ на агрессивность сверхъ мѣры, но здоровье растущаго организма изнутри справляется съ такими излишествами. Яркимъ воплощеніемъ этихъ отношеній служитъ политика Бисмарка, отказавшагося отъ приращеній за счетъ побѣжденной Австріи и сокращавшаго военныя вожделѣнія къ побѣжденной Франціи. И нельзя же отрицать, что отнятое у Франціи въ семидесятомъ году, какъ прежде у Польши, было использовано производительно, творчески и органи-чески. Здѣсь отнимаемое и разрушаемое разрушается и отнимается въ соотвѣтствіе съ ощущаемымъ или и осознаваемымъ творческимъ заданіемъ, дающимъ обоснованіе агрессивности въ обоихъ отношеніяхъ – и какъ стимулъ ея, и какъ ея предѣлъ.
Есть и еще особенность въ агрессивности наступательной культуры, служащая ей оправданіемъ. Конечно, разрушаемое ею или отторгаемое не виновато, что попало въ предѣлы ея распространенія и законно отстаиваетъ себя, сопротивляясь наступающей культурѣ; оно при этомъ вызываетъ сочувствіе и поддержку. Существующее и вообще носитъ въ себѣ право на дальнѣйшее существованіе, какъ силы, рвущіяся за свои границы, носятъ въ своемъ порывѣ право ихъ перешагнуть. Столкновеніе съ точки зрѣнія частныхъ столкнувшихся воль неразрѣшимо споромъ, неразрѣшимо иначе, какъ трагическимъ фактовъ. Но если отвлечься отъ частныхъ воль, вступившихъ въ столкновеніе, и стать въ плоскость того общаго, что связуетъ воедино даже и враждебно столкнувшихся (въ данномъ случаѣ по отношенію къ Франціи и Германіи – стать на точку зрѣнія Европы), то есть оправданіе въ разрушеніи, когда оно производится во имя созидающей мощи. Это то оправданіе, которое такъ раздражало союзниковъ, когда въ устахъ нѣмцевъ имъ покрывалось поврежденіе, или уничтоженіе памятниковъ старины, происходившее отъ военныхъ дѣйствій: способностью возводить памятное для будущаго. Въ общей формѣ оправданіе здѣсь въ томъ, что цѣнности разрушаются во имя цѣнностей, цѣнности прошлаго во имя цѣнностей будущаго, цѣнности остановившіяся во имя растущихъ, останки во имя зародышей; оправданіе въ томъ, что отторгаемое включается въ организмъ, не разбухающій за его счетъ, а растущій. Оправданіе въ томъ, что жизнь не уничтожается, а поглощается жизнью же, что за счетъ поглощаемаго происходитъ ростъ. Смерть наносится ради жизни, и не ради выживанія, а ради расцвѣта. Страдающему естественно и законно сопротивляться своей гибели; но эта гибель, если ужъ происходитъ, получаетъ и созидательный смыслъ.
Этого созидательнаго смысла нѣтъ при милитаризмѣ, какъ орудіи самосохраненія. Его задача– не проложить путь для роста, а охранить существованіе; отсюда двойная противоположность милитаризму наступательной культуры: во первыхъ, онъ не имѣетъ внутренняго мѣрила своимъ разрушеніямъ, во вторыхъ его разрушеніе не есть претвореніе въ новыя цѣнности, а – разрушеніе чистое. Внутренняго мѣрила онъ не имѣетъ потому, что его не имѣетъ самая задача самообезпеченія, по существу своему задача отрицательная и неопредѣленная. Можно себя обезпечивать отъ уже явныхъ и угрожающихъ опасностей; но опасность вѣдь не есть нѣчто наступившее, а только возможность; возможности же всегда и вездѣ неограниченны. Задачи наступленія предопредѣляются изнутри опредѣленной наличностью силъ и запросовъ; задача оградить себя опредѣляется извнѣ – неопредѣленными возможностями угрозъ и рисковъ. Первыя опредѣленны и ограниченны, вторыя – безпредѣльны, неисчерпываемы и всепоглощающи.
Въ обычномъ ходѣ исторіи народы противодѣйствуютъ только наиболѣе явнымъ опасностямъ, уже назрѣвшимъ, уже переходящимъ въ осуществленіе. Здоровые народы видятъ главную гарантію своего будущаго въ собственной силѣ, въ собственномъ ростѣ. Но представимъ себѣ положеніе народа, съ одной стороны чувствующаго себя въ состояніи завершенности и не склоннаго въ собственномъ дальнѣйшемъ ростѣ и напряженіяхъ искать своего обезпеченія, при томъ народа, жаждущаго безтревожнаго существованія; народа къ тому же, уже произведшаго нечеловѣческія напряженія и алчущаго избѣжать ихъ повторенія, народа, наконецъ, находящагося въ обладаніи побѣды и неоспоримой, никогда уже неповторимой мощи. Здѣсь разрушительность его самозащиты достигаетъ крайнихъ предѣловъ, ибо онъ ищетъ себя обезопасить навсегда. Онъ будетъ напряженно и подозрительно высматривать всѣ возможности новыхъ угрозъ, будетъ использовывать столь исключительное и столь дорого оплаченное положеніе, чтобы ихъ до дна вытравлять, чтобы не допустить и предупредить самое ихъ появленіе. Конечно, и здѣсь давленіе не будетъ безпредѣльнымъ, но его границы опредѣлятся только внѣшнимъ сопротивленіемъ, а не опредѣленностью внутренняго содержанія; и милитаризмъ на службѣ такой самозащиты будетъ безпощаденъ, ибо будетъ направленъ на вытравленіе возможностей, а не на осуществленіе потенцій.
Но онъ будетъ не только изнутри неограничиваемымъ, онъ будетъ и вовнѣ безъ возмѣщенія мертвящимъ. Ибо онъ будетъ отторгать и уничтожать не съ тѣмъ, чтобы нѣчто стало, а только съ тѣмъ, чтобы чего либо не было; его задача уничтожать не только – и даже не столько – нѣчто сущее, а то что могло бы быть и что, ставъ дѣйствительнымъ, могло бы стать угрожающимъ его существованію. Во имя существующаго онъ обреченъ устранять назрѣвающее. Онъ грѣшитъ не только противъ настоящаго, но и противъ будущаго, не только противъ осуществленнаго, но и противъ осуществимаго, не только противъ жизни, но и противъ рожденія.
Такъ оборачивается соотношеніе милитаризмовъ наступающей и обороняющейся культуръ.
Вотъ почему несравнимо зловреднѣе и губительнѣе милитаризма растущей культуры милитаризмъ культуры обороняющейся, завершенной. Вотъ откуда получился тотъ фактъ, который еще недавно казался бы неправдоподобнымъ пародоксомъ: милитаристически побѣдоносная Франція, своей гегемоніей подавляющая и губящая Европу.
III. ГЕРМАНІЯ
1. ВИНОВНАЯ ДОБЛЕСТЬВыводы предыдущихъ главъ въ примѣненіи къ Германіи не только должны были бы показаться парадоксальными, въ былые военные и ближайшіе повоенные годы, но могутъ показаться таковыми еще и въ наши дни. Оставимъ въ сторонѣ ту проповѣдь, касавшуюся германскаго звѣрства, германской культурной недостойности, отсталости и виновности въ войнѣ, которая во всемъ мірѣ велась Антантой, и къ которой въ общемъ весь не германскій міръ примкнулъ; оставимъ эту область безъ разсмотрѣнія и безъ критики, потому что едва ли она еще въ томъ своемъ военномъ обличій многими поддерживается и многими раздѣляется, – хотя безспорно еще живетъ въ безчисленныхъ душахъ, какъ отголосокъ или замедляющаяся инерція. Проходятъ годы и остываетъ реакція объективной обиды на несправедливость, на развращающее обманываніе неразбирающихся «малыхъ сихъ» культуры, на весь тотъ грѣхъ совѣсти и мысли, который осквернилъ европейскій, пожалуй, можно сказать міровой духъ военной пропагандой. Когда то – въ тѣ годы, когда она производилась – не было предѣла сдавленному возмущенію, не было достаточно презрѣнія къ неумѣнію и нежеланію съ врагомъ вести борьбу, сохраняя къ нему – т. е. собственно къ себѣ – уваженіе; и даже не къ нему и не къ себѣ, а къ объективности. И хотѣлось запечатлѣть паденіе и ничтожность духа въ поученіе и предупрежденіе будущимъ поколѣніямъ, хотѣлось сохранить какъ свидѣтельство овладѣвшей людьми слѣпоты, образцы тѣхъ явныхъ нарушеній очевидности, которыя, обосновываемыя мыслителями, воспѣваемыя поэтами, проповѣдуемыя публицистами, воспринимались людьми, вообще говоря способными на разсужденіе и на созерцаніе, какъ безспорная истина. И тогда было ясно, что вотъ пройдутъ года, и люди и сами не повѣрятъ тому, что говорили и утверждали на всѣхъ перекресткахъ, какъ неоспоримое; ясно было, что какъ ни въ чемъ не бывало они отрекутся и даже позабудутъ отречься, проснувшись какъ бы невинными и свободными отъ груза собственныхъ утвержденій, отъ отвѣтственности за разлитой ядъ. И хотѣлось недопустить этой безотвѣтственности, закрѣпить за каждымъ не только его житейскіе поступки, но и поступки его духа – его слова; и когда наступитъ время – предъявить жестокое обвиненіе ради очищенія подвергнутой отравѣ души.
Но нѣтъ, они правы тѣ, кто не боятся отвѣтственности за участіе или даже за вызовъ массовыхъ помраченій. Только отравленность остается, только послѣдствія; сама же отрава исчезаетъ и люди забываютъ о бредѣ, обуявшемъ ихъ – даже и тогда, когда видятъ разбитыя въ бреду зеркала; забываютъ объ отравителяхъ и снова, какъ ни въ чемъ не бывало, готовы прислушиваться къ нимъ, къ ихъ новымъ рѣчамъ, довѣряя имъ въ соотвѣтствіи болѣе съ новыми страстями и алканіями, нежели со старымъ опытомъ. И даже у тѣхъ, кто переболѣлъ страданіемъ зрячести и томился жаждой духовнаго возмездія – пропадаетъ охота возвращаться къ старымъ обманамъ. Къ чему? Современникъ спѣшитъ къ отвѣтственности сегодняшняго дня, предоставивъ вчерашній будущему историку; а тотъ въ своемъ трудѣ посвятитъ имъ обстоятельное примѣчаніе, а, можетъ быть, даже и цѣлый отрывокъ въ текстѣ. Скучно возвращаться къ старымъ отвѣтственностямъ, когда каждый день даетъ начало новымъ; и ужъ во всякомъ случаѣ неохота возвращаться къ разоблаченію старыхъ содержаній, не столько даже разоблаченныхъ, сколько просто отметенныхъ движеніемъ жизни.
Но отъ затихшаго бреда остались упорные слѣды. А такъ какъ противъ Германіи былъ весь міръ и такъ какъ Германія побѣждена и, какъ всегда, исторія отливаетъ свои оцѣнки по образцамъ побѣдителя, то сужденія его получаютъ шансы сохранить свой вѣсъ и на будущее. Знаменательно, что они получаютъ распространеніе и среди побѣжденныхъ. Ибо въ томъ одно изъ свойствъ пораженія, что оно не только/ физически и соціально, но и морально подчиняетъ побѣжденнаго торжествующему противнику.
Отношеніе къ Германіи, конечно, характерно измѣнилось за эти годы; вѣроятно, оно смягчилось у всѣхъ, во всякомъ случаѣ, если и сохраняется прежнее отношеніе отдѣльныхъ слоевъ и лицъ, оно теряетъ свой міровой авторитетъ. Едва ли будетъ ошибкой отмѣтить, что въ среднемъ постепенно получаетъ преобладаніе точка зрѣнія, опредѣляемая приблизительно такими двумя мотивами: съ одной стороны не такъ уже велика и въ особенности исключительна была виновность Германіи въ вызовѣ и веденіи войны, а съ другой стороны – не лучше и другіе, какъ это обнаруживается въ ихъ поведеніи въ эпоху, послѣдовавшую за побѣдой. Оказывается, что «всѣ хороши» – таково приблизительно, если не господствующее мнѣніе, то во всякомъ случаѣ мнѣніе наиболѣе безпристрастное, благонастроенное на справедливость, на хладнокровную разсудительность. Былые грѣхи Германіи, пожалуй, признаваемые и абсолютно преувеличенными, ей даже готовы отпустить въ силу грѣховности ея обвинителей; поведеніе ея враговъ бросаетъ ex post смягчающій отблескъ на ея прегрѣшенія. Конечно, молъ, правота, правда, прогрессъ и идеалы были на сторонѣ Антанты; но посмотрите, какъ она сама съ ними поступала, когда получила возможность ихъ осуществлять, – вотъ какова природа человѣческая. И въ сущности весьма близокъ къ этому широко распространившійся и среди нѣмцевъ взглядъ; передовая нѣмецкая мысль, отрицая исключительную виновность своей родины, взываетъ противъ Антанты къ ея же принципамъ, тѣмъ самымъ ихъ санкціонируя. Но даже и уязвленный націоналистическій патріотизмъ, оправдывая себя, собственно какъ будто также склоняется къ родственнымъ построеніямъ, лишь перенося обнаружившуюся въ побѣдѣ грѣховность Антанты и на прошлое, и въ этомъ усматривая оправданіе, обоснованіе неизбѣжнаго своего прошлаго поведенія; Германія имѣла-де право такъ поступать, какъ поступала, и всѣ обвиненія лицемѣрны, ибо вотъ каковыми оказались ея враги и вотъ какъ они все равно поступили бы, если бы Германія не сдѣлала попытки себя отстоять противъ ихъ козней. Приблизительно таково кажется мнѣ разсѣянное ощущеніе, сказывающееся въ словахъ и интонаціяхъ, въ строкахъ и между строкъ.
И если вѣрно, что приблизительно таковъ, хотя бы и не всеобщій и не господствующій, но во всякомъ случаѣ наиболѣе благопріятный для Германіи и безпристрастный взглядъ, то приходится отмѣтить, что выводы предыдущихъ главъ идутъ въ разрѣзъ съ нимъ, какъ они шли бы въ разрѣзъ и съ идеологіей военнаго времени. При томъ они идутъ въ разрѣзъ не съ точки зрѣнія «національнаго эгоизма» Германіи, который можетъ въ сущности принять всѣ обвиненія враговъ и все же не считаться съ ними, становясь на эгоцентрическую точку зрѣнія собственнаго блага; который можетъ въ происшедшемъ видѣть неудавшееся самоосуществленіе, отрицательная сторона котораго въ томъ, что оно не удалось, а не въ томъ, что оно – удавшись – причинило бы другимъ величайшее зло. Намѣченная здѣсь точка зрѣнія безконечно далека отъ такого германскаго эгоцентризма. Я подхожу къ затронутымъ вопросамъ исключительно съ точки зрѣнія общей, съ точки зрѣнія идей, какъ и ставила вопросъ идеологія Антанты; но хочу съ этой точки зрѣнія подходить къ реальности, не ограничиваясь словесными, а тѣмъ болѣе – устраняя лицемѣрные выводы. Мол точка зрѣнія идейнаго реализма и именно она и приходитъ въ противорѣчіе съ кажущимся наиболѣе распространеннымъ и благожелательным!» представленіемъ нашего времени.
Дѣло именно не въ томъ, что Германія дѣйствовала, какъ и всякій другой народъ въ предѣлахъ своего національнаго эгоизма; дѣло не въ томъ, что идейность была у Антанты – правильная, но осуществленіе не лучшее, чѣмъ у Германіи. Дѣло въ томъ, что именно Германія стояла на объективно творческой и прогрессивной позиціи, а Антанта на регрессивной или пассивно-охранительной. Дѣло въ томъ, что послѣдняя основа исключительнаго развала Европы – не только военнаго, но и повоеннаго – заключается въ пораженіи, испытанномъ одной изъ сторонъ въ небывалой борьбѣ, и именно что пораженіе потерпѣла сторона исторически, объективно носившая въ себѣ движеніе Европы; что европейское будущее побѣждено европейскимъ прошлымъ – при содѣйствіи мірового настоящаго. Будущее Европы побѣждено ея прошлымъ, – оно не только оказывается отсѣченнымъ, но еще на развалинахъ торжествуетъ сила, въ настоящую эпоху неприспособленная строить и ставящая задачей – возстановить невозстановимое.
Таковъ выводъ предыдущихъ разсужденій, но собственно такова же и непосредственная интуиція происшедшаго. Когда побѣждаютъ, на войнѣ или гдѣ бы то ни было, силы строительныя, творческія, носительницы будущаго, какъ бы онѣ ни были истомлены и ослаблены борьбой и побѣдой, онѣ получаютъ благодаря ей непосредственную возможность самоосуществленія для дальнѣйшаго строительства. Ихъ побѣда означаетъ устраненіе враждебныхъ имъ, т. е. враждебныхъ поступательному творческому движенію, препятствій; и потому развалины не столько загромождаютъ путь, сколько освобождаютъ его отъ труднѣе преодолимыхъ препятствій.
Хотя и усталыя, побѣдившія силы получаютъ свободу развертыванія и бросаются въ него, какъ потокъ, снесшій плотину, – стихійно безъ передышки. Строительство начинается и происходитъ незамѣтно, гдѣ и какъ, потому что побѣдило и торжествуетъ начало строительное. Даже усталые и изнеможенные чувствуютъ освобожденіе; новая жизнь предчувствуется, даже еще и не сказываясь. Мы же стоимъ въ безвыходномъ недоумѣніи на перепутья нѣсколькихъ тупиковъ, и явнымъ образомъ ищемъ разрѣшенія – не въ продолженіи побѣднаго пути, а въ томъ, чтобы раздѣлать хоть часть содѣяннаго. Поразительно, что въ этомъ отношеніи сказывается глубокое внутреннее соотвѣтствіе между послѣдствіями великой европейской войны и глубокой всероссійской смуты, – и тамъ разрушеніе не даетъ ни освобожденія силъ, ни выхода, – а чистое разрушеніе, и тамъ оно приводитъ не къ возможностямъ новыхъ построеній изъ полученнаго, а къ необходимости раздѣлать сдѣланное, и тамъ – не движеніе впередъ, а возвращеніе вспять.
* * *
Выше уже пришлось говорить о передовомъ положеніи Германіи за послѣдній полувѣкъ. Я знаю, что не мало нѣмцевъ нынѣ въ общемъ упадкѣ пораженія готовы это отрицать или не усматривать; я знаю возраженіе, что Германія занималась и выдается преимущественно организаторскими способностями, систематическимъ развитіемъ тѣхъ идей, которыя въ своихъ творческихъ зачаткахъ зарождались въ геніальныхъ интуиціяхъ другихъ. Я не стану разсматривать этихъ рядовъ мыслей, ибо они не относятся къ существу настоящаго вопроса. Вѣрно ли это или невѣрно относительно личной геніальности, это нисколько не касается темы – о нѣмецкой государственно-культурной значимости, ибо въ послѣднемъ вопросѣ дѣло идетъ не объ индивидѣ, а о коллективѣ. И потому здѣсь существенно сравнивать не отдѣльныя индивидуальныя достиженія, а достиженія коллективныя. Для оцѣнки общаго уровня народа достаточно отмѣтить, что онъ вообще – въ какіе либо моменты, въ какихъ либо областяхъ – достигалъ вершинъ культурнаго творчества. Въ этомъ смыслѣ Гете, Кантъ, Бетховенъ, противопоставляемые современной Германіи – непротивопоставимы ей, а наоборотъ служатъ вмѣстѣ съ Бисмаркомъ или Гаусомъ, Лютеромъ или Лейбницемъ ключомъ къ ея уразумѣнію. Разъ гдѣ то достигнутъ максимумъ – этого достаточно для общаго признанія максимальности; остальное – пусть даже спаденіе въ тѣ или иныя эпохи, или слабость тѣхъ или иныхъ категорій – служитъ уже не оцѣнкѣ суммарной высоты, а характеристикѣ относительныхъ способностей и пониманію кривыхъ временнаго измѣненія. Но дѣло и не въ этомъ. Дѣло не въ способностяхъ народа, а въ его функціи въ данную эпоху. И слѣдовательно именно вопросъ не въ лицахъ, а въ коллективѣ, въ совмѣстной работѣ, а не въ индивидуальныхъ откровеніяхъ. Только объ этомъ – и уже во всякомъ случаѣ преимущественно объ этомъ – идетъ рѣчь, когда ставятъ вопросъ о творческой роли народа. И потому то, что данный народъ своимъ трудомъ выращиваетъ и духовные зародыши другихъ народовъ, – менѣе всего можетъ служить ему укоромъ; наоборотъ, быть можетъ больше всего другого это и подтверждаетъ его строительную – не только за себя, но и за другихъ – роль, если онъ не только свои собственные, но и чужіе задатки доводитъ до общезначимаго использованія и осуществленія. И именно эта роль выпала Германіи за послѣднія десятилѣтія, и именно эту роль играли въ былыя эпохи Англія или Франція. И эти двѣ страны не у однихъ себя черпали толчки и зерна своихъ достиженій; всякая великая культура неизбѣжно не только имѣетъ свои истоки у другихъ, но и безъ боязни изъ нихъ черпаетъ, не опасаясь тѣмъ потерять свое лицо. Она остается великой, посколько почерпаемое отовсюду претворяетъ въ своемъ синтезѣ въ цѣнности, общезначимыя въ данную эпоху. И у Германіи были въ былыя эпохи геніальныя достиженія, и другія страны заимствовали таковыя у постороннихъ народовъ; и тѣмъ не менѣе въ эти былыя эпохи именно другія страны являлись тѣмъ тиглемъ, въ которомъ синтезировалось образцовое творчество эпохи, черезъ который основныя цѣнности должны были пройти, чтобы достичь своего рѣшающаго значенія. Было бы преувеличеніемъ сказать, что точно такую роль играла Германія въ послѣдніе полвѣка; слишкомъ общимъ стало къ этому времени то, что можетъ быть названо обще-европейскимъ характеромъ культуры; во многихъ областяхъ д Парижъ, и Лондонъ сохраняли свое былое значеніе. Было бы ни съ чѣмъ несообразнымъ утверждать, будто Германія вытѣснила или заслонила собой европейскую культуру, – да и не это смыслъ и задача творческаго народа въ его творящую эпоху. Достаточно того, что въ этой со-вокупной европейской культурѣ – въ которой на ряду съ тремя главными частичными культурами неустанно работали, и воспринимая, и внося свою лепту, и меньшіе и малые народы, въ которую вливалась и Россія, въ руслѣ которой росла и Америка, – Германія во многихъ отношеніяхъ стояла впереди. Не то было бы существенно, чтобы она изъ себя создавала все самое новое, а то, что она на своей плавильнѣ претворяла свое и чужое въ формы для данной эпохи образцовыя, передовыя, что къ ней приходили учиться, и что она свою выработку и свой духовный законъ распространяла вокругъ себя. Германскому шовинизму могло бы хотѣться быть единственнымъ въ верховномъ культурномъ строительствѣ; германскому самолюбію можетъ быть непріятно, что изъ его творчества невытравимы геніальныя интуиціи другихъ народовъ и что, быть можетъ, даже въ его собственной работѣ неотдѣлимо сплетаются труды чужихъ по расѣ или по государственности людей. Патріотъ Европы остережется умалить долю творчества и соучастія другихъ; но онъ все же долженъ будетъ признать – что въ данномъ случаѣ только и существенно – что въ этомъ общемъ творчествѣ и работѣ германскій синтезъ давалъ во многомъ передовое, образцовое, общеевропейское.
И когда говорятъ, что этотъ синтезъ получался не путемъ творчества, а путемъ организаціи, – то этимъ противопоставленіемъ обнаруживаютъ замѣчательное недоразумѣніе. Ибо на самомъ дѣлѣ организація и есть основной путь творчества. Изобрѣтеніе или вообще обрѣтеніе новыхъ элементовъ есть явленіе чрезвычайно рѣдкое, можно сказать почти исключительное. Элементовъ во всякой области имѣется совершенно ничтожное число по сравненію съ бездной производимыхъ изъ нихъ цѣнностей, – производимыхъ не въ смыслѣ повторности экземпляра, а въ смыслѣ новаго созиданія. Мало того, элементы въ наибольшей части не создаются, не творятся; въ рѣдкихъ случаяхъ – они открываются; чаще всего они обрѣтаются, улавливаются, примѣчаются, случайно обнаруживаются. Основная масса человѣческаго творчества заключается – въ организовываніи, въ оформленіи ихъ въ новые и все новые, болѣе усложненные, или болѣе адекватные назначеніямъ синтезы. Организація есть согласованіе элементовъ или синтезовъ въ новые синтезы; она предполагаетъ, разумѣется, не одно сопоставленіе частей, не одно ихъ собираніе, а – сопоставленіе, собираніе сообразно схемѣ, которой и опредѣляется новый синтезъ, сооб-разно его идеѣ. Громадное большинство идей культуры суть идеи ея синтезовъ, ея организовыванія; громаднѣйшее большинство достиженій культуры – осуществляется въ порядкѣ выработки новыхъ организаціонныхъ схемъ, новыхъ синтетическихъ идей; вѣрнѣе сказать – въ порядкѣ организовыванія сообразно новымъ (болѣе сложнымъ, адекватнымъ иліи эффективнымъ) схемамъ и формамъ; подавляющая часть культурнаго творчества – есть творчество организаціонныхъ схемъ и организованіе въ соотвѣтствіи съ ними.