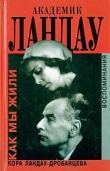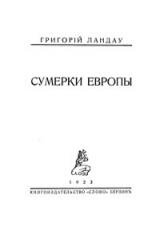
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Отсюда проистекаютъ разнаго рода послѣдствія. Воздѣйствіе на одну волю или на небольшое ихъ число можно дозировать; ее можно опредѣлять по содержанію, и качественно и количественно, можно въ опредѣленную минуту удержать или отклонить на новый путь сообразно новымъ необходимостямъ, – по крайней мѣрѣ пытаться это сдѣлать. Съ множествомъ воль, съ десятками тысячъ ихъ, съ милліонами – этого сдѣлать нельзя; съ ними нельзя столковываться объ опредѣленныхъ предѣлахъ, ихъ можно только общимъ образомъ толкать, разогнать по желанному пути. И когда волѣ поставлена столь тяжелая задача, приходится разгонять безъ предѣла, безъ оговорокъ, безъ ограниченій – разгонять во всю къ искомой цѣли. Движеніе цѣлаго проводится массовымъ движеніемъ единицъ; но массовое движеніе единицъ обезпечено лишь когда стало движеніемъ стихійнымъ, – такъ, массовая стихія становится двигателемъ организованнаго цѣлаго.
Стихію надо разогнать, чтобы привести въ движеніе; но разогнавъ, немыслимо остановить или управлять ею по желанію. Ибо стихію можно вызвать, мыслимо даже дать ей направленіе, но немыслимо ею руководить. И потому, когда задача государственнаго цѣлаго потребуетъ пріостановки или поворота, соглашенія или перестройки, – разогнанная стихія будетъ продолжать свое давленіе по прежнему пути. Вожди государства, можетъ быть, и захотѣли бы и могли найти средства заблаговременнаго заключенія мира, или – по заключеніи мира – цѣлесообразнаго, согласительнаго его оформленія; но это уже стало невозможно при томъ стихійномъ давленіи, которое они сами вызвали и которое было необходимой для нихъ опорой и орудіемъ ихъ государственнаго водительства. Развязанную стихію только исподволь возможно обуздать, а пока что она продолжаетъ производить свое разрушительное дѣйствіе, для котораго и была создана, – тѣмъ опредѣляя разрушительность и псслѣ-военной политики.
По содержанію – разогнать стихію возможно было лишь путемъ обольщенія, искаженія, ослѣпленія, т. е. помощью такой культуры лжи, какой міръ, кажется, никогда не виды-валъ; и безспорно важнѣйшей задачей современности является очищеніе духовной атмосферы отъ напущеннаго въ военное время смрада. Цѣль эмоціональнаго разгона требуетъ, чтобы ставимыя обществу задачи были представлены въ наиболѣе привлекательномъ, наиболѣе соблазнительномъ, возвеличенномъ видѣ. Разгоняя массу въ опредѣленномъ направленіи, только и можно, что намѣчать направленіе, а не имѣющую быть достигнутой точку пути; направленіе же обозначается всего нагляднѣе и опредѣленнѣе нѣкоторой предѣльной свѣтящейся точкой, – поставленіемъ отдаленнаго маяка, который бы манилъ къ себѣ, недостижимо и неподвижно. Достигнуть его невозможно, излишне или даже и зловредно; но путь онъ непрерывно указываетъ, потому что неподвиженъ, и разгону содѣйствуетъ, потому что недостижимъ. И другое: крайняя точка должна быть мысленно изукрашена всѣми соблазнами обѣщаній и обольщеній, сверхъ мѣры оплачивающихъ въ воображеніи тяжкія жертвы дѣйствительнаго пути. И вотъ разрисовывается въ завершеніе побѣдоносной войны – и вѣчный миръ, и оплата врагомъ всѣхъ убытковъ и проторей, и воцареніе справедливости, и закрѣпленіе могущества, и торжество надъ поверженнымъ врагомъ. Въ стихійномъ разгонѣ эмоціональнаго вовлеченія, – какъ эмоція нагнетается до наивысшаго напряженія, такъ и содержаніе – до наибольшаго соблазна.
Максимализація цѣлей опредѣляется самымъ механизмомъ осуществленія единой государственной задачи силою массоваго множества индивидуальныхъ воль. Такъ велась въ послѣдніе полъ вѣка агитація соціализма, такъ же велась и агитація великой войны.
Вдобавокъ надо уяснить себѣ, что всякой массовой агитаціи на потребителя неотъемлемо присуща черта упрощенной приблизительности. Въ процессѣ массоваго духовнаго потребленія нѣтъ мѣста для точно взвѣшенныхъ обѣщаній и четко очерченныхъ понятій. Здѣсь приходится удовлетворяться увлекательными, но мало расчлененными представленіями, раскрывать заманчивыя, но туманныя перспективы. Въ подобной туманной нерасчлененности и происходитъ массовый разбѣгъ къ далекой, смутно маячащей соблазнительной цѣли. Замѣчательнымъ и полнымъ воплощеніемъ подобной вульгарной максимализаціи была проповѣдь Вильсона: и въ этомъ и заключался существенный элементъ ея мірового успѣха.
Неопредѣленность по содержанію, вдобавокъ еще уложенная въ рядъ пунктовъ, придававшихъ ему видимость чрезвычайной дѣловитости, и заманчивость всеразрѣшающихъ обѣщаній – въ такой же мѣрѣ обезпечила за нимъ мгновенную славу, какъ и окончательный провалъ. На путь вульгаризаціи здѣсь сталъ (не нарочно, а потому что это и былъ его путь) вождь и руководитель народа, ученый государствовѣдъ. Ясно, куда ведетъ этотъ склонъ, когда – подъ прикрытіемъ государственныхъ людей и профессоровъ – на него вступаетъ вся профессіональная толпа руководителей современнаго общества, политиковъ, журналистовъ, агитаторовъ, проповѣдниковъ, малограмотныхъ писателей, невѣжественныхъ популяризаторовъ, необученныхъ учителей. Въ томъ неизбѣжномъ для демократическаго общества явленіи, что сами руководители составляютъ толпу, что и пастухи являются стадомъ, – лежитъ уже сама по себѣ великая опасность оплощенія; она усугубляется въ тѣ моменты, когда съ данной проповѣдью связываются могущественные государственные интересы и народныя страсти; она грозитъ стать роковой, когда безсознательно злостнымъ или убѣжденно-ослѣпленнымъ пустословіемъ оно раститъ пустомысліе, ширитъ ослѣпленіе. Подобный пароксизмъ бываетъ не часто; горе поколѣнію, его переживающему. Война дала намъ незабываемый примѣръ.
Неизбѣжная особенность строенія современнаго общества еще закрѣпляетъ вульгаризированный максимализмъ массовой проповѣди. Во всѣхъ обществахъ различные слои одновременно находятся на разныхъ ступеняхъ культурнаго роста; но благодаря непреодолимой силѣ напряженнаго взаимнаго общенія современности – путемъ безчисленныхъ соціальныхъ передвиженій и соприкосновеній – образуется своеобразная смѣшанно-культурная, полу-культурная среда; отъ непосредственности превзойденныхъ міросозерцаній здѣсь осталась одна наивность, отъ сознательности міросозерцаній позднихъ, духовными усиліями вырабатываемыхъ, пріобрѣтена лишь разсудочность. Это точка зрѣнія разсудочной наивности. Стоитъ, молъ, понять, захотѣть и рѣшить, чтобы и исполнить задуманное. Героическое ощущеніе всепреодолѣваемости высшихъ культурныхъ слоевъ находитъ подкрѣпленіе и завершеніе въ наивной разсудочности культурно низшихъ. Когда то въ ирраціональномъ представленіи божественнаго промысла, неисповѣдимости господнихъ путей – заложено было въ иносказаніи пониманіе самобытійнаго существа, неподчиняемости разсудочному рѣшенію общественно-человѣческой жизни. Позже тотъ же выводъ о несводимости къ сознательнымъ подсчетамъ и рѣшеніямъ будетъ сдѣланъ познающимъ разумомъ, для котораго призрачнымъ станетъ самодовлѣніе и самобытійность духовно-общественнаго матеріала. Но для вульгарнаго пониманія, уже извѣрившагося въ неисповѣдимости божественнаго промысла, и еще не проникшаго въ объективно-сущія сцѣпленія человѣческой жизненности, совершенно непобѣдимой представляется мысль о легкости устроенія сообразно сознательному желанію; если жизнь такъ еще не устроена, то только потому, что мы не догадались, и кто то мѣшаетъ – самодержецъ, буржуазія, имперіализмъ, Германія. Вульгарная идеологія военнаго времени въ этомъ смыслѣ имѣетъ полную параллель въ вульгарной идеологіи соціализма, какъ она отражается въ полукультурныхъ, полуинтеллигентскихъ слояхъ. Упрощенная формула и гласитъ: устранить («долой») и устроить («да здравствуетъ»). Устранить врага буржуазію, Германію; устроить – обѣтованное: всеобщее матеріальное благополучіе, вѣчный миръ. Орудіемъ ожидаемой всеисчерпывающей благости становится всепожирающая ненависть; всѣ силы зла направляются на препятствіе, чтобы съ его устраненіемъ тѣмъ самымъ оказалось достигнутымъ предѣльное благоденствіе. Такъ, высшее благо своей непосредственной достижимостью оправдываетъ въ вульгарномъ сознаніи примѣненіе злѣйшаго зла.
Мы видѣли – и до сихъ поръ еще видимъ – продолжающееся осуществленіе этой діалектики въ безподобной разрушительности военнаго максимализма; мы ее видѣли и въ соціальномъ максимализмѣ русскаго саморазгрома. Отчасти одинаковое дѣйствіе проявилось въ этихъ разныхъ областяхъ благодаря одинаковости дѣйствовавшихъ въ нихъ пружинъ. Но отчасти разгромъ, произведенный вторымъ максимализмомъ, былъ пріуготовленъ первымъ.
Слишкомъ легко подготовленная военной идеологіей и проповѣдью психологія ни передъ чѣмъ не останавливающагося разгрома во имя немедленно достижимыхъ обѣтованій была перенесена на соціальную сферу; не найдя въ Россіи, въ силу ея своеобразныхъ условій, ни сопротивленія, ни устойчивости, она и дала разительные всходы. Конечно, рѣшающими здѣсь были условія мѣстныя, предпосылки, заложенныя въ народно-государственной средѣ, въ историческомъ сплетеніи обстоятельствъ. Но не малое значеніе среди нихъ имѣло и всенародное воспитаніе къ максимализму, произведенное военной идеологіей въ условіяхъ политическаго демократизма; военный максимализмъ, вскормившій максимализмъ національный (помощью идеи самоопредѣленія), существенно посодѣйствовалъ и максимализму соціальному. Пацифизмъ вырастилъ большевизмъ. Вильсонъ былъ предтечей Ленина.
Будемъ думать, что Европа преодолѣетъ свое глубокое паденіе, будемъ содѣйствовать этому осознаніемъ и тѣмъ самымъ обезвреживаніемъ отравившаго ее яда. Больше всякаго другого строя нуждается демократія въ сильной власти, какъ поправкѣ къ своей организаціонной шаткости; больше всѣхъ другихъ нуждается она также и въ непреклонно-правдивомъ, отвѣтственно честномъ мышленіи, какъ поправкѣ на вѣчно подстерегающую ее демагогію.
II. ИДЕИ ВОЙНЫ
Максимализмомъ опредѣляется духовный темпъ въ разработкѣ идей военнаго времени; слѣдуетъ остановиться и на ихъ содержаніи, чтобы ближе осмыслить, какъ взаимоотношенія сторонъ, такъ и разрушительныя послѣдствія ихъ столкновенія. Объ одномъ изъ этихъ содержаній – объ идеѣ пацифизма – шла уже рѣчь выше. Здѣсь придется остановиться на другихъ.
Объ идеяхъ войны я говорю ближайшимъ образомъ въ смыслѣ субъективномъ, въ смыслѣ тѣхъ цѣлей и того значенія, которыя ей приписывались сторонами; но это субъективное значеніе не могло бы имѣть мѣста безъ опредѣленнаго соотвѣтствія и съ объективнымъ смысломъ войны. Подъ субъективнымъ отношеніемъ я не имѣю въ виду тѣхъ задачъ, которыя фактически преслѣдовались руководящими лицами, группами или слоями; эти задачи можно понимать и строить по разному и выясненіе ихъ должно быть предоставлено будущему историку. Но есть нѣчто, лежащее ближе къ поверхности, наглядное, уловимое почти что на невооруженный взглядъ, – это тѣ лозунги, мотивы, которые господствовали въ общественномъ мнѣніи, которыми опредѣлялись и поддерживались общественныя настроенія. На первый взглядъ можетъ казаться, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ наиболѣе зыбкимъ и непоказательнымъ. Кто теперь не знаетъ и не понимаетъ, какъ искусственно взмыливаются и обманно вызываются общественныя настроенія, вообще, а въ особенности, въ военной эпохѣ, подобной пережитой. Кто не помнитъ про могучіе аппараты военной пропаганды, про задуманные въ кабинетахъ, разработанные штабами и разнесенные по всѣмъ угламъ міра лозунги и оцѣнки, внѣдряемые въ массы, а вовсе не проявлявшіе ея правосознанія. И тѣмъ не менѣе эта пропагандой вызванная, – пускай даже подстроенная – идеологія войны сквозь всю свою искусственность представляетъ, какъ фактъ, подлинную дѣйствительность массоваго сознанія; и какъ фактъ она показательна не только для духовности раздѣлявшихъ ее, или хотя бы заболѣвшихъ ею народовъ, но показательна и для ихъ объективныхъ устремленій. Ибо пусть данная идея или лозунгъ разработаны въ кабинетахъ начальниковъ пропаганды и сознательно и планомѣрно распространены въ милліонахъ газетныхъ листковъ, рѣчей и книгъ. Ошибочно было бы думать, что всякая мысль и лозунгъ, такимъ образомъ распространенные, могли бы имѣть одинаковый успѣхъ и вліяніе. Для того, чтобы зараза принялась въ организмѣ, нужна его воспріимчивость именно къ ней; одинъ останется здоровымъ или легко преодолѣетъ, гдѣ другой подвергнется бурному заболѣванію. Лживая идея – такой же фактъ, какъ идея правильная и для психики ее переживающей такъ же показательна, можетъ быть и болѣе показательной; ибо правдивая идея навязывается объективностью, лживая же опирается всецѣло на субъективность, тѣмъ ее глубже выявляя. Въ данномъ случаѣ то, что общественная идеологія вырабатывалась сознательно и планомѣрно, только сугубо подчеркиваетъ ея показательный характеръ; ибо къ воспріимчивости массъ здѣсь присоединяется и цѣлесообразная продуманность руководящихъ органовъ. Вотъ почему въ возможности и въ фактѣ господства той или иной идеологіи военнаго времени независимо отъ обоснованности ея содержанія – мы усматриваемъ методъ постиженія подлинныхъ предрасположеній переживавшѣго ее народа. Но проявляя эти тяготѣнія, получившая господство идеологія ихъ и усиливаетъ, обостряя послѣдствія, можетъ быть, и безъ нея неизбѣжныя. Идеологія, какъ фактъ, будучи проявителемъ становится и факторомъ народныхъ устремленій.
1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА И СОЦІАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНІЕ
Открылась война на инцидентѣ, который впослѣдствіи былъ чрезвычайно настойчиво использованъ союзной пропагандой во вредъ Германіи и дѣйствительно чрезвычйно показательно – можно почти сказать символически – освѣтилъ позиціи враждующихъ сторонъ; именно на инцидентѣ между Бетманъ – Гольвегомъ и англійскимъ посломъ. Договоръ, приравненный къ клочку бумаги съ одной стороны; но на этомъ договорѣ стоитъ подпись Англіи – съ другой. Союзники твердо стояли – пусть на словахъ, но только о словахъ сейчасъ и рѣчь – на той позиціи, которую они тогда заняли; нейтральные къ ней присоединились, а нѣмцы, кажется, стали истолковывать, а частью даже отрекаться отъ словъ канцлера. Съ одной стороны обнаружилось пренебрежительное отношеніе къ священному институту договора, съ другой – джентльменское принятіе на себя послѣдствій разъ даннаго слова.
Договоръ – клочокъ бумаги. Какъ извѣстно, такъ въ исторіи и бывало, также и въ исторіи тѣхъ странъ, которыя въ данной войнѣ выступили противниками Германіи. Можно было бы, между прочимъ, сослаться на происшедшее уже послѣ окончанія войны нарушеніе условій, на которыхъ Германія сложила оружіе, – на что у Кейнса можно найти краснорѣчивѣйшія указанія. Говорю это отнюдь не для полемики, а лишь съ цѣлью установить, что сказанное Бетманъ-Гольвегомъ соотвѣтствуетъ правдѣ исторіи – и былой и современной. Сказанное Бетманъ-Гольвегомъ есть правда, которой не говорятъ; отвѣтъ англійскаго посла есть норма, которой не соблюдаютъ. Канцлеръ былъ государственно – правдивъ, посолъ – дипломатически правъ. Канцлеръ свою правду выложилъ съ цинизмомъ или простоватостью; посолъ – свой принципъ выложилъ съ лицемѣріемъ или дипломатичностью. Правда и условная ложь, цинизмъ и лицемѣріе, простоватость дипломатической неумѣстности и изящество дипломатической находчивости – такъ могутъ быть соотвѣтственно сопоставлены позиція нѣмецкаго и англійскаго государственныхъ людей.
Вспомнимъ еще и о другомъ инцидентѣ, также имѣвшемъ мѣсто сравнительно близко къ началу войны и также сыгравшемъ большую ролъ въ міровой агитаціи. Я говорю о манифестѣ германскихъ ученыхъ. Собственно во враждебныхъ странахъ его толкомъ и не прочитали, но опять таки позиціи, занятыя въ спорѣ, и не возбуждали сомнѣнія. Съ одной стороны нѣмцы отрицали специфическія, не связанныя съ процессомъ войны звѣрства, будто производимыя германскими войсками, и утверждали связь и необходимость военной мощи для германской культуры, съ другой стороны возмущались оправданіемъ милитаризма со стороны ученаго міра. Но и здѣсь нужно же сказать, что правдивость была на сторонѣ нѣмецкихъ профессоровъ., Исторія не часто встрѣчаетъ мощно расцвѣтающую культуру внѣ опоры на всесторонне расцвѣтающій народный организмъ, обезпеченный только въ томъ случаѣ, если онъ въ борьбѣ и соревнованіи съ соперниками и врагами защищенъ силой, которая открываетъ возможность экономическаго и соціальнаго роста и духовнаго расцвѣта. Конечно, если культура (даже специфически духовная) для своего длительнаго и богатаго расцвѣта обыкновенно нуждается въ соціально экономическомъ развитіи и международно-военной обезпеченности, то вѣдь и обратно, подлинный военный расцвѣтъ предполагаетъ общетехническую, соціальную, а слѣдовательно и духовную куль-туру, безъ которой онъ можетъ дать только мнимую силу. И само собой понятно, что во времени не совпадаютъ вершины въ разныхъ областяхъ и отрасляхъ культуры. Органическая сила, налившаяся въ коллективѣ, проявляется въ отдѣльныхъ сферахъ жизни и общественности не только въ зависимости отъ различныхъ историческихъ условій различно, но еще и въ разныхъ темпахъ и послѣдовательностяхъ въ зависимости отъ свойствъ этихъ областей. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вершинныя основополагающія достиженія неизбѣжно лежатъ ближе къ началу пути (это относятся преимущественно къ искусству и философіи), между тѣмъ какъ въ другихъ областяхъ они вырабатываются къ его концу. Съ другой стороны ростъ культуръ является обычно спиралевиднымъ, т. е. нѣкоторыя достиженія государственно-соціальной мощи завершаютъ свои круги, обоснованные опредѣленнымъ культурнымъ наростаніемъ, и тѣмъ создаютъ основу для новыхъ культурныхъ напряженій, которыя затѣмъ обосновываютъ и новые круги государственной соціальной мощи; они не являются непосредственнымъ продолженіемъ тѣхъ первыхъ, но связаны съ ними все же преемственной культурной связью (таковы приблизительно зависимости гете-бетховенской и канто-гегелевской Германіи съ Германіей конца 19 вѣка, наивно противопоставлявшіяся какъ культурная и государственно слабая Германія – варварской и государственно сильной). Бываютъ и разнообразныя мнимыя отклоненія отъ подобной зависимости. Аѳины могутъ казаться чрезвычайно слабымъ политическимъ образованіемъ по сравненію съ Римской имперіей; но въ томъ мірѣ государственности, въ которомъ они жили, развивались и творили, въ мірѣ городской культуры и государственности Эллады, они такой слабостью нисколько не отличались. Въ случаяхъ несоотвѣтствія, а именно превышенія уровня культуры надъ уровнемъ государственности – въ основѣ все же лежитъ либо нѣкогда уже осуществившійся подъемъ народныхъ силъ, вылившійся въ свое время и въ формы государственной мощи (какъ это имѣетъ мѣсто въ Голландіи), либо примыканіе къ культурамъ велико – державнымъ (какъ э, то наблюдается въ Шейцаріи).
Бываютъ и подлинныя отклоненія отъ намѣченной связи государственности и культурности; отдѣльныя, обыкновенно одностороннія преимущественно литературныя, политическія достиженія мыслимы и въ полной государственной слабости, (какъ это было съ литературой Польши); но и здѣсь художественный расцвѣтъ оказывается какъ бы отрицательно отраженнымъ отъ былой, исчезнувшей государственности, какъ ея обломокъ, какъ память и печаль по ней, какъ послѣднее собираніе расплескавшихся послѣ ея крушенія силъ, какъ послѣдній плодъ нѣкогда накопленной мощи. Культура подлинно развивающаяся безъ государственности (подобно еврейской культурѣ) – составляетъ почти что неповторимое исключеніе исторіи; да и то она празднуетъ періоды своего расцвѣта, когда получаетъ опору въ чужой государственности.
И ужъ во всякомъ случаѣ нельзя же отрицать, что если не всегда, не непремѣнно, то обычно, или хотя бы часто, или хотя бы возможно, чтобы именно такъ обстояло дѣло: чтобы военная мощь, связанная съ общею государственной мощью, являлась опорой и защитой за ея оградой спокойно расцвѣтающей культуры. И если такъ, то какъ же возмущаться и что же возражать на утвержденіе этой правды. Можно возражать только утвержденіемъ условной идеалистической лжи о самодовлѣющей, несвязанной съ «милитаризмомъ» – пацифистской цивилизаціи, жрецами которой будто и надлежитъ быть ученому міру.
* * *
По существу германскій канцлеръ заявилъ, что во имя интересовъ государственнаго цѣлаго, передъ вопросомъ о жизни и смерти великаго семидесятимилліоннаго народа, во имя будущаго великой культуры – не приходится останавливаться передъ нарушеніемъ договора. Въ этомъ утвержденіи еще даже и не противопоставляются интересы большого народа и малаго народа; въ ней не противопоставлены народные интересы и культура по ихъ такъ сказать объему: большему молъ должно уступить меньшее. Здѣсь въ основѣ юридической формѣ противопоставлялось соціально культурное историческое содержаніе. Договоръ подписанъ Германіей; но онъ идетъ въ разрѣзъ съ жизненными предпосылками ея существованія и потому онъ становится передъ лицомъ этихъ предпосылокъ, передъ лицомъ живыхъ требованій живыхъ людей, живой культуры – мертвой буквой, клочкомъ бумаги, не могущимъ выдержать и не долженствующимъ остановить живого потока исторіи. Такъ именно и была воспринята позиція Германіи ея врагами. Существо того, что было выставляемо противъ нея въ этомъ отношеніи, именно и сводилось къ тому, что договоры должны быть соблюдаемы, что разъ данное слово должно быть свято исполнено, что и въ международной жизни должны быть соблюдаемы тѣ гарантіи, которыя уже давно восторжествовали въ жизни частной. Германія выдвинула реальное народное содержаніе противъ юридической формы, поддержанной Англіей и вообще Антантой. Святость народнаго интереса, культурно соціальнаго содержанія противъ святости юридической формы – такова суть того перваго противопоставленія, которое заключается въ конфликтѣ канцлера и посла.
* * *
Характерно, что это противопоставленіе обострилось въ споръ о соблюденіи или нарушеніи договора; и потому слѣдуетъ отмѣтить, что соціальному содержанію въ идеологіи Антанты противопоставлялась даже не вообще юридическая форма, но еще точнѣе и ближе – опредѣленная (по крайней мѣрѣ по категоріи) юридическая форма, именно право» индивидуалистическое, «римское», буржуазное. Во всякомъ случаѣ дѣло идетъ о правѣ внутри-государственномъ, о координаціи лицъ въ предѣлахъ государственно-подобнаго цѣлаго. Уничтоженіе милитаризма, какъ возможности самостоятельными силами отстаивать свои интересы, разборъ конфликтовъ судомъ, приведеніе рѣшенія въ исполненіе принудительной силой, принадлежащей организованному международному цѣлому. Такова общая схема. Но въ этой общей схемѣ содержаніе давалось еще болѣе суженнымъ.
Въ предѣлахъ государства – государство въ лицѣ своихъ органовъ охраняетъ, контролируетъ соблюденіе права, судитъ за его нарушеніе, возстанавливаетъ, возмѣщаетъ, караетъ за таковое, приводитъ въ исполненіе свои постановленія – но право имъ охраняемое имъ же самимъ и установлено; и не только это: оно предоставляетъ (въ правѣ индивидуалистическомъ, гражданскомъ) и самимъ сторонамъ устанавливать для себя право путемъ соглашенія. Государство силой своего авторитета, организаціи принужденія ста-новится и въ этомъ отдѣлѣ права на его защиту, на охрану частныхъ договоровъ, заключенныхъ отдѣльными лицами, какъ самостоятельными, независимыми субъектами. Вотъ именно къ этому отдѣлу внутри-государственнаго права, и сводила антантистская идеологія международныя отношенія; въ сущности именно защиту такого права она и выставила своимъ лозунгомъ, предметомъ и цѣлью войнъ. Договоры заключены самостоятельными государствами, договоры должны быть соблюдаемы, и за соблюденіемъ ихъ должна слѣдить вся совокупность націй.
А между тѣмъ индивидуалистическое «мелко-буржуазное» гражданское право и внутри государства и въ отношеніяхъ между субъектами частнаго права – давно уже перестало пользоваться тѣмъ авторитетомъ, той непререкаемой охраной, которыми когда то оно пользовалось и которыми собралась Антанта снабдить договоры, заключенные даже и государствами. Уже не говоря о договорахъ, заключенныхъ путемъ принужденія (а таковыми вѣдь, пожалуй, является большинство международныхъ договоровъ), не пользуются защитой вѣдь и договоры, нарушающіе требованія морали; мало того, государство вѣдь ограничиваетъ и самую свободу заключенія договоровъ, свободу установленія частнаго права, какъ въ своихъ интересахъ – въ интересахъ цѣлаго, – такъ и въ интересахъ стороны, являющейся при заключеніи договора слабѣйшей. Для государства словомъ заключенный между сторонами договоръ уже давно пересталъ быть нерушимой святыней и оно въ разныхъ формахъ вмѣшивается въ содержаніе договора, не допускаетъ его заключенія, вводитъ поправки и ограниченія, – словомъ всячески ломаетъ юридическую форму во имя соціальнаго содержанія. Такимъ образомъ помимо того, что міровоззрѣніе Антанты свело государственныя отношенія къ частнымъ, оно еще свело ихъ къ той формѣ частныхъ гражданско-правныхъ отношеній, которая и въ этой области является устарѣлой, изжитой. Правда въ совокупной антантистской идеологіи имѣлся и другой моментъ, который можетъ казаться вносящимъ сюда поправку, а именно идея защиты правъ малыхъ народовъ – какъ бы составлявшая аналогію съ защитой правъ слабыхъ въ частно-хозяйственныхъ отношеніяхъ. Къ этому перейду въ дальнѣйшемъ: чередуя вопросы, правомѣрно въ первую очередь остановиться на анализѣ той идеи святости договорной подписи, которая: занимала не только выдающееся, но и самостоятельное мѣсто въ антантистской проповѣди.
Право, за соблюденіе коего стояла Антанта, она противопоставляла силѣ, насилію: Германія путемъ насилія нарушаетъ право, она же стоитъ за его соблюденіе. Другими словами, одной формѣ противопоставлялась другая форма, формѣ легальности – форма насильственности. Мысль двигалась въ плоскости формъ, не касаясь содержанія. Съ германской стороны – хотя, быть можетъ, и безъ достаточно длительной увѣренности – юридической формѣ противопоставлялось соціальное содержаніе; между тѣмъ Антанта противопоставляла форму юридическаго соблюденія формѣ насильственнаго нарушенія.
Не трудно усмотрѣть, къ какимъ саморазрушительнымъ послѣдствіямъ и противорѣчіямъ должна приводить эта точка зрѣнія, если добросовѣстно ею руководиться, и какъ не возможно добросовѣстно руководиться ею. Въ самомъ дѣлѣ государство примѣнительно къ частно-правнымъ договорамъ стоитъ на стражѣ соблюденія юридической формы, – но это предполагаетъ и соотвѣтствуетъ тому, что самыя правовыя отношенія, соблюденіе коихъ охраняется государствомъ, установлены на правовой же почвѣ, предполагаютъ правовую и государственную структуру. Но международныя отношенія доселѣ не устанавливались на правовой, объемлющегосударственной почвѣ, а устанавливались на почвѣ отношеній силы въ международномъ, а не государственномъ порядкѣ. Они въ лучшемъ случаѣ устанавливались въ формахъ права но не въ предѣлахъ права, не на основаніи предпосылочной для сторонъ государственной системы. Они являлись облекаемыми правомъ фактическими отношеніями силы. При такомъ положеніи отстаивать святость правовой формы не значитъ ли отстаивать силовое отношеніе вчерашняго дня. То отношеніе мощи, насилія, которое вчера вылилось въ опредѣленную форму, сегодня оказывается благодаря этой формѣ освященнымъ. Но почему вчерашнее отношеніе силы имѣетъ преимущество передъ сегодняшнимъ? На самомъ дѣлѣ, если уже производить между ними выборъ, то сегодняшнее насиліе уже потому заключаетъ въ себѣ больше обоснованности чѣмъ вчерашнее, что оно соотвѣтствуетъ живымъ человѣческимъ содержаніямъ, возможностямъ, желаніямъ и напряженіямъ, соотвѣтствуетъ жизни живой, а не уже отошедшей. Правда, вчера произведенное насиліе сегодня стоитъ уже какъ фактъ, на который наслоилась промежуточная жизнь, съ которой связались интересы и ожиданія; въ этой предпосылочности вчерашняго насилія сегодняшней мирной жизни и заключается его, если не оправданіе, то обоснованіе: считаться съ нимъ, его соблюдать. Но это обоснованіе сохраняется до тѣхъ поръ, пока оно остается ненарушаемымъ фактомъ; нарушенное оно лишается оправданія своей фактической непрерывности и защитимо уже лишь обоснованностью своего содержанія, а не простой данностью своего бытія, – и уже во всякомъ случаѣ не его легальностью.
Антантистскій лозунгъ права, выдвинутый на войнѣ былъ лозунгомъ соблюденія юридической легальности, аналогичной внутригосударственной легальности въ частно-правныхъ договорныхъ отношеніяхъ; тѣмъ самымъ мы имѣемъ незаконный, ибо объективно не соотносительный переносъ идеи изъ одной области, гдѣ она выработалась, въ другую – ей чуждую. Но далѣе оказывается, что при дальнѣйшемъ развитіи этотъ переносъ приводитъ къ такимъ послѣдствіямъ, что то, что въ исходной области было соблюденіемъ права, здѣсь становится охраной насилія. Ибо во внутри-государственныхъ отношеніяхъ государство охраняетъ въ правѣ выраженныя отношенія имъ же на основаніи права и установленныя, здѣсь же подлежатъ охранѣ облеченныя въ форму права отношенія насилія. Тождественная форма, перенесенная на отличное содержаніе, получаетъ и непредвидѣнный противоположный смыслъ. Отсюда вовсе не долженъ быть сдѣланъ выводъ, что договоры въ международномъ общеніи не должны быть соблюдаемы, а только то, что этотъ принципъ не можетъ здѣсь имѣть того значенія, какой онъ имѣетъ во внутригосударственныхъ отношеніяхъ.
Къ тому-же лозунгъ примата заключенныхъ договоровъ, устанавливая святость насилій вчерашняго дня, тѣмъ самымъ несетъ въ себѣ свое уничтоженіе, вѣрнѣе, – основу исчезновенія какой бы то ни было опредѣленности. Ибо если насиліе незаконно сейчасъ, то незаконно оно было и вчера. Нарушеніе нейтралитета Бельгіи есть нарушеніе договора, вчера заключеннаго, и какъ таковое преступно. Но вчера же былъ заключенъ договоръ объ отторженіи Эльзаса и Лотарингіи отъ Франціи; какъ договоръ, на которомъ стоитъ подпись Франціи, онъ собственно священенъ и не допускаетъ нарушенія; съ другой стороны онъ оформляетъ раньше произведенное насиліе и какъ таковой въ свою очередь незаконенъ. Ясно, что отсюда вытекаетъ: отъ одного нарушенія къ другому (вся міровая исторія состоитъ изъ нарушеній) мы придемъ къ полному разложенію всѣхъ государствъ, территорій, народовъ, всѣхъ международныхъ связей; кромѣ того и вмѣстѣ съ тѣмъ придемъ къ перекрещивающейся путаницѣ всѣхъ отношеній, – ибо напримѣръ, на одну и ту же территорію въ разныя эпохи имѣли международныя притязанія и разныя государства, имѣли права, послѣдовательно нарушенныя соотвѣтственно другъ у друга.
Или можетъ быть установлена какая нибудь давность. Но въ такомъ случаѣ – какая же и чѣмъ опредѣляемая? Сколько лѣтъ послѣ войны должно пройти, чтобы совершенное и облеченное въ форму права насиліе стало уже неотмѣнимымъ?