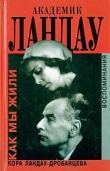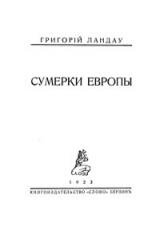
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Въ свое время аналогичными (обще формально говоря) были ликвидаціи межплеменныхъ, межгосударственныхъ отношеній – поскольку аналогичны въ нѣкоторой степени были и суверенноподобныя отношенія сторонъ. И тамъ на раннихъ ступеняхъ культуры побѣдитель нерѣдко покорялъ побѣжденнаго, включая его въ свою организаціонную структуру, дѣлая его себѣ кабальнымъ, холопомъ, организуя его послѣдующую соціальную отъ себя зависимость. Незачѣмъ выяснять вопроса, дѣйствительно ли, какъ думаютъ нѣкоторые, это и былъ путь созданія первыхъ государствъ; какъ бы то ни было, подобнаго рода явленія происходили на раннихъ ступеняхъ культуры; и именно своеобразное возвращеніе къ нимъ мы имѣемъ въ современномъ мирѣ. Война въ тѣ вѣка завершалась не передвиженіемъ опредѣленныхъ цѣнностей отъ побѣжденнаго къ побѣдителю, а организаціей эксплоатаціи побѣжденнаго въ послѣдущее послѣ войны мирное время, организаціей государственно-кабальнаго отношенія. Такимъ образомъ идея in integrum restitutio въ связи съ государственной репрессіей, кажущаяся столь прогрессивной пацифистамъ, на самомъ дѣлѣ является – черезъ уподобленіе уголовно-гражданскимъ формамъ – возвратомъ къ давно прошедшимъ временамъ, т. е. не прогрессивной, а реакціонной. На самомъ дѣлѣ понятно, что дѣло идетъ здѣсь не о сколько нибудь полномъ повтореніи былого, а лишь о тяготѣніи въ ту сторону, поскольку оно умѣстимо въ современную измѣнившуюся жизнь, и именно поэтому слѣдуетъ сказать, что мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ возстановленіемъ прошлаго, а лишь съ тенденціей къ нему, не съ возвращеніемъ, а лишь съ тягой къ возвращенію, не съ реставраціей, а именно лишь съ реакціей. И, пожалуй, это тѣмъ хуже.
Та старая давнишняя структура все же по окончаніи войны приводила къ нѣкоему миру, къ строительству и государственной жизни. Ибо, организуя порабощеніе побѣжденнаго побѣдителемъ, она осуществляла включеніе побѣжденнаго въ новое общество, въ новую государственность, созданную побѣдителемъ. Эта новая государственность являлась для побѣжденнаго чрезвычайно тяжелой, оттѣсняя его въ низшіе соціальные слои; но во всякомъ случаѣ для человѣчества вообще, она давала новую почву возможнаго развитія, – новую замиренность. Ничего подобнаго нѣть теперь. Смыслъ мира такой же какъ тогда – организація мирной эксплоатаціи побѣжденнаго въ интересахъ побѣдителя; но формы другія: не превращеніе въ одно государство, а сохраненіе разныхъ государствъ, и эксплоатація однимъ другого. Такимъ образомъ форма ликвидаціи войны болѣе примитивная прилагается (на почвѣ примѣненія гражданскаго принципа къ государственнымъ отношеніямъ) къ структурѣ болѣе поздней – межгосударственной. Примѣняется гражданскоправное отношеніе внѣ объемлющей и ограничивающей государственности, что и приводитъ къ формамъ примитивнаго бытія, какъ гражданскаго, такъ и государственнаго.
Такимъ образомъ мы снова оказались передъ лицомъ глубокой исторической реакціи.
* * *
Мы видѣли, что уголовно-гражданская идея и недостаточна, но вмѣстѣ съ тѣмъ и чрезмѣрна для задачи завершенія войны и возстановленія мирной жизни. Есть ли выходъ изъ этого противорѣчія. Бываетъ ли какой либо цѣлесообразный переходъ отъ войны къ мирному существованію.
Заранѣе можно сказать, что такой переходъ имѣется, долженъ имѣться, ибо онъ вѣдь проявлялся и дѣйствовалъ всякій разъ, что бывали войны и бывало возращеніе къ мирному существованію, т. е. проявлялся и дѣйствовалъ неограниченное число разъ. Если въ данномъ случаѣ онъ оказался устраненнымъ, то потому, что этотъ переходъ строился на необычной для прежнихъ временъ идеѣ, или – что тоже самое – что духовность, опредѣляющая этотъ переходъ, оказалась глубоко отличной отъ обычной духовности возстановленія мира. Мы уже видѣли, въ чемъ она заключается; мы ее ясно усматриваемъ въ уголовно-гражданской внутригосударственной мѣщанской идеѣ возмѣщенія причиненныхъ ущербовъ.
Суть не въ томъ, что объективно безвыходно положеніе}, а въ томъ, что его дѣлаютъ безвыходнымъ, ставъ на эту точку зрѣнія. Суть въ томъ, что гражданская идея обращена назадъ, а не впередъ, на личное состояніе, а не на историческое движеніе, на возстановленіе, а не на творчество. Она исходитъ и ограничивается status quo до послѣдовавшаго нарушенія и ставитъ задачей возстановленіе того положенія; и въ этой ея ограниченности, сосредоточенности на ранѣе пріобрѣтенномъ, на уже нѣкогда добытомъ и достигнутомъ, въ этомъ ея глубинномъ и принципіальномъ консерватизмѣ и заключена та исходная ложь – въ примѣніи жизни народовъ и государствъ – которая съ одной стороны дѣлаетъ невозможнымъ выходъ изъ положенія, а съ другой – приводитъ къ неограниченному послѣдующему его ухудшенію. Гражданскоправная идея по существу своему глубоко консервативна, ибо вообще консервативна функція положительнаго права въ замиренномъ государствѣ; оно законно и основательно охраняетъ уже пріобрѣтенное, оберегаетъ отъ нарушенія, стремится возстановить или вознаградить въ случаѣ нарушенія; оно законно консервативно и охранительно, ибо такова именно его спеціальная функція въ синтезѣ государственности, въ которой о другихъ сторонахъ – о движеніи, творчествѣ, измѣненіи – заботятся другіе факторы, созидающіе новое право, а не оборегающіе уже созданное. Примѣненіе той же идеи къ международному общенію (въ теперешнемъ его состояніи) не только служитъ началомъ консервативнымъ, препятствующимъ движенію и творчеству, но еще и приводитъ къ положенію объективно безвыходному. Ибо существо дѣла по отношенію къ войнѣ (вообще и сугубо столь грандіозной) заключается въ томъ, что возстановленіе невозможно, просто объективно немыслимо возмѣстить и вознаградить нанесенный ущербъ. И потому исходить изъ этой задачи, значитъ биться въ безвыходномъ кругѣ, значитъ въ погонѣ за неисполнимымъ заданіемъ безпредѣльно давить и угнетать, значитъ ломать, не возстановляя, безнадежно продолжая по мирнымъ путямъ дѣло военнаго разрушенія.
Ущербъ войны невозстановимъ. Но въ плоскости не гражданскихъ, а государственныхъ отношеній его возстановлять и не зачѣмъ. Нормально при переходѣ на мирное положеніе и не ставятъ себѣ цѣлью его возстановить. Конечно, побѣдивши, государство можетъ подсчитывать свои убытки и учитывать свои подсчеты въ контрибуціяхъ или аннексіяхъ. Но это лишь нѣкій составной элементъ, а нисколько не основополагающая идея государственной ликвидаціи военныхъ столкновеній. Въ обычной государственной ликвидаціи войнъ государство (сознательно или безсознательно безразлично) смотритъ не назадъ, а впередъ, не на ущербленное прошлое свое состояніе, а на имѣющее быть достигнутымъ въ будущемъ. Государство мыслитъ въ плоскости не нарушенной статики, не нарушеннаго войной состоянія, а въ плоскости динамики своего историческаго бытія; осязаетъ себя не совокупностью болѣе или менѣе пострадавшихъ лицъ, а живущимъ, защищающимся и строющимъ свое будущее коллективомъ. Оно не задается цѣлью сдѣлать войну, какъ бы не бывшей, что невозможно; оно не задается цѣлью добиться того, чтобы всѣ его граждане въ результатѣ какъ бы ничего не потеряли. Въ личной жизни война остается бѣдствіемъ, несчастьемъ и трагедіей, непокрываемой и невозмѣщаемой; іи нѣтъ болѣе обманчивой задачи, какъ задача ее возмѣстить – нотаріальными сдѣлками сдѣлать смерть не бывшей. Государство можетъ, конечно, и должно сдѣлать все возможное для облегченія бѣдствій, для того, чтобы помочь населенію ихъ преодолѣть и забыть. Вѣрнѣе сказать: оно должно озаботиться поставить населеніе въ такое положеніе, въ которомъ оно само могло бы въ общемъ преодолѣть и загладить испытанныя бѣдствія. Но это уже вопросъ не столько международной политики и ея обоснованія, какъ политики внутренне-государственной. Въ международномъ же отношеніи оно озабочено другимъ – своимъ государственнымъ положеніемъ; оно живетъ здѣсь въ особой плоскости сосуществованія съ другими государствами, въ которой разбитыя стекла, разрушенные дома, уничтоженные посѣвы и даже жизнь не имѣютъ рѣшающей значимости. Въ международномъ отношеніи ликвидировать войну удачно и побѣдоносно значитъ установить такое новое положеніе, при которомъ побѣдившее государство – въ составѣ всѣхъ сосуществующихъ съ нимъ – окажется для будущаго болѣе сильнымъ и обезпеченнымъ, болѣе жизненнымъ и способнымъ на послѣдующее соперничество и выживаніе. Оно смотритъ не назадъ, – на нарушенное войной свое состояніе и не на его возстановленіе, а впередъ – на предстоящее свое положеніе въ будущемъ, на увеличеніе своего послѣдующаго строительства. И если оно – въ новомъ составѣ сосуществующихъ государствъ – улучшило абсолютно или хотя бы относительно по сравненію съ побѣжденнымъ свое положеніе, оно и ликвидировало удачно или даже побѣдоносно войну, хотя бы и не подсчитало и не возмѣстило испытанныхъ ущербовъ. Ибо оно не возстановляетъ прошлаго, а подготавливаетъ потенціи будущаго.
Достигается такая ликвидація, разумѣется, различно въ зависимости отъ эпохи, отъ всей конкретной обстановки. Въ разныхъ случаяхъ побѣдитель поступаетъ различно. Онъ отнимаетъ у врага залежи угля, потому что это даетъ ему возможность развить свою промышленность; онъ отнимаетъ у(врага населенную территорію, потому что это усиливаетъ его человѣческій субстратъ и возможность отстоять себя въ исторіи; онъ отнимаетъ морскую полосу, потому что это открываетъ его населенію возможность торговать, ввозить и вывозить продукты, облегчаетъ ему жизнь и производство; онъ устанавливаетъ стратегически выгодныя границы, потому что этимъ обезпечиваетъ спокойствіе населенія и слѣдовательно повышаетъ жизненный тонусъ его существованія, онъ обезпечиваетъ за собой рынки, потому что этимъ содѣйствуетъ развитію родной промышленности; онъ закрѣпляетъ побѣду въ наглядныхъ символахъ, потому что самая побѣда есть подымающее духъ и тѣмъ возбуждающее творчество начало. Словомъ, въ государственной структурѣ побѣда используется, какъ увеличеніе возможностей народнаго творчества, созданіе усовершенствованныхъ условій его жизни, или какъ возрастаніе его обезпеченности, или занятіе выгодныхъ исходныхъ позицій для новыхъ наступленій.
Само собой разумѣется, что этимъ я нисколько не хочу превознести тѣхъ мѣръ, какія примѣрно перечисляю, какъ возможныя формы нормальнаго – и въ этомъ смыслѣ здороваго – государственно-международнаго заключенія мира; и менѣе всего хочу сказать, чтобы всякій подобный миръ былъ цѣлесообразнымъ, къ жизни возвращающимъ выходомъ изъ войны. Конкретное примѣненіе тѣхъ или иныхъ мѣръ, можетъ быть неудачнымъ или и преступнымъ. И наоборотъ при иномъ заключеніи мира обходятся и безъ подобныхъ мѣръ, – но обходятся безъ нихъ, именно исходя изъ того же принципа, который лежитъ въ ихъ основѣ: учета возрастанія государственной мощи, а не учета произведенныхъ разрушеній. Поэтому съ государственной точки зрѣнія естественно считаться не только съ ущербомъ, испытаннымъ побѣдителемъ, но и съ ущербомъ, нанесеннымъ побѣжденному. Для Антанты, для мира на принципѣ репараціи ущербъ, паденіе, умаленіе Германіи и ея союзниковъ вообще въ разсчетъ не принимаются. Если она потерпѣла, то тѣмъ хуже для нея, она же вѣдь и виновата; а вотъ что она при своей виновности причинила – другимъ, это она должна возмѣстить Между тѣмъ для государственно-международной точки зрѣнія то, что побѣжденный претерпѣлъ ущербъ и умаленіе, – уже само по себѣ является существенной статьей мира. Ибо побѣжденный уже фактомъ своей побѣжденности и испытанныхъ ущербовъ настолько умаленъ, что уже этимъ измѣнилась къ выгодѣ побѣдителя міровая коньюнктура: побѣдитель прежде всего, хотя только и частично (а иногда впрочемъ и всецѣло), вознагражденъ уже самой своей побѣдой; миръ только ее закрѣпляетъ и соотвѣтственно обстоятельствамъ въ разныхъ случаяхъ по различному дополняетъ. Такъ, послѣ побѣды надъ Австріей, Бисмаркъ и вообще никакихъ возмѣщеній не потребовалъ, ибо, во первыхъ, побѣда съ ея моральными и государственнополитическими послѣдствіями была уже громадной выгодой, громаднымъ усиленіемъ позиціи Пруссіи, заглаза покрывавшими ея ущербы, а во-вторыхъ, отсутствіе исполнительныхъ исковъ и давленій сугубо усиливало международное положеніе побѣдителя возможностями послѣдующаго союза съ побѣжденными. Съ государственной точки зрѣнія минусы, понесенные побѣжденными, учитываются какъ плюсы побѣдителя; съ уголовно-гражданской репараціонной точки зрѣнія эти минусы побѣжденнаго и вовсе во вниманіе не принимаются.
Можно подумать, что въ смыслѣ измѣненія мірового положенія, а слѣдовательно и выгодныхъ для Антанты сторонъ установленнаго мира, самый фактъ пораженія Германіи, измѣненіе ея строя, уничтоженіе ея союзниковъ и пр. – никаго значенія не имѣетъ, и Антанта требуетъ, какъ ни въ чемъ не бывало, своего фунта репараціоннаго мяса. Не въ томъ только дѣло, что покрытіе нанесеннаго ущерба требуется уже не съ той страны, которая его нанесла, а съ ослабленной и разбитой, а слѣдовательно тѣмъ самымъ уже въ нѣкоторой степени возмѣстившей ущербъ; дѣло въ томъ, что и вообще вниманіе не обращено на то, на что оно единственно должно быть обращено, съ здоровой международно-государственной точки зрѣнія, на обезпеченіе, или подготовку собственнаго творчества, на будущую облегченную активность собственнаго народа, какъ это бываетъ въ мирѣ государственномъ, въ мирѣ прогрессивномъ, въ мирѣ, служащемъ переходомъ къ новому строительству жизни.
Даже и въ первобытной формѣ побѣды, которою побѣжденный включался въ единую организацію съ побѣдителемъ – эта объемлющая организація и слѣдовательно побѣдитель, какъ ея руководитель, получалъ новыя возможности дѣйствія и развитія. Антанта же возлагаетъ свое будущее не на активность своихъ народовъ, а на вынуждаемую активность побѣжденнаго: онъ долженъ воспостроить разрушенное, возмѣстить за корову коровою, за домъ домомъ, за мебель мебелью. Глядя не впередъ, а назадъ, она строитъ не рамки болѣе широкой жизни, а возстанавливаетъ цѣнности утеряннаго прошлаго.
Но разумѣется, какъ уже было указано, на такой точкѣ зрѣнія удержаться невозможно, и подъ принципіальнымъ прикрытіемъ мира гражданскихъ возмѣщеній оказались проводимыми всевозможныя мѣры и обычной системы мира государственно-побѣднаго. Но, во первыхъ, этимъ не мѣняется характеристика духовности побѣдителей, этимъ не отмѣняются губительныя въ своей обращенности назадъ, въ своей безмѣрности и неучитываніи ущерба побѣжденнаго – послѣдствія мира, основаннаго на гражданской идеѣ. Этимъ только усугубляются разрушительныя особенности каждой системы. Такимъ образомъ, если ликвидація войны на уголовно-гражданскомъ принципѣ, преувеличивая невыносимость мира для побѣжденнаго, оставляетъ его и неудовлетворяющимъ побѣдителя, то ликвидація государственная, учитывающая ущербы побѣжденнаго и измѣненіе міровыхъ соотношеній, способна согласовать расцвѣтъ побѣдителя съ сохраненіемъ существованія и поверженной стороны.
Такъ проводится политика глубоко регрессивная подъ флагомъ прогрессивности, несправедливая подъ флагомъ справедливости, антигуманная подъ флагомъ культуры.’ Такъ организуется повоенное разрушеніе Европы, свидѣтелями котораго мы являемся и которое отнюдь не вытекаетъ еще само собой изъ фактовъ великой войны, а въ значительной степени – изъ того примѣненія чуждыхъ государственности принциповъ, которые изъ мира дѣлаютъ орудіе сугубаго, не менѣе значительнаго, чѣмъ была самая война, уничтоженія.
ЗАКЛЮЧЕНІЕ. МѢЩАНСТВО ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Въ основѣ разрушительной идейности военнаго и повоеннаго времени лежала духовность того массоваго человѣка, къ помощи котораго обратилась въ неповторимомъ военномъ напряженіи власть, которую она всячески разъяряла, чтобы удержать на уровнѣ неизмѣримыхъ усилій; тяга къ ней опредѣлилась политико-демократической структурой современнаго общества, а въ особенности странъ Антанты. Рѣшающимъ массовымъ человѣкомъ, рѣшающимъ уже по численности, но вдобавокъ и по соціальному и духовному вѣсу въ этихъ странахъ, по своей связанности и отраженности во всевозможныхъ классахъ и состояніяхъ, былъ – широко говоря – мѣщанинъ. То была духовность крестьянина, обносящаго свой участокъ частоколомъ и заводящаго тяжбу за потраву; духовность лавочника, подсчитывающаго убытки отъ неправильнаго дѣйствія контрагента, духовность рантье, положившагося на то, что онъ уже обезпечилъ прошлымъ трудомъ свое будущее благосостояніе, и который въ покушеніи на свой отложенный капиталъ усматриваетъ величайшее преступленіе, а въ его возстановленіи – а при случаѣ и округленіи – верховную свою задачу. То была духовность мѣщанина:, перенесенная на государственность.
Мѣщанство бываетъ различнымъ; здѣсь преобладала духовность мѣщанства успокоеннаго, осѣвшаго и зрѣлаго (столь соотвѣтствующая зрѣлости западно-европейскаго общества) и потому именно взглядъ его былъ устремленъ назадъ, а не впередъ, на возстановленіе нарушеннаго, а не на созиданіе лучшаго. Если-же и германскую духовность подводить подъ подобнаго рода формулу, то ее слѣдуетъ признать скорѣе психикой буржуа пріобрѣтателя, купца, выходящаго въ плаваніе, рискующаго своимъ имуществомъ, чтобы его пріумножить, предпринимающаго грандіозныя операціи, зачинающаго новыя сдѣлки. Здѣсь пріобрѣтатель стоитъ противъ пріобрѣвшаго, предприниматель противъ рантье, рискующій грюндеръ противъ застраховавшаго свою исторію обывателя. Строитель будущаго стоялъ противъ оберегателя прошлаго и творчество было противъ охраненія.
Въ странахъ демократическаго запада мѣщанинъ, пожалуй, и вообще опредѣляетъ государственность; но во первыхъ, только на ряду съ другими силами, во вторыхъ – онъ ее опредѣляетъ косвенно черезъ сложный аппаратъ, въ идеѣ своей и приспособленный къ претворенію частной воли въ государственное дѣяніе. Здѣсь же неоткладываемая острота времени ослабила средостѣніе. Хотя во время войны государственная зависимость власти отъ народа и была умалена, но духовная связанность должна была возрасти; и именно за выключеніемъ или ослабленіемъ дѣйствія промежуточнаго государственнаго аппарата, они должны были связаться непосредственнѣе. И потому мѣщанская духовность непосредственнѣе, болѣе по содержанію, опредѣлила чисто государственную дѣятельность и отношенія. Необходимая въ современномъ обществѣ дифференціація группъ, функцій и психикъ стушевалась, и въ государственно международномъ общеніи глубже опредѣлилась идейность мѣщанина, какъ она выработалась въ частно-хозяйственномъ его бытіи.
Уже самъ по себѣ негоденъ переносъ одной духовности въ чуждую ей область. Но еще хуже было то, что не только мѣщанство опредѣлило государственность, но что мирное мѣщанство опредѣлило военную государственность. Здѣсь переносъ произошелъ не только изъ одной области въ другую – одного и того же соціальнаго тѣла; здѣсь переносъ произошелъ отъ одного состоянія этого тѣла на другое: отношенія твердаго тѣла были примѣнены къ нему въ газообразномъ его состояніи. Помѣстите газъ въ сосудъ, предназначенный для жидкости, – онъ улетучится; налейте жидкость на подставку для твердаго тѣла – она разольется. Но принципы мирнаго частно-хозяйственнаго мѣщанства были примѣнены къ состоянію и послѣдствіямъ вооруженной государственной борьбы, и государства подверглись разрушительнымъ воздѣйствіямъ не одной войны, но и этого примѣненія.
Это примѣненіе казалось чрезвычайно идеальнымъ; оно въ идеѣ исключало самое состояніе войны, физическаго разрушенія и насилія; оно въ идеѣ замѣняло ихъ принципами добраго мира, и замѣняло отношенія враждебнаго подавленія отношеніемъ мирнаго возмѣщенія. Но бѣда въ томъ, что оно это дѣлало – и только и могло дѣлать – въ идеѣ. Замѣнить войну миромъ – дѣло прекрасное, но, сохраняя войну, руководиться примѣнительно къ ней принципами мира, поступать такъ, какъ если бы былъ миръ, дѣло зловредное, ибо это прежде всего означаетъ – поступать внѣ соотвѣтствія съ дѣйствительностью; а поступать въ дѣйствительности внѣ соотвѣтствія съ ней, значитъ – либо себя, либо ее разрушать, и во всякомъ случаѣ производить хаосъ. Конечно, это разрушеніе могло бы постигнуть разрушающаго, дѣйствующаго по мирному въ военной борьбѣ. Но дѣло въ томъ, что самая то дѣятельность у всѣхъ была одинаковой – военной и только окутывалась и прикрывалась мирной идейностью. Отсюда ея примѣненіе, приводя къ духовному укрывательству со всѣми его послѣдствіями, вело къ усугубленію разрушительности, частью всеобщей, но преимущественно – направленной на того, кто оказался слабѣйшимъ.
Худо и разрушительно поступать въ одной средѣ такъ, какъ если бы она уже была другой; но когда при этомъ попутно въ нее уже и вносятъ элементы, которые могли бы имѣть смыслъ только въ той другой средѣ, дѣло становится еще хуже. Такъ, если въ безгосударственной средѣ вы прибѣгнете къ суду – получится подлогъ суда и освященіе насилія; если вы въ ней устроите суррогатъ представительства, получится облыжное представительство и закрѣпленіе односторонняго господства. Дѣятельность должна соотвѣтствовать обстановкѣ своего приложенія для того, чтобы достигать поставленной задачи. Гуманность государствомъ осуществляется только государственнымъ путемъ; смягченіе военныхъ бѣдствій можно достигать только приспособляясь и учитывая военную обстановку; улучшенія быта людей можно добиваться только путями, открываемыми этимъ бытомъ. Быть можетъ возможно создать нѣкоторый уютъ въ ночлежкѣ, но во всякомъ случаѣ только при условіи, что не будутъ въ ней располагаться какъ въ пышномъ дворцѣ. Быть можетъ, и можно смягчить разошедшіяся страсти, но только не поступками и словами, разсчитанными на святыхъ. Соотвѣтствіе дѣйствительности – реализмъ средствъ – первое условіе воздѣйствія на нее. Формы мира на войнѣ, внутригосударственныя въ межгосударственныхъ отношеніяхъ, пути ликвидаціи частнаго спора въ примѣненіи къ устройству враждующихъ государствъ, мѣщанство въ государственности – все это, внося смятеніе, не достигаетъ и искажаетъ поставленную цѣль.
Но всего хуже – мнимо надставляя надъ сущимъ желательное, идеальное, – приспособляться къ предполагаемо-идеальному въ своемъ воздѣйствіи на подлинно сущее. Если такъ поступаетъ дѣйствительно преданный идеалу, то это еще съ полъбѣды; ибо хотя, не достигнувъ цѣли, онъ только разобьетъ себѣ голову, но этимъ можетъ даже дать вдохновляющій и возвышающій образецъ преданности убѣжденіямъ, хотя бы и ослѣпленнымъ. Безполезное или вредное по отношенію къ поставленной цѣли, такое дѣяніе можетъ имѣть свою цѣнность въ другой плоскости. Но когда внѣреальность цѣли не снимаетъ весьма реальнаго самоутвержденія того, кто ее преслѣдуетъ, потому ли что она служитъ ему лишь прикрытіемъ, потому ли что даже служитъ дополненіемъ къ вполнѣ реальной задачѣ, потому ли что просто служитъ самоублаженію, – тогда не бываетъ послѣдствій гибельнѣе объективно и субъективно разрушительнѣе.
Ирреализмъ несоотносительныхъ съ дѣйствительностью требованій разрушаетъ ее поскольку на нее воздѣйствуетъ. Онъ не опасенъ, пока остается безсильнымъ, пока онъ лишь словесно вѣетъ около незыблемыхъ громадъ дѣйствительности. Но если въ силу своеобразнаго сочетанія условій – онъ ее начинаетъ претворять, то происходитъ не то, что обыкновенно отъ этого ожидается: происходитъ не продвиженіе дѣйствительности по направленію къ максималистической цѣли. Происходитъ другое. Дѣйствительность, претворяемая согласно нереальному заданію, какъ таковая разрушается: но такъ какъ нереальное заданіе остается неосуществленнымъ, то и остается лишь – разрушенная дѣйствительность. Этимъ дѣло не ограничивается; діалектика разрушенія влечетъ дальше. Если дѣйствительность подъ давленіемъ, или хотя бы въ соотвѣтствіи съ ирреальностью подверглась разрушенію, это значитъ, что въ ней уже была нѣкая слабость, нѣкій разъѣдающій процессъ пониженія или упадка, ибо иначе она ирреализма не допустила бы до воздѣйствія на себя. Подвергшись разрушенію въ своемъ максималистическомъ устремленіи, она сугубо оказывается безъ силы сопротивленія противъ своихъ внутреннихъ болѣзней и слабостей, и въ разрушенномъ организмѣ онѣ разворачиваются съ возрастающей побѣдностью. И потому подорванная своимъ нереалистическимъ устремленіемъ дѣйствительность не возвращается въ свое прежнее состояніе, а спадаетъ на болѣе низкое, летя ли стремглавъ въ пропасть, или задерживаясь на нѣкоторомъ болѣе низкомъ уровнѣ – въ зависимости отъ условій и обстоятельствъ. Вотъ откуда сугубая разрушительность максималистической идейности, когда она получаетъ шансы воплощенія: она не только себя не осуществляетъ, она отбрасываетъ дѣйствительность на болѣе низкую ступень. Наше поколѣніе пережило два подобныхъ процесса, глубоко различныхъ по дѣйствовавшимъ силамъ, вѣроятно, и по послѣдствіямъ, но аналогичныхъ въ этой особенности – русскую великую смуту и европейскую великую войну. Послужатъ ли эти два великихъ паденія излѣченію человѣчества отъ максималистической напасти – въ этомъ, конечно, позволительно не чувствовать увѣренности. Но было бы недостойно и непростительно, если бы они по крайней мѣрѣ не усилили выработки въ современникахъ новыхъ духовныхъ противоядій.
Конечно, на первый взглядъ странной кажется необходимость для старой Европы заново учиться реализму, проникаясь сознаніемъ зловредности общественной фантастики; но въ томъ то и дѣло, что Европа и старая, но въ нѣкоторомъ смыслѣ и весьма юная, въ частности тѣмъ, что неискушенныя подошли къ распорядительству ея судьбами массы – я говорю не только о народныхъ, но и объ общественныхъ массахъ – со всѣми слабостями числа и со всѣми опасностями неискушенности. Имъ подчинились въ безсознательномъ приноровлены или въ сознательномъ приспособленіи и духовные и политическіе распорядители культурнаго и соціальнаго наслѣдства. И обреченными гибели окажутся и это юное общество, и его старая культура, если не пробьются къ зрѣлости руководящія имъ массы и ими руководимые вожди.
Мы, пережившіе и перестрадавшіе оба великихъ крушенія, – способны изнутри понять и оцѣнить происшедшее, какъ это извнѣ уже не удастся другимъ. И нашъ долгъ – закрѣпить пережитое и познанное въ ясныхъ мысляхъ, въ кованыхъ оцѣнкахъ и въ образахъ непреходящихъ.