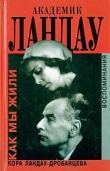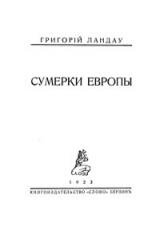
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
На этой почвѣ становится возможнымъ неизмѣримо грандіозный изобрѣтательскій процессъ, не имѣющій равныхъ въ исторіи. Можно вульгарно сказать, что строительство претъ изо всѣхъ щелей, изъ безчисленнаго количества самостоятельныхъ точекъ, – повторно, аналогично, дополнительно сплетаясь, взаимно подхлестывая, создавая почву для геніальныхъ интуицій и немедленно облѣпляя ихъ тучей поправокъ и дополненій.
* * *
Однако, не одно интеллектуально-строительное, но и творчество моральное – получило силу и напряженность небывалую. На первый взглядъ это можетъ показаться неправдоподобнымъ: моральный моментъ въ нашей культурѣ міровыхъ городовъ кажется отступающимъ на далекій планъ.
Тѣ, кто такъ думалъ, были вѣроятно чрезвычайно поражены проявленнымъ на войнѣ героизмомъ; подвиги войны оказались какъ бы съ неба свалившимися въ мѣщанскій вѣкъ преслѣдованія корыстныхъ интересовъ и задачъ жизненнаго удобства. Обыватель изъ за станка, прилавка и конторы – и вдругъ герой въ траншеяхъ или въ облакахъ. Какъ это случилось?
Это случилось потому, что напряженная мораль была заложена въ мирной ново-европейской культурѣ такъ же, какъ въ ней были заложены силы анализа и синтеза, постиженія и изобрѣтательности.
Всмотримся въ общую картину культуры, даже въ ея матеріальномъ, техническомъ, наружномъ, – именно въ томъ, что представляется столь внѣшнимъ и поверхностнымъ. Прислушаемся къ могучей пульсаціи созиданія, къ уточненію, утонченію, возрастанію и сліянію безчисленныхъ усилій въ объемлющую гармонію. Тотъ духъ производящаго творчества, который въ этомъ проявляется – о немъ уже было сказано, его нетрудно усмотрѣть. Но трудно ли усмотрѣть тотъ духъ зоркаго самообладанія, отвѣтственнаго контроля, исполнительскаго долга, которымъ однимъ жива подобная культура. Машины не движутся сами собой, туннели и каналы не сами собой соединяютъ противоположные склоны хребтовъ или сосѣднія моря, и сами собой не движутся тончайшіе механизмы сложнѣйшихъ аппаратовъ. Само собой все только разрушается. Въ чрезвычайно наглядныхъ по своей упрощенности и доступности проявленіяхъ – отнюдь не на тончайшихъ механизмахъ современности, а на весьма грубыхъ и мало дифференцированныхъ – этотъ процессъ прошелъ на нашихъ глазахъ съ потрясающей силой въ большевистской Россіи, да проходитъ и въ другихъ странахъ упадка – хотя и въ ослабленныхъ тонахъ. Само собой все только разрушается: обваливаются дома, ржавѣютъ машины, зарастаетъ плевелами земля. Общая деградація – таковъ законъ матеріальной культуры, предоставленной самой себѣ. И чѣмъ выше она и тоньше, тѣмъ быстрѣе и страшнѣе деградація. Жизнь техники есть жизнь вѣчно бодрствующаго за нею духа, непрерывно слѣдящаго, осуществляющаго, провѣряющаго, возстанавливающаго. И когда матеріальная техника въ такой мѣрѣ, какъ это имѣетъ мѣсто въ современности, легла въ основу всей жизни, стала предпосылкой простѣйшихъ и сложнѣйшихъ ея движеній, это только означаетъ, что въ основѣ ихъ лежитъ человѣческій духъ. Въ былые вѣка человѣчество жило въ природѣ, къ ней приспособляясь, на ея почвѣ возводя постройку своего бытія; въ современности оно эту постройку возводитъ на основѣ собственнаго духа – Прометей съ неба заимствовалъ согрѣвающій жизнь огонь, Атлантъ на своихъ плечахъ выдерживаетъ земной шаръ. Дрогнетъ напряженіе и вниманіе – и обрушится шаръ, а съ нимъ человѣчество. Непрерывное напряженіе, непрерывное вниманіе – въ безднѣ точекъ, въ безчисленномъ количествѣ дѣлъ, въ непрекращающемся теченіи времени. Все держится со всѣмъ, все предполагаетъ всѣхъ. Монтеръ на водопроводной станціи, стрѣлочники и инженеръ, расчитывающій крѣпость сводовъ въ туннелѣ, рабочіе въ копяхъ, – каждый винтикъ долженъ дѣйствовать точно, чтобы удержалось цѣлое.
Это вопросъ уже не познанія, это вопросъ воли и морали. Не было эпохи, гдѣ бы въ большей степени была разлита напряженнѣйшая потребность въ отвѣтственности. Машинистъ на паровозѣ, шофферъ на автомобилѣ, летчикъ на аэропланѣ – отъ неловкаго движенія каждаго, отъ ослабленія духовной зоркости зависитъ жизнь ихъ и другихъ людей. Инженеры, мастера, рабочіе, отъ соблюденія ими долга и нерѣдко отъ соблюденія жертвеннаго – зависитъ здоровье, блага личныя и общія. Вся работа безчисленнаго множества людей– отъ толпъ самыхъ скромныхъ и незамѣтныхъ до выдающихся вершинъ – пронизана однимъ: неотъемлемостью исполненія долга и довѣріемъ въ то, что его исполнятъ и другіе. Безъ такого довѣрія въ другихъ, въ человѣка – нельзя было бы ни разу спуститься въ копи, сѣсть въ вагонъ желѣзной дороги, пустить въ ходъ ротаціонную машину.
Это не вопросъ сознательнаго расчета, прописной морали, которой бы обучали въ школахъ, или которую внушали бы исповѣдники. Нѣтъ учебниковъ этой морали и нѣтъ ея катехизиса. Но есть мощь, которая глубже ее внѣдряетъ, чѣмъ проповѣдь и поученіе, – самый жизненный процессъ. Это, разумѣется, не значитъ, чтобы всѣ машинисты и шофферы непремѣнно были высоконравственными людьми, или всѣ рабочіе были преисполнены довѣрія въ человѣческую совѣсть. Отдѣльные люди порознь бываютъ какъ угодно грѣховны и преступны: но процессъ жизни выковываетъ и внѣдряетъ въ общую духовность времени – непреложныя формы отвѣтственности и долга, довѣрія и солидарности. Они разлиты всюду, они дѣйствуютъ въ безднахъ случаевъ, въ толпахъ людей. Не такъ, что каждый изъ этихъ людей всегда нравствененъ, а такъ, что въ каждомъ изъ нихъ нравственность, хотя и не всепобѣждающая, но могучая и непрерывно дѣйствующая сила. Ибо безъ величайшаго ея напряженія не было бы ни на минуту возможной такая – подобная современной – такъ называемая внѣшняя техническая культура.
Нравственность бываетъ различныхъ типовъ; разныя сочетанія свойствъ могутъ въ разныхъ случаяхъ придавать ей и различную окраску и содержаніе. Мораль современной эпохи – это именно мораль неуклоннаго долга (въ началѣ ея стоитъ Кантъ), обостренной отвѣтственности, довѣрія и солидарности.
И пустъ не думаютъ, что здѣсь рѣчь идетъ не о нравственности, а о чемъ то механическомъ, рефлекторномъ, о тренировкѣ нервовъ, а не о дисциплинѣ духа. Пусть процессъ воспитанія идетъ именно черезъ тренировку нервовъ и мускуловъ, а не черезъ словесныя постиженія. Нервами, жизнью, дѣйствіями дисциплинируется духъ и, если бы изъ нихъ не вырастала дисциплина духа, онъ не устоялъ бы передъ задачей.
Эта дисциплина выращивается въ глубинахъ безсознательнаго, но было бы неосмысленно думать, что она не пронизываетъ собой и сознанія. Было бы непониманіемъ души человѣческой не чуять, какъ сознаніе отвѣтственности, твердая рѣшимость довершать свое дѣло бьются въ сердцахъ шахтеровъ и рулевыхъ, строителей и летчиковъ, – не только въ тѣ минуты, когда внѣшнія угрозы дѣлаютъ ихъ явными; не только тогда, когда въ шахтѣ уже произошелъ взрывъ или корабль уже получилъ пробоину, или воздушному аппарату грозитъ поломка. Здѣсь обычный душевный строй только обостряется, доходя до сознанія и становясь виднымъ на разстояніе; но онъ существуетъ и всегда, во всѣ безчисленныя минуты обыденной работы; онъ поддерживаетъ жизнь, онъ наполняетъ свѣтомъ унывшую душу, онъ крѣпитъ сердце на незамѣтный подвигъ и незавершающееся напряженіе. И кто знаетъ, сколько возвышенныхъ чувствъ и высокихъ думъ вызываетъ онъ – можетъ быть, не всегда и не у всѣхъ расчлененно осознанно – въ темнотѣ грозящихъ подземелій, у зѣва раскаленной печи, за чертежнымъ столомъ; какія рѣшимости зрѣютъ въ трилліонахъ незамѣтныхъ переживаній, какая увѣренность растетъ въ себя и въ свое дѣло. И когда разразившаяся; война поразила несказаннымъ героизмомъ мобилизованнаго статскаго «человѣка отъ конторки и прилавка» – не всѣ поняли, что это только нашелъ новое поприще приложенія исконный героизмъ эпохи. Въ траншеяхъ и сраженіяхъ сказалась твердая поступь мирной героической эпохи; подвиги великой войны – съ ихъ выдержкой и дерзновеніемъ – были подготовлены на аэродромахъ и въ шахтахъ, на ристалищахъ и въ конторахъ ново-европейской культуры; это она героически умирала такъ же, какъ раньше героически жила.
* * *
Героическая геніальность – это слово Роменъ Роллана о Бетховенѣ – можетъ быть справедливо примѣнено къ характеристикѣ минувшей эпохи: моральный героизмъ и интеллектуальная геніальность, волевое устремленіе и умственное строительство. Не достигали вершины эмоціональная жизнь, художественная интуиція, религіозные запросы. Искусство догорало отъ прежнихъ эпохъ, проходя стадію упадка, и оформленіе новыхъ переживаемыхъ содержаній еще не находило наглядныхъ основополагающихъ воплощеній. Можетъ быть, въ красотѣ динамическихъ структуръ (пароходовъ, аппаратовъ, машинъ) – въ отличіе отъ красоты статической архитектоники другихъ эпохъ – назрѣвали новыя художественныя интуиціи. Можетъ быть, изъ чистыхъ движеній человѣческаго тѣла – изъ балета – въ отличіе отъ неподвижной лѣпки былыхъ эпохъ, шли истоки новыхъ художественныхъ прозрѣній. Можетъ быть, и дѣйствительно искусство, опирающееся какъ и философія на цѣлостное оформленіе – но въ отличіе отъ философіи на цѣлостное оформленіе не тотальности, а отдѣльнаго ея отрѣзка – было менѣе въ духѣ эпохи, уже исчерпавъ въ блистательномъ музыкальномъ развитіи идеи структурности и волевого напряженія. Какъ бы то ни было, не религія, не искусства, а мораль и строительство въ первую голову окрашивали въ свои цвѣта ново-европейскую эпоху. Это, конечно, не значитъ, что она была въ живыхъ поступкахъ живыхъ людей моральнѣе другихъ; но это значитъ, что въ ея осуществленіи заложено было безконечно больше моральнаго пафоса и напряженія. Сколько угодно грѣховъ и преступленій были въ ней совершаемы, пусть даже больше, чѣмъ въ иныя прошлыя эпохи. Но этическая характеристика – въ отличіе отъ оцѣнки – не опредѣляется суммарными результатами. Для того, чтобы признать человѣка нравственнымъ надо таковымъ признать все его поведеніе; но признать въ немъ силу нравственныхъ мотивовъ можно, усмотрѣвъ степень проявленія ихъ въ его поведеніи – независи-мо отъ ихъ конечнаго и исчерпывающаго торжества. Ново-европейское человѣчество также, какъ и всякое другое, грѣшило безконечно и безпросвѣтно. Но оно грѣшило на такомъ уровнѣ моральнаго напряженія, который далеко возвышается надъ другими эпохами. Оно грѣховно падало на этомъ моральномъ уровнѣ, но оно падало на высотѣ, едва ли доступной другимъ.
Разумѣется, въ этомъ разсужденіи я разсматриваю мораль психо-соціально, а не нормативно, какъ соціальную функцію, а не какъ императивъ. Во второмъ самодовлѣющемъ смыслѣ едва ли бываетъ различіе между эпохами и во всякомъ случаѣ такое различіе, быть можетъ, и не въ пользу нашего времени, ибо при исключительности его требованій и нарушенія должны быть особенно частыми и глубокими. Но самая эта исключительность и даетъ нужную мнѣ характеристику. Люди нашего времени не выдерживали его требованій – пусть даже меньше чѣмъ люди другихъ эпохъ; но требованія эти превышали требованія другихъ культуръ.
Такова эта мнимо-матеріалистическая, мнимо безыдейная культура, будто погрязшая въ корыстныхъ интересахъ и во внѣшне поверхностной жизни. Таковой по замѣчательному недоразумѣнію сочли эпоху исключительной героической геніальности, творчества и морали, самоупоенія духовной мощью и отваги безогляднаго строительства.
2. ИДЕОЛОГІЯ ПРАВДЫ
Есть и еще одна существенная сторона этой эпохи, которую необходимо хотя бы вкратцѣ отмѣтить. Я имѣю въ виду ея гуманизмъ. Исторически онъ можетъ быть прослѣженъ къ возрожденію, реформаціи, революціи; но систематически онъ связанъ непосредственно съ міросозерцаніемъ ново-европейской культуры, и эту систематическую связь здѣсь и надлежитъ сжато установить.
Двѣ черты ново-европейскаго комплекснаго міропостроенія имѣютъ въ этомъ отношеніи рѣшающее значеніе. Съ одной стороны его глубинный реализмъ, и съ другой отсутствіе образа тотальности и слѣдовательно ослабленность религіознаго момента. Пафосъ духа обращенъ не на цѣлое, обращенъ на реальное, на реальную дробность; въ ней есте-ственно первое, исключительное мѣсто занимаетъ человѣкъ. Если тотальность не воспринимается въ качествѣ живого единства, къ которому можетъ быть и должна быть соотнесена человѣческая судьба, то эта судьба остается независимой и самодовлѣющей; и будучи разсматриваема въ реалистическомъ свѣтѣ комплекснаго міропостроенія, остается судьбой земной, выдвигаетъ задачу земного ея устроенія.
Сообразно тому же комплексному мотиву, выдѣляющему предѣльный элементъ, какъ подлинную реальность – изъ человѣчества, изъ его коллективовъ естественно былъ выдвинутъ въ качествѣ подлинной реальности ихъ предѣльный элементъ, а именно человѣческая личность. Она оказалась носителемъ бытія и задачъ; коллективы, человѣчество, какъ и все другое, стало въ свѣтѣ комплекснаго мотива лишь производнымъ отъ нея, лишь комплексомъ личностей; а такъ какъ эти комплексы являются тоже своего рода реальностями, то съ особой силой и сознательностью была поставлена задача организаціи личностей въ коллективы. Задача выдѣленія и освобожденія личности, и организація освобожденныхъ личностей – явились специфическими, сознательно поставленными цѣлями ново-европейской культуры.
Самоутвержденіе личности шло не только изъ этого источника. Выше было отмѣчено, съ какой настоятельностью это сознаніе вырастало изъ существа комплекснаго міропостроенія, въ которомъ человѣкъ оказывался не букашкой въ неизмѣримой природѣ, не винтикомъ въ грандіозномъ механизмѣ, не предопредѣленной въ тотальномъ единствѣ песчинкой, а самостоятельнымъ строителемъ второй природы, претворяющимъ ее изъ независимой точки своего сознанія и активности. Изъ этого строительства, изъ волевого самоутвержденія, изъ построенія на самостоятельно провѣренныхъ предпосылкахъ – т. е. изъ техники, категорической морали и гносеологіи – съ большей силой опредѣлилось человѣческое самоутвержденіе, нежели изъ образа эллинской калокагатіи, или иныхъ историческихъ отраженій.
Такъ сталъ человѣкъ задачей, опорной точкой и строителемъ; такъ открывались передъ нимъ неограниченныя дали. Но вмѣстѣ съ тѣмъ – какъ и въ другихъ случаяхъ – ставшее самодовлѣющимъ индивидуалистическое устремленіе въ своемъ продолженіи перешло на путь разрушенія. Личность, неудерживаемая въ качествѣ неразложимаго предѣльнаго единства, подверглась психологистическому разложенію на составные элементы. Отсюда развалъ импрессіонизма въ раз-ныхъ его разновидностяхъ, въ частности въ томъ декадансѣ конца вѣка, который въ плоскости субъективно-гуманистической приблизительно совпалъ во времени съ объективно техническимъ расцвѣтомъ ново-европейской эпохи и заслонилъ его отъ общаго вниманія привычностью своего литературно отраженнаго выраженія.
Выше было отмѣчено, что сила и успѣшность массоваго техническаго строительства опиралась на объективный характеръ его заданія и предмета; но въ своемъ гуманистическомъ устремленіи комплексный мотивъ приходилъ въ утвержденіи личности къ подчеркнутому утвержденію субъективности; и такъ какъ эта субъективность была связана съ культурными воспоминаніями, съ литературной традиціей, съ исторически данной словесностью, съ правовой идеей и риторикой, со всѣмъ аппаратомъ интеллигентскаго сознанія, то въ этомъ сознаніи онъ и выдвинулся на первое мѣсто, заслонивъ собою глубинный процессъ объективнаго строительства. Отсюда въ концѣ прошлаго вѣка на поверхности приходилъ къ саморазвалу литературно-артистическій интеллигентскій субъективизмъ, вводя въ заблужденіе представленіемъ общаго упадка; между тѣмъ, какъ на дѣлѣ подальше отъ литературныхъ кружковъ и внимающей имъ газетно-книжной публики проходилъ съ неизмѣримой силой внутренній безмѣрно могучій объективно-строительный процессъ. Впрочемъ, безспорно онъ уже пробивался и наружу и отметалъ накипь гуманистически литературнаго разложенія отраженіями своего объективнаго строительства.
Но и въ другомъ разрѣзѣ гуманистическое развертываніе приходило къ тяжелымъ внутреннимъ противорѣчіямъ. Комплексный мотивъ, выдѣляя личности, какъ предѣльные элементы, ставилъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ одинаковой силой и задачу ихъ организаціи. Личность, какъ предѣльный элементъ и въ этомъ смыслѣ какъ подлинная реальность – такова идея; но эта же личность – и строитель міра, и субъектъ идеи, носитель и воплотитель ея. Отсюда самоцѣнность личности получаетъ въ ея собственномъ сознаніи непреоборимую силу. И такъ какъ личности являются составными частями общества, на нихъ распадающагося, то это не нѣкая личность, общественнымъ цѣлымъ предопредѣляемая, а всякая личность, какъ равноправно составляющая предѣльную часть общества. Отсюда – задача воспостроить общество, какъ организацію равнозначныхъ, равноправныхъ личностей – задача демократіи. Но организація есть іерархія, есть власть и подчиненіе, есть отказъ отъ самодовлѣнія – отсюда неизбѣжный конфликтъ личности и общества. Этотъ конфликтъ въ такой напряженности вовсе необязателенъ во всякой культурѣ. Ибо тамъ, гдѣ человѣкъ исходитъ изъ мотивовъ, утверждающихъ объективность и реальность цѣлаго, тамъ личность съ самаго начала чувствуетъ себя умѣщенной въ это цѣлое и имъ предопредѣленной въ своемъ назначеніи, въ своихъ правахъ. Противъ цѣлаго она не выдвигаетъ притязаній своей абсолютной объективности, своего объективнаго самодовлѣнія. Здѣсь же это притязаніе является исходнымъ; а между тѣмъ задача организаціи тѣмъ настойчивѣе, чѣмъ сложнѣе совмѣстная жизнь и культура.
Суть не только въ томъ, что растутъ и крѣпнутъ всевозможныя организаціи во главѣ съ государствомъ; суть въ томъ, что онѣ растутъ и крѣпнутъ, будучи ощущаемы производными отъ личности. Каждая носитъ въ себѣ то противорѣчіе или во всякомъ случаѣ возможность противорѣчія, что она строится, какъ организація (и слѣдовательно на подчиненіи) независимыхъ, самодовлѣющихъ единицъ. Отсюда проистекаетъ непрерывная борьба организацій и массъ и внутренняя борьба личности и организаціи. И такъ какъ въ основѣ построенія лежитъ партикуляризмъ комплекснаго мотива, и такъ какъ отдѣльныя части общества – въ силу общаго волевого устремленія – сверхнапряжены, то отсюда и проистекаетъ непрерывная опасность для цѣлаго.
Объективно-техническое строительство въ своемъ бѣгѣ къ сверхнормальному осуществленію было еще далеко отъ угрозъ внутренняго распада (хотя въ будущемъ и таковая могла вырисоваться, хотя бы въ видѣ изсяканія матеріаловъ, потребныхъ для строительства второй природы, напр., нефти, угля и пр.); въ субъективно гуманистической же сферѣ такая угроза уже назрѣвала десятилѣтіями, обостряясь (какъ отмѣчено было выше) переносомъ на соціальную область – максимализма, самоупоенія и самоутвержденія, выращенныхъ въ области объективно-строительной. И именно на гуманитарной соціальной почвѣ, какъ на мѣстѣ наименьшаго сопротивленія и наибольшей обостренности – и разразился развалъ.
* * *
Тѣмъ не менѣе надо сказать, что въ общемъ до войны шелъ процессъ вытѣсненія явленій распада гуманитарной области, процессомъ самоувѣренно крѣпнущаго строительства въ области объективной. Упадочныя явленія отраженной литературно словесной культуры уступали мѣсто назрѣвающей бодрости объективно техническаго строительства. Пожалуй, девяностые годы были въ этомъ отношеніи годами кризиса. Художественно-культурное въ широкомъ смыслѣ слова упадочничество не только просто кончалось само собой, но изъ гущи жизни стали выкристаллизовываться новые жизненные и духовные образы, конгеніальные технической культурѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ стала отступать и традиція гуманистически-отраженной словесной юридической образованности изъ своего послѣдняго могучаго оплота – изъ воспитанія подростающихъ поколѣній. На мѣсто ритора сталъ выдѣляться строитель.
Трудно учесть послѣдствія этого переворота, замѣны слова дѣйствіемъ въ воспитаніи и традиціи. Ибо отличіе ихъ заключается въ томъ, что слово не однозначно связано съ реальностью, дѣйствіе же – однозначно, другими словами, слово (и вся система, на немъ непосредственно основанная – литература во всѣхъ ея разновидностяхъ, идеологія и пр.) можетъ соотвѣтствовать дѣйствительности и можетъ ей не соотвѣтствовать, можетъ быть и правдивымъ и лживымъ. Дѣйствіе – лживымъ быть не можетъ, ибо тогда его незачѣмъ и осуществлять. Слово сохраняетъ смыслъ, оказываетъ воздѣйствіе – напримѣръ на надежды, на эмоціи, на страхъ и вожделѣніе – и тогда, когда оно дѣйствительности не соотвѣтствуетъ, когда оно лживо. Техника, когда она не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, и вообще не существуетъ. Если аппаратъ не отвѣчаетъ предположенному назначенію, онъ не примѣнимъ, если разсчетъ не оправдывается – онъ отметается. Слово – можетъ дать культуру лжи; орудіе – даетъ неизбѣжно культуру правды. Техника воспитываетъ къ правдѣ, къ честности мысли. Инженеръ можетъ, конечно, быть лжецомъ, какъ писатель – правдивымъ человѣкомъ. Но въ своемъ дѣлѣ лгать инженеру просто незачѣмъ, невыгодно: мостъ провалится, если его разсчетъ не былъ произведенъ въ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью, правдиво. Для человѣка слова можетъ быть много соблазновъ отклоняться отъ правды; чтобы оставаться въ ея предѣлахъ правдивымъ, онъ долженъ имѣть внѣшніе къ тому моральные стимулы, страсть къ правдѣ, императивъ правды; само по себѣ слово своей связностью съ безчисленными ассоціаціями чувствъ и мыслей всегда можетъ этими ассоціаціями быть толкаемо на отклоненіе отъ однозначнаго отношенія къ дѣйствительности. Техника же сама толкаетъ техника къ правдѣ. И потому культура слова есть культура возможной лжи; культура техники есть культура необходимой правды.
На глазахъ нашего поколѣнія происходила борьба культуръ слова и дѣйствія, понятыхъ въ этомъ смыслѣ. Первая, полученная по традиціи и наслѣдству отъ предыдущихъ вѣковъ, по содержанію наполнилась гуманитарнымъ содержаніемъ въ широкомъ смыслѣ этого слова (классицизмомъ возрожденія, гуманизмомъ реформаціи, демократизмомъ революціи) и получила специфическую сверхнапряженность въ ново-европейской общественности (соціалистической, демократической, идейнореволюціонной). Но помимо гуманитарнаго общественнаго содержанія культура слова и по другимъ линіямъ продолжала и заканчивала традиціи прошлыхъ поколѣній – индивидуализмъ разлагался въ ней въ импрессіонизмъ, искусство доходило до исчерпанія своихъ старыхъ формъ въ ихъ послѣднихъ видоизмѣненіяхъ, мышленіе проходило стадіи скептическаго и релативистическаго разложенія. Гуманистическая культура одновременно проходила полосу и художественно-культурнаго упадочничества и общественно культурнаго, оптимистическаго и сентиментальнаго максимализма. И такъ какъ это была именно культура слова, то въ словѣ она господствовала и заслоняла отъ воспринимающаго сознанія подлинные процессы жизни. Въ то самое время, какъ въ дѣйствительности росла и напрягалась новоевропейская культура объективнаго строительства и моральнаго героизма – казалось, что торжествуетъ изощренность и исковерканность упадочничества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и идеализація частнаго, хотя и массоваго интереса, столь родственная партикуляристическому реализму времени.
Они и дѣйствительно торжествовали, но первая только на поверхности. Внутренніе подспудные токи сметали наслоенія прошлаго, и въ сущности едва ли преувеличенніемъ было бы сказать, что еь начала 20 вѣка стала отметаться культура слова. Упорнѣе нежели гуманистическая форма держалось гуманитарное содержаніе, – общественная идеализація частнаго интереса, которая въ максималистической сверхнапряженности и сказалась во время войны и смуты.
Какъ бы то ни было, культура словесной лжи была уже преодолѣваема культурой технической правды. Идеологія военнаго времени нарушила этотъ процессъ. Оформленіе въ сознаніи ново-европейской современности правды объективно-провѣримаго дѣйствія начиналось, но было сорвано великой войной. Быть можетъ, одно изъ главнѣйшихъ бѣдствій этого срыва въ томъ и заключается, что смыслъ ново-европейской культуры не успѣлъ воплотиться въ четко выявленную духовностъ правды, ему имманентно соотвѣтствующую. И навѣрно въ задачѣ этого воплощенія – величайшій завѣтъ сорванной эпохи. Ея задачей, ея основой и ея орудіемъ былъ человѣкъ; этотъ ея гуманизмъ нашелъ свое историческое выраженіе. Ея методомъ былъ методъ правды, но онъ, господствуя въ ея фактическихъ процессахъ, осознаннаго идеологическаго торжества не получилъ. Идеологія правды – таково оставшееся неосуществленнымъ заданіе ново-европейской культуры.