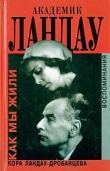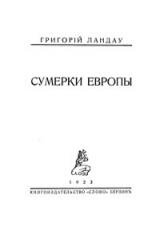
Текст книги "Сумерки Европы"
Автор книги: Григорий Ландау
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Не стоитъ прослѣживать дальше этихъ отношеній; ясно, что съ этой стороны правовая форма международныхъ отношеній сама по себѣ не можетъ имѣть примата надъ ихъ содержаніемъ. Если ей дѣйствительно предоставить приматъ, то этимъ будутъ освящены всѣ былыя насилія. Если же насиліе признавать уничтожающимъ правовую форму, его освятившую, то этимъ будетъ снята вся міровая исторія и установится словесно юридическая формулировка безвыходной путаницы. Абсолютной правовой основательности, законности и справедливости здѣсь быть не можетъ, а есть одновременно различная – противоположная – квалификація съ разныхъ точекъ зрѣнія, одинаково законныхъ ибо самодовлѣющихъ интересовъ.
* * *
Приматъ правовой формы приводитъ въ международныхъ отношеніяхъ къ освященію вчерашняго безправія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ведетъ и къ неограниченному продолженію и охраненію положенія сегодняшняго, – ибо въ самомъ существѣ своемъ онъ является принципомъ консервативнымъ, охранительнымъ, выгоднымъ для привилегированныхъ и сильныхъ, для уже пріобрѣвшихъ мощь, – для тѣхъ, чьи достиженія лежатъ уже въ прошломъ.
Это и понятно; ибо положительное право и вообще въ синтезѣ соціальной жизни играетъ роль охранительную; въ особенности же посколько оно является не процессуальнымъ правомъ, не порядкомъ установленія правовыхъ отношеній, а правомъ матеріальнымъ – организующимъ самыя эти отношенія. Право положительное есть начало консервативное, охраняющее добытое, основной фондъ человѣческой культуры. Оно само можетъ и устанавливать формы своего измѣненія, тѣмъ самымъ открывая возможность самопретворенія въ соотвѣтствіи съ измѣняющейся жизнью. Но по своему содержанію оно закрѣпляетъ разъ установленное, закрѣпляетъ уже пріобрѣтенное.
Этимъ вскрывается въ новой плоскости соотношеніе міровоззрѣній антантистскаго и германскаго. Антанта выдвигаетъ точку зрѣнія положительно-правовую, т. е. охранительную, точку зрѣнія отстаиванія пріобрѣтенныхъ преимуществъ, фиксированныхъ благъ. Beati possidentes, положительное право охраняетъ ихъ блага. Сильные и богатые вчерашняго дня укрываются за валы пріобрѣтенныхъ правъ противъ наступленія новыхъ завоевателей. Консерватизмъ пріобрѣтенныхъ правъ – таковъ смыслъ правовой позиціи Антанты.
Нарушенію право можетъ подвергаться по различному. Разный смыслъ можетъ имѣть формально-тождественный актъ правонарушенія: или право нарушается для того, чтобы измѣнить регулируемыя имъ отношенія, или оно измѣняется потому, что регулируемыя имъ отношенія уже измѣнились. Въ одномъ случаѣ правонарушеніе есть самостоятельный актъ, производящій передвиженіе въ соціальномъ мірѣ, въ другомъ оно только санкціонируетъ уже произведенныя измѣненія, снимая препятствія, тормазящія живую жизнь, устраняя путы, коими прошлое давитъ на будущее. Въ одномъ случаѣ нарушеніе права дѣйствуетъ какъ сила, вмѣшивающаяся въ организованную жизнь съ цѣлью ея измѣненія согласно правонарушающей волѣ; въ другомъ – нарушеніемъ права устраняется противорѣчащій назрѣвшимъ отношеніямъ старый порядокъ, возстанавливается соотвѣтствіе между правомъ и соціальной матеріей. Такимъ образомъ въ первомъ случаѣ правонарушеніе устраиваетъ жизнь въ соотвѣтствіи съ правонарушающей волей, во второмъ, устанавливаетъ право, соотвѣтствующее наличнымъ отношеніямъ; въ первомъ случаѣ оно ломаетъ жизнь, во второмъ – оно ломаетъ устарѣлое право, жизнь калѣчащее.
Отсюда вытекаетъ, что мало установить правонарушеніе, чтобы тѣмъ самымъ и осудить правонарушителя, ибо правонарушеніе можетъ быть не только разрушительнымъ, но и созидающимъ, точнѣе сказать – облегчающимъ пути созиданія, снимающимъ препятствія къ нему; и правонарушеніе можетъ быть не только нарушающимъ законные и справедливые интересы, но и обезпечивающимъ таковые. Безспорно форма правовая, форма легальности – есть и сама по себѣ великое благо и посягательство на нее есть всегда опасное и часто зловредное дѣйствіе. Но это великое благо, а не благо единственное, великая цѣнность, но не исключающая другія. Есть и цѣнности по содержанію, который могутъ идти въ разрѣзъ съ формальною цѣнностью легальности, и подвести окончательный цѣнностный итогъ данному поступку, данному правонарушенію можно не съ точки зрѣнія нарушенности, или ненарушенности имъ формы легальности, а только путемъ взвѣшиванія всѣхъ нарушенныхъ и осуществленныхъ цѣнностей по ихъ существу. Консервативная сила, охраняющая свои преимущества, какъ наслѣдіе прошлаго и препятствующая новой жизни – такой объективно была субъективная позиція Антанты.
Что это такъ – менѣе всего слѣдовало бы отрицать именно тѣмъ элементамъ, которые всего больше и нападали на Германію за нарушенное ею право. Лѣвые элементы, демократы, радикалы, въ особенности же соціалисты, поистинѣ не вѣдая, что творятъ, обрушились, да и теперь поносятъ былую Германію за то, что является основой ихъ собственнаго міросозерцанія. Страны Антанты, опираясь на свой демократизмъ, обрушились на германское правонарушеніе, какъ будто весь демократизмъ, а въ особенности французскій не исходилъ и не опирался на идею революціи; и всѣ соціалисты всѣхъ странъ нападали на Германію за совершенныя ею правонарушенія, какъ будто соціализмъ не имѣетъ своей задачей и цѣлью – соціальный переворотъ. Но революція – это есть установленіе новаго строя съ нарушеніемъ легальности стараго, ломка старой правовой формы во имя новаго содержанія; это именно и есть предоставленіе примата соціальному содержанію надъ легальной формой.
Я вовсе этимъ не хочу сказать, чтобы одно сопоставленіе съ революціей уже и оправдывало нѣмецкое правонарушеніе. Вовсе не всякая революція – только потому, что она революція – должна быть тѣмъ самымъ признана священной и оправданной или хотя бы просто пріемлемой. И здѣсь можетъ быть примѣненъ тотъ же критерій, который выставленъ былъ выше: совершается ли революція съ тѣмъ, чтобы вызвать опредѣленное перераспредѣленіе благъ и власти, или потому, что такое перераспредѣленіе уже произошло, и старое право задерживаетъ и искажаетъ его нормальное развертываніе. Во второмъ случаѣ она принципіально оправдана, – такой приблизительно, она была во Франціи въ концѣ 18 вѣка. Въ первомъ случаѣ (каковой, напримѣръ, имѣетъ мѣсто сейчасъ въ Россіи) ея оцѣнка остается еще подъ вопросомъ, не предрѣшенной. Здѣсь остается возможнымъ, какъ то, что активно произведенное революціей перераспредѣленіе явится творческимъ, положительнымъ, такъ и то, что оно явится разрушительнымъ. Рѣшеніе вопроса въ этомъ случаѣ можетъ быть дано отнюдь не простой ссылкой на форму правонарушенія, а лишь сопоставленіемъ этой стороны, безспорно всегда вредной и опасной, съ другими сторонами происшедшаго процесса.
Всего менѣе понятна и знаменуетъ простую непродуманность – позиція занятая соціалистами. Они даже и не исходятъ изъ революцій, а еще только къ революціи ведутъ. Насиліе для нихъ еще было впереди, великій катаклизмъ, экспропріація экспропріаторовъ, революція, – какое моральное основаніе имѣли они быть приниципіалъно пацифистами, принципіально отвергать правонарушеніе и несоблюденіе договора, какъ таковое? Они могли разумѣется возстать противъ даннаго правонарушенія, противъ данной воины; могли считать для дѣла пролетаріата, для дѣла соціализма полезнѣе побѣду Франціи, нежели побѣду Германіи, желательнѣе миръ, нежели войну – это вопросъ особый; принципіально непріемлемаго въ правонарушеніи и насиліи – для нихъ ничего быть не могло.
Мало того, надо отмѣтить, что идеологическая военная позиція Г ерманіи необыкновенно близко подходитъ къ нѣкоторымъ принципіальнымъ же основамъ соціализма, по крайней мѣрѣ соціализма нѣмецкаго. Настолько это такъ, что могла бы даже возникнуть мысль о заимствованіи и подражаніи, – конечно, мысль неосновательная, ибо родство не этимъ обосновывается, а общностью духовной подпочвы. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ слова Бетманъ-Гольвега о клочкѣ бумаги не повторяютъ почти буквально давней мысли Лассаля о бумажной конституціи, мысли вознесенной не только современнымъ соціализмомъ, но всякимъ реалистическимъ, соціологическимъ міровоззрѣніемъ въ азбуку общественнаго пониманія. И не переносимы ли съ чрезвычайной легкостью и на народы представленія о новыхъ классахъ, фактически становящихся творческими силами новаго общества, но сдавленныхъ правомъ, созданнымъ классами, бывшими творческими прежде и формами своего господства закрѣпившими за собой и на времена своего упадка мощь, оправданную и обоснованную уже исчезнувшимъ прошлымъ. А съ этимъ представленіемъ связана и идея права верховнаго, по сравненію съ правомъ позитивнымъ, насиліемъ отмѣнить путы прошлаго во имя новаго грядущаго творчества, во имя новаго расцвѣта и роста человѣческаго общества.
И значитъ, вопросъ возникаетъ здѣсь не тотъ, состоялось ли, или не состоялось правонарушеніе, было или не было насилія, а другой: было или нѣтъ обосновано это нарушеніе и насиліе надлежащимъ нарастаніемъ и развертываніемъ новыхъ соціальныхъ силъ и возможностей, скованныхъ старой отживающей организаціей.
Какой бы отвѣтъ ни дать на этотъ вопросъ, сейчасъ существенно отмѣтить только самое соотношеніе духовныхъ позицій – охранительной у странъ Антанты и творчески содержательной у Германіи. Юридическая форма противъ соціальнаго содержанія; охрана пріобрѣтенныхъ правъ противъ права творческихъ новообразованій, охрана старыхъ господствующихъ группъ противъ новыхъ классовъ, новыхъ народовъ, новыхъ творцовъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что въ духовныхъ позиціяхъ, занятыхъ на войнѣ враждующими сторонами, позиція творческая и въ этомъ смыслѣ движенія – была занята Германіей, позиція охранительная и въ этомъ смыслѣ застоя – была занята Антантой.
* * *
Подготовлялось блистательное наступленіе Германіи уже давно, его корни очевидно слѣдуетъ искать въ реформаціи, въ исторіи Бранденбурга, въ литературѣ, музыкѣ и философіи 18 и начала 19 вѣка; но какъ бы то ни было, именно въ послѣднія десятилѣтія къ послѣднему полустолѣтію относится небывалый ростъ и расцвѣтъ германской культуры. Хозяйственное развитіе, ввозъ и вывозъ, мореходство, промышленное развертываніе, государственная организованность, развитіе науки и техники въ цѣломъ рядѣ областей, народное образованіе, въ частности высшее – все это послѣ музыкальнаго и философскаго расцвѣта предыдущихъ поколѣній и на ряду съ высокими образцами военнаго· и государственнаго искусства. Поколѣнія смѣнялись и нагромождали цѣнности разныхъ областей, воспитывали народную душу, накопляли навыки, вырабатывали традиціи, вырастили культуру и поколѣнія послѣднихъ десятилѣтій, которыя въ общемъ и создали передовую культуру современности. Само собой, что въ процессѣ выращиванія этой культуры и этого поколѣнія сплелись и пришли въ соприкосновеніе и во взаимоборство различные слои; усиленіе однихъ привело къ ослабленію другихъ; однѣ черты сыграли свою роль въ самомъ процессѣ взращиванія, а потомъ поблекли и отошли, въ другихъ проявились исконныя слабости данной народной души. Значило бы не понять моей мысли – если бы ей приписали какую либо абсолютную идеализацію послѣдняго тридцатилѣтія германской исторіи. Менѣе всего входитъ въ мои намѣренія – умалять прекрасныя черты и достиженія и другихъ народовъ за то же время. Европейская культура вообще въ эту эпоху праздновала свое величайшее торжество и на праздникѣ встрѣчались многіе народы. Но все же думаю, что преобладаніе – въ смыслѣ руководительства, въ смыслѣ передового натиска и главнаго напора – принадлежало народу германскому, что именно онъ стоялъ во главѣ культурнаго движенія послѣднихъ предвоенныхъ десятилѣтій.
Такія вещи едва ли вообще подлежатъ доказательству, и во всякомъ случаѣ подобное доказательство выходило бы за предѣлы настоящаго разсмотрѣнія. Я хотѣлъ бы отмѣтить, что достаточно даже установить равнозначность германскаго народа другимъ народамъ въ предвоенную эпоху, чтобы признать его превосходство въ это время; ибо исторически не задолго до того германскій народъ далеко стоялъ въ разнообразныхъ отношеніяхъ позади своихъ сосѣдей и соперниковъ, и уже одно то, что онъ ихъ догналъ, частью перегналъ, частью руководилъ, обнаруживаетъ въ немъ силу культурнаго напряженія, какая превосходитъ обнаруженную за то же время другими народами культурную мощь.
Но даже и это утвержденіе оставимъ въ сторонѣ, пусть и оно будетъ подвергнуто сомнѣніямъ и оспариваніямъ. Не будемъ сравнивать германскаго народа съ иными народами. Возьмемъ его самого по себѣ и этого будетъ достаточно для нашего вывода. Ибо уже во всякомъ случаѣ никѣмъ не можетъ быть оспариваемъ тотъ грандіозный скачокъ, который совершилъ германскій народъ за полвѣка. И ограничиваясь его собственными предѣлами, можно утверждать съ достаточной точностью, что онъ произвелъ громадную работу, проявилъ грандіозное творчество, измѣнивъ соціальную ткань своей культурной жизни. И этимъ изнутри достаточно обосновывается то ощущеніе измѣненности культурно-соціальной матеріи въ ея отношеніи къ другимъ народамъ, изъ котораго закономѣрно вырастаетъ убѣжденіе въ правѣ на совершеніе формально правовыхъ нарушеній во имя приспособленія міровой организаціи къ этой пышно развернувшейся новой культурно-соціальной мощи. Я нисколько не утверждаю, чтобы нельзя было этого приспособленія достигнуть безъ войны; я только утверждаю, что предвоенный всесторонній творческій процессъ въ германскомъ народѣ и государствѣ былъ настолько могучъ, что обосновывалъ законность во имя его, во имя произведенныхъ имъ измѣненій и въ соотвѣтствіи съ представшими возможностями – измѣнить міровое распредѣленіе; а при необходимости – хотя бы и путемъ правовыхъ нарушеній. Это еще не значитъ, что такая необходимость имѣла мѣсто, это только значитъ, что таково было самосознаніе на случай этой необходимости.
И вотъ почему, не касаясь неизбѣжности, цѣлесообразности, своевременности и правильности произошедшаго, приходится по существу духовныхъ позицій, занятых!» въ войнѣ обѣими сторонами, установить, что противъ формальной точки зрѣнія Антанты Германія выдвигала точку зрѣнія содержаній, противъ рентьерскаго консерватизма – точку зрѣнія творческой производительности, противъ охранительства – прогрессивность. Этого соотношенія – консервативности побѣдителя и активности побѣжденнаго – не слѣдуетъ упускать изъ вниманія при оцѣнкѣ разрушительнаго размаха войны и ея послѣдствій; ибо разбитый напоръ даетъ большее разрушеніе, нежели разрушенная неподвижность.
2. САМООПРЕДѢЛЕНІЕ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
I
Наряду съ лозунгомъ соблюденія права и договоровъ еще и другой лозунгъ былъ выставленъ Антантой, поддержива·-емъ ею во все время войны и – въ отличіе отъ перваго – получилъ даже нѣкоторую видимость осуществленія по ея окончаніи. Это идея самоопредѣленія національностей.
Частью впрочемъ она связана и съ лозунгомъ соблюденія права. Большія государства, преслѣдующія интересы своего роста и расширенія и не руководящіяся принципами права, всегда могутъ уничтожить малыя государства, стоящія на ихъ пути. Чѣмъ же защитится противъ нихъ слабый народъ. Примѣръ Бельгіи и Сербіи стоялъ передъ глазами. Справедливость и благородство требуютъ обезпечить право слабыхъ, не могущихъ себя самихъ защитить противъ насилія сильныхъ и съ правомъ не считающихся. Такъ идея защиты права черезъ примѣненіе къ маленькимъ государствамъ, съ нарушенія неприкосновенности которыхъ началась великая война, связалась непосредственно съ идеей защиты, обезпеченія правъ малыхъ государствъ. И безспорно это дало одну изъ самыхъ крѣпкихъ основъ для сосредоточенія сочувствія нейтральныхъ государствъ и непредвзятыхъ наблюдателей на сторону Антанты.
Первичная точка зрѣнія, какъ она здѣсь намѣчена, неизбѣжно должна была подвергнуться нѣкоторому развитію. Маленькое государство можетъ оказаться въ зависимости отъ сильнаго; сильное можетъ заставить маленькое войти съ собой въ соглашеніе и этимъ, даже соблюдая полную форму права, фактически подчинить себѣ и своимъ интересамъ. Ясно, что соблюденіе правовой формы оказывается здѣсь недостаточнымъ и что слишкомъ легко подъ видимостью такого соблюденія фактически ее нарушать. Если бы до войны Австрія вмѣсто того, чтобы предъявить Сербіи неисполнимый ультиматумъ, – выставила условія тягчайшія, но все же пріемлемыя и заставила Сербію пойти на соглашеніе, хотя бы и нарушающее ея интересы и достоинство, – развѣ послѣдующее соблюденіе этого договора измѣнило бы характеръ насилія, хотя бы и облеченнаго въ форму права? И если бы этого не служилось, если бы Сербія на это не пошла, то потому что за Сербіей стояла Россія, т. е. сила противъ силы, а не право противъ правонарушенія.
Такимъ образомъ, форма соблюденія договоровъ международныхъ – только прикрытіе иныхъ подлинныхъ отношеній по существу. Значитъ, не въ соблюденіи права по отношенію къ малымъ державамъ суть дѣла, а въ обезпеченіи за этими державами возможности устанавливать право самостоятельно наравнѣ съ державами великими, т. е. дѣло въ обезпеченіи за ними такой же самодовлѣющей равноправной позиціи при установленіи міровыхъ отношеній, какъ и за народами могучими. Дѣло въ томъ, чтобы признать за малыми народами право на независимое отъ другихъ сомоопредѣленіе на всемъ протяженіи своей жизни. Значитъ, право малыхъ народовъ на самоопредѣленіе – такова вытекающая отсюда формула.
Однако фактически историческія условія вызвали дальнѣйшее расширеніе этой формулы уже въ новое положеніе. То же исканіе соблазнительныхъ и выгодныхъ лозунговъ толкало въ эту новую сторону. Народы вѣдь не всѣ оформлены въ государства; въ одномъ государствѣ сожительствуютъ разныя націи и одна нація разсѣяна по разнымъ государствамъ. Задача построенія національнаго государства опредѣляла политику многихъ народовъ за послѣднее столѣтіе; задача разрѣшенія національныхъ проблемъ стояла за послѣднія десятилѣтія особенно обостренной передъ государствами востока и юго-востока Европы. Уже до войны лозунгъ самоопредѣленія національностей былъ выставленъ, отстаиваемъ и вызывалъ напряженную борьбу. Этотъ лозунгъ, который былъ направленъ на раздѣлъ государствъ, на ихъ перестройку, – и былъ использованъ Антантой, какъ духовный динамитъ, долженствовавшій взорвать составную часть враждебной коалиціи, именно, въ первую голову – Австрію.
Односторонность фактическаго направленія принципа на врага, а не на себя можетъ быть выставлена въ доказательство того, что онъ примѣнялся не во имя тѣхъ идей и того строя, который провозглашалъ, а во имя военной выгоды провозглашавшихъ. Но подобный разборъ могъ имѣть значеніе во время войны, во время провозглашенія принциповъ и агитаціи съ ихъ помощью; сейчасъ интересъ получаетъ другая – пожалуй противоположная – сторона вопроса. Лозунги, принципы, идеи выставлялись въ виду ихъ привлекательности, соблазнительности, значитъ, въ своемъ содержаніи они во всякомъ случаѣ считались соблазнительными и привлекательными, признавались таковыми даже и тѣми, кто въ нихъ въ сущности не вѣрилъ. Въ такой мѣрѣ дѣло именно такъ обстояло, что вѣдь и Германія признала соблазнительность этихъ идей и сочла цѣлесообразнымъ воспользоваться ими съ цѣлью въ свою очередь обратить ихъ противъ своихъ враговъ – что было сдѣлать чрезвычайно легко, ибо и враги Германіи въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ обнаруживали ту же многонаціональную государственность, какъ ея союзники. И здѣсь какъ и въ первомъ изъ разобранныхъ отношеній обнаружилось, что позиціи, на которой объективно стояла Германія и на которую она частью становилась сознательно – она выдержать не умѣла. Она поддавалась идеологическому напору своихъ противниковъ, она начинала оправдываться, перетолковывая свои дѣйствія, она старалась усвоить себѣ оружіе изъ арсенала враговъ и, заимствовавъ у него и лозунгъ самоопредѣленія, сочла за ловкое и умѣлое – противъ нихъ его и обратить. На самомъ дѣлѣ это только обнаруживало и увеличивало неувѣренность ея въ своей правдѣ, расшатывало твердость и цѣльность ея духа. Германія не была достаточно проникнута своей правотой, она не сумѣла эту правоту идейно обострить и идейно пронести въ міръ на ряду съ силой своей техники, своей организаціи, своего творчества, своего оружія. На самомъ дѣлѣ заимствуя ло-зунги у противника, она не ослабила своихъ враговъ, она не пріобрѣла себѣ друзей, потому что эти идеи и дѣйствительно не соотвѣтствовали ея объективной позиціи; она не убѣдила и не заставила ни забыть этой своей объективной позиціи, ни повѣрить въ свою искренность; она только закрѣпила въ сознаніи окружающихъ правоту своихъ враговъ, а слѣдовательно свою виновность. Она только ослабила свое собственное самосознаніе и, можетъ быть, этимъ ускорила и усугубила ту внутреннюю неустойчивость, которая вызвана была, конечно, не этимъ, а тягостями міровой войны. Идейное самодовлѣніе не проявилось равнозначнымъ мощи и не оказалось на уровнѣ задачи. Здѣсь сказалось преклоненіе, податливость передъ той системой западно-европейской идейности, которая (независимо отъ искренности или военной условности) какъ бы подавляла германскій духъ. Конечно, сама эта идейность не была чисто франко-англійской въ противоположность германской; то была въ нѣкоторомъ родѣ общеевропейская идейность, соотвѣтствующая общеевропейскому литературному гуманизму 19 вѣка; и потому, поддавшись ей, Германія поддалась не просто чужому духу, а частью и своему собственному. Но ея объективная позиція требовала неуступчиваго чекана собственныхъ идейныхъ формулировокъ, требовала не поддаваться формулировкѣ чужой.
Лозунгъ защиты малыхъ государствъ отъ засилья большихъ – самоопредѣленія малыхъ государствъ – перешелъ или осложнился лозунгомъ самоопредѣленія національностей, вкрапленныхъ въ инонаціональныя государства, при томъ въ формѣ ихъ самоопредѣленія государственнаго. Эта точка зрѣнія и была противопоставлена германской позиціи – имперіализма. Самоопредѣленіе національности и имперіализмъ – таково въ этой плоскости противоположеніе антантистской и германской позицій.
Самоопредѣленіе государствъ и негосударственныхъ народностей – представляетъ существенное различіе и потому о нихъ приходится говорить порознь, хотя они и были объединены военной идеологіей.
* * *
Сравнительно проще стоитъ вопросъ съ самостоятельностью малыхъ государствъ. Принципъ здѣсь безспорный; это правовая идея прошлаго (въ отличіе отъ второй идеи государственной самостоятельности безгосударственныхъ націй, выработанной современностью и еще только ждущей своего осуществленія отъ будущаго), – идея государственнаго суверенитета. Разумѣется, позиція Антанты заключалась не въ томъ, чтобы эту идею провозгласить и провести въ жизнь, а въ томъ, чтобы обезпечить обозначаемый ею и издавна существующій фактъ, – не въ провозглашеніи государственной самостоятельности мелкихъ государствъ, а въ обезпеченіи ея.
Малый народъ самъ по себѣ беззащитенъ противъ сильныхъ; его независимость можно было бы отстоять, поставивъ за нимъ другой сильный, благородный и безкорыстный народъ, который его во что бы то ни стало и будетъ защищать. Злая Германія готова напасть на Бельгію, благородная Англія этому воспрепятствуетъ. Пусть такъ, – въ этомъ будетъ защита, но вѣдь не будетъ обезпеченія, ибо сегодняшній благородный покровитель завтра можетъ воспользоваться своимъ положеніемъ защитника во имя своихъ интересовъ. Защита сильнымъ слабаго ставитъ слабаго въ вассальное положеніе отъ сильнаго; защита слабаго сильнымъ отъ другого сильнаго есть осуществленіе первымъ того, отъ чего слабый защищается противъ второго, – установленіе надъ нимъ своего господства. Франція, защищающая Бельгію отъ эвентуальнаго вторженія германскихъ войскъ, тѣмъ самымъ за своими войсками обезпечиваетъ свободный входъ въ Бельгію, обезпечиваетъ свою власть надъ ней. Пусть это благодѣтельная, идеальная власть – это власть, господство, а гарантія въ томъ и заключается, чтобы оградить вообще отъ чужого господства, а не только въ томъ, чтобы оградить отъ господства плохого.
Можно себѣ представить обезпеченіе малаго государства не путемъ защиты его сильнымъ, а путемъ договора всѣхъ заинтересованныхъ сильныхъ (какъ это до войны и имѣло мѣсто съ Бельгіей). Прекрасная гарантія, посколько сильные между собой не перессорились, пока договоръ дѣйствуетъ, но столь же необезпеченная, какъ не обезпечено ею вообще соблюденіе международныхъ договоровъ.
Соревнованіе, взаимное уравновѣшиваніе сильныхъ – является можетъ быть лучшей гарантіей, нежели ихъ соглашеніе; но только гарантіей фактической, а не правовой, не организованной; дѣйствующей, пока сильные продолжаютъ одинъ другой уравновѣшивать, и перестающей дѣйствовать, какъ только соревнованіе переходитъ въ открытый конфликтъ. Тѣсное объединеніе малыхъ державъ можетъ ихъ цѣлесообразно обезопасить отъ крупной; но во первыхъ, для этого необходимо соотвѣтствующее, благопріятствующее объединенію географическое положеніе и совпаденіе ихъ существенныхъ интересовъ. И кромѣ того этотъ путь, чтобы привести къ дѣйствительному обезпеченію, долженъ создать такое тѣсное сплоченіе малыхъ, которое собственно практически дѣлаетъ изъ нихъ одно крупное, т. е. обезпечиваетъ независимость каждаго малаго отъ крупнаго, закрѣпивъ его зависимость отъ другихъ малыхъ, – обезпечиваетъ самоопредѣленіе его, уничтоживъ таковое. Остается еще одно – организація всѣхъ государствъ, которая обезпечивала бы каждое сильное и слабое одинаково. Мы приходимъ къ идеѣ типа Лиги Націй, какъ гарантіи самостоятельности и независимости малой державы со стороны крупной. Къ идеѣ Лиги Націй придется вернуться еще дальше. Сейчасъ остановлюсь на ней только въ этомъ ея отношеніи къ поставленному вопросу.
Итакъ, общество народовъ, какъ гарантія совокупностью государствъ каждаго, и въ частности – малаго, отъ засилья крупныхъ. Но здѣсь возникаетъ новый вопросъ: какъ же съ этой точки зрѣнія будетъ устроено само общество народовъ и кто въ немъ будетъ распоряжаться? Если въ немъ власть, господство будетъ распредѣлено сообразно силѣ, хотя бы въ болѣе или менѣе приблизительномъ или отдаленномъ съ ней соотношеніи, хотя бы несообразно военной силѣ, а силѣ государственной и соціальной – входящихъ въ ея составъ государствъ, то вѣдь получается не освобожденіе отъ господства со стороны сильныхъ, а наоборотъ организація этого господства. Это значитъ попасть изъ огня да въ полымя, отъ дождя укрыться въ рѣку: во имя обезпеченія себя отъ еще только возможнаго насилія со стороны сильнаго, подчинитъ себя постоянно организованному господству сильныхъ же.
Если-же предположить такое устройство, чтобъ государства не пользовались властью сообразно коэффиціентамъ своихъ силъ, а исключительно лишь каждый, какъ нѣкая равноправная единица, то мы получимъ другое явленіе, столь же недопустимое – на этотъ разъ уже для другой стороны. Въ самомъ дѣлѣ окажется, что огромное государство съ громаднымъ населеніемъ, территоріей, производительностью и прочимъ находится на одномъ уровнѣ власти съ малымъ и ничтожнымъ, т. е. другими словами, если три милліона населенія имѣютъ такую же власть въ общихъ рѣшеніяхъ, какъ и сто милліоновъ, окажется, что сто милліоновъ будутъ равнозначны тремъ и слѣдовательно подпадутъ въ зависимость отъ нихъ. Ясно, что такое предположеніе можетъ быть сдѣлано только на словахъ, что оно съ точки зрѣнія какихъ бы то ни было идей представляетъ полную безсмыслицу; ибо если несправедливо, чтобы большое государство господствовало надъ малыми, то странно было бы считать справедливымъ, чтобы малое господствовало надъ большимъ. Но разумѣется этого опасаться и не приходится и только анализъ словесно мнимыхъ идей можетъ приводитъ къ необходимости разсматривать подобныя предположенія.
Конечно, мыслимо еще себѣ представить такое распредѣленіе вліянія, чтобы большому государству было предоставлено и больше вліянія, чѣмъ другимъ, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ оно не могло располагать судьбой малыхъ противъ воли, если не каждаго изъ нихъ, то опредѣленныхъ ихъ группъ; или иными словами – возможно такъ юридически или фактически сгруппировать участвующія въ обществѣ націй государства, чтобы каждое получило возможность ограждать свои насущнѣйшіе интересы противъ засилія сильнѣйшаго – въ связи съ другими сильными же или слабыми. Но по этому пути мы приходимъ къ комбинаціямъ союзнаго характера, ограждающимъ интересы своихъ участниковъ въ той же мѣрѣ, какъ это дѣлаютъ всякіе союзы и соглашенія, и независимо отъ общества націй; и слѣдовательно опять таки никакой специфической гарантіи малыхъ государствъ мы здѣсь не получаемъ. Наоборотъ, если подобныя сочетанія ужъ заранѣе предопредѣлены юридической структурою при распредѣленіи вліянія и «голосовъ», они только ограничиваютъ и лишаютъ подвижности возможную самозащиту каждаго народа. Но суть и здѣсь остается та, что такая организація, каковы бы ни были другія ея послѣдствія – во всякомъ случаѣ одного не достигаетъ; самостоятельности, самоопредѣленія каждаго, хотя бы и малаго народа. Наоборотъ она ведетъ къ большему или меньшему поглощенію его въ объемлющее цѣлое; здѣсь получается закрѣпленіе зависимости, ея организація. И если эта связанность и обща для всѣхъ, то нетрудно себѣ уяснить, что во взаимной зависимости – господствующими останутся фактически мощные. Устанавливающее (предположительно) миръ общество народовъ окончательно лишаетъ малые народы ихъ самоопредѣленія. Конечно въ неорганизованномъ международномъ общеніи малое государство рискуетъ подвергнуться властному вмѣшательству со стороны сильнаго; но оно не всегда же, не постоянно же таковому подвергается даже, если оно стоитъ одиноко, какъ Швейцарія или Голландія. И по многимъ основаніямъ сохраняетъ оно безопасность безъ всякихъ союзовъ, ибо одни крупныя государства заинтересованы въ неприкосновенности его отъ другихъ; насиліе надъ нимъ можетъ представить существенныя неокупающіяся затрудненія и пр. Есть необезпеченность, есть рискъ, но нѣтъ постоянной подвластности. Другое дѣло въ организованной Лигѣ націй (если бы она дѣйствительно была организована и получила власть надъ своими сочленами), – здѣсь оказалось бы вмѣстѣ съ тѣмъ организовано и постоянное господство сильныхъ надъ слабыми.
Принципъ самоопредѣленія малыхъ народовъ и принципъ общества націй – суть два взаимно-противорѣчивыхъ, взаимно-опровергающихъ одинъ другой принципа. Самоопредѣленіе не допускаетъ объединяющей организованности; организованное объединеніе нарушаетъ самоопредѣленіе. Принципы Антанты въ этомъ отношеніи страдали глубочайшимъ внутреннимъ противорѣчіемъ.
Удивляться тому, что лозунгъ обезпеченія самоопредѣленія малыхъ народовъ не нашелъ сколько нибудь удовлетворительнаго разрѣшенія и даже привелъ къ противоположной тенденціи – отнюдь не приходится. Ибо суть въ томъ, что онъ ставитъ задачу невыполнимую: обезпеченности въ дѣйствительности не бываетъ не только для малыхъ государствъ отъ сильныхъ, не бываетъ его и для могучихъ государствъ отъ другихъ могучихъ, или отъ самихъ себя – отъ тѣхъ опасностей, которыя заключаются въ роковыхъ явленіяхъ роста и упадка. Великія державы такъ же подлежатъ крушенію, пораженіямъ или ущербамъ, какъ и малыя. И если безпристрастно всмотрѣться въ исторію послѣднихъ десятилѣтій, то приходится поставить подъ вопросъ – для кого таитъ больше опасности исторія, для великихъ или для малыхъ. Въ концѣ концовъ незначительность даетъ своеобразную устойчивость, которой лишены мощь и величіе. Швейцарія пережила расцвѣтъ и упадокъ первостепенныхъ державъ; Голландія сохранилась при паденіи Испаніи. И чтобы заострить противопоставленіе можно сказать, что, быть можетъ, всѣхъ великихъ міра сего переживетъ республика Санъ Марино. Это не вопросъ правовой гарантіи, а вопросъ тѣхъ обезпеченій, которыя заключаются въ самихъ фактахъ и лишь фактами и мѣняются. Но законно ли вообще въ этихъ предѣльныхъ вопросахъ бытія – личнаго или государственнаго, безразлично – жаждать и искать опоры въ правовыхъ гарантіяхъ? Это вопросъ, съ которымъ еще придется столкнуться въ дальнѣйшемъ, если и не для того, чтобы его разрѣшить, то для того, чтобы освѣтить скрывающуюся за этимъ исканіемъ психологію.