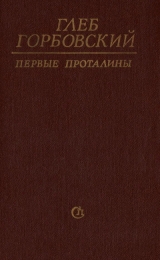
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
Глава третья. Башня
Художник, который в свое время добровольно из дробовика стрелялся, обладал, помимо прочих особенностей, эксцентрической привычкой посылать своим знакомым крикливые телеграммы; не те банальные, поздравительные, а самые что ни на есть неожиданные, по любому незначительному поводу, и всегда – надрывные, истошные. Другой бы на его месте из телефонной будки за две копейки нужному человеку позвонил: так, мол, и так, а этот, натура художественная, истеричная, моментально телеграмму отбивал. И чаще всего обстреливал он своими визгливыми депешами доверчивую, участливую Дашу. Стремительно садилась она за руль семейного автомобильчика и сломя голову неслась на отчаянный призыв самоубийцы-неудачника, самоубийцы, так сказать, дилетанта. Не раз во время этих срочных вызовов подвергала себя смертельной опасности, превышая дозволенную скорость.
Чаще всего телеграммы Эдика заканчивались малопонятным для непосвященных старинным словом «обитель», применявшимся в депешах художника исключительно для ориентировки, чтобы Даша сразу могла сообразить, куда ей мчаться.
Обителью величали молодые художники свою мастерскую, помещавшуюся в довольно причудливом здании старинной конструкции совершенно неизвестного изначального назначения: то ли водонапорная башня, то ли сигнальный маяк или пожарная каланча, а может, и вовсе что-нибудь заводское, если не хранилищное, скажем, отсек элеватора. Однако художники, и прежде всего Дашин символический жених Эдуард Потемкин, толкуя о происхождении своей обители, предполагали нечто более романтическое, в духе возникновения рыцарских замков.
Здание это отличалось необычайной прочностью кладки и нерушимостью самого кирпича. Располагалось оно и Петроградской стороной на Островах, и не было снесено жизненными бурями единственно по причине своей редкой прочности. Неоднократно люди брались его разбирать, однако здание не дрогнуло, устояло, выдюжило, перемогло. Внутри сооружения имелись металлические винтовые лестницы, круглые этажи, которые иногда как бы обрубались по диаметру башни, и тогда в зале получался причудливый ступенчатый потолок; окна башни напоминали оборонительного свойства бойницы, но в этаже, где располагался рабочий зал мастерской, окон как таковых не было: по всей окружности зала простиралось этакое световое кольцо, перегороженное редкими стойками из кремневой прочности бетона. Над рабочим чалом художники оборудовали «едальню», в которую поднимались по винтовой лестнице. Винтовая же лестница из «едальни» вела под самую крышу, где отщепенцем обитал непризнанный гений, член групкома Эдуард Потемкин. Там он писал свои причудливые портреты, а иногда, по заказу групкома, плакаты для красных уголков и клубов района.
Ниже, под «непризнанным» обитали художники-профессионалы, члены Союза, ребята молодые, еще полные энергии и иллюзий, а также надежд и упований. От них веяло здоровьем, красотой и любовью, и не теми ли воспарениями молодости, что исходили от симпатичных ребят, воздымаясь к меланхолической келье отшельника, питался Потемкин, не отдавая себе в этом отчета, не по их ли светлой вине держался он на плаву и что-то там такое смекал, величая себя мастером, а ребят из рабочего зала «муравьями»?
Припарковывалась Даша, как правило, под корявыми, уродливыми, доживавшими свой век липами среди полудюжины разноцветных «жигулят», разбросанных по ядреному булыжнику территории возле обители и принадлежавших энергичным «муравьям» – талантливым монументалистам, обеспеченным подрядами, расписавшим в черте города и за его пределами множество клубов, бань, ресторанов, а также рынков и плавательных бассейнов, да так здорово расписавшим, что всех их однажды, скопом, на премию выдвинули. Ребята жили безбедно, в свободное время писали пейзажи, натюрморты, сообща веселились, вместе на рыбалку ездили, одним котлом питались в «едальне» и только на свидания с девушками уезжали каждый на своем «жигуленке» в своем направлении. С неуживчивым, а значит, и невезучим Эдиком дружили, иногда добродушно переругивались, когда он по винтовой лестнице спускался, чтобы выйти в уборную, и неизменно задерживался в их зале, чтобы немного поворчать, а то и поскандалить.
На своей верхотуре писал он портреты давнишних исторических деятелей, изображения которых не сохранились, до дней нынешних не дошли, а если и дошли, то весьма в расплывчатом, приблизительном виде. Такая у Потемкина труднообъяснимая особенность имелась, и даже не особенность, а скорее потребность: писать прошлое, замешивая его на приметах настоящего. Сюжеты свои Потемкин чаще всего извлекал из былого России. Образ того или иного деятеля лепил «из головы», не прибегая к услугам натурщиков, но как бы совмещая лица известных ему современных людей с обликом людей древних, известных нам не лицом, а исключительно своими деяниями. Волновали его такие фигуры, как Стенька Разин, митрополит Филарет (в миру – Романов Никита), а также Калита, князь Курбский, Владимир Красное Солнышко. Некоторые лики объединял, и тогда получалась композиция вроде триптиха «Лжедимитриада». Фигуры эти синтезированные весьма отличались от образов, устоявшихся в памяти народной, потому что принимали порой черты и выражения самые неожиданные, и чаще всего вздорные. Так, все три Лжедимитрия на триптихе имели явное сходство с тремя самыми удачливыми современными поэтами так называемого среднего, послевоенного поколения, тогда как оплечный портрет протопопа Аввакума недвусмысленно, откровенно напоминал об одном, теперь уже спившемся, актере кино, некогда весьма популярном и очень невеселом на вид, хотя и комиком по призванию.
Внешне угрюмый, притворяющийся свирепым, а на самом деле просто чудаковатый Эдик спускался по винтовой лестнице к монументалистам не просто похулиганить, но и как бы подлечиться, сбросить внутридушевное давление. В солнечном, до краев налитом утренней прозрачностью зале, где заспанным глазам «индивидуалиста» помимо кругового панорамного обзора зеленых островов попадались неоконченные работы юных живописцев, Потемкин, с неразлепляющимся ртом и огромным, непрерывно как бы увеличивающимся носом картофельной конфигурации, проходил мимо внушительного полотна, пахнущего олифой и еще чем-то очень свежим, бодрым, даже вкусным, – проходил, бурча себе под нос «комплименты», адресованные «муравьям», одновременно расчесывая гребешком свою культурную шоколадно-кофейную шелковистую бородку, аккуратную и потому несколько неожиданную на губчатом, пористом, как бы непрерывно умирающем, распадающемся на элементарные частицы лице.
– Эк, наворотили! – бросал он глухим, «бочковым» баритоном. – И куда же это они у вас? – спрашивал он всех и как бы никого, задирая бородку в сторону изображенных граждан, идущих кто с лопатой, кто с портфелем, а кто и просто с рюкзаком или пшеничным снопом под мышкой по дороге мимо типовых зданий, заводов, хлебных полей и одинаковых, а потому весьма одиноких – деревьев. – Оно конечно, – ухал филином Потемкин. – Оно конечно… Денежку зарабатывать никому не возбраняется… Но зачем же в таком количестве, граждане муравьи? Машете кистью-то, как помелом, прости господи… Этак и талантишки свои разбрызгать недолго. Рука расхлябнет, и где он – мазок? Тю-тю. Хлебушек с маслом поперек горла не становится? От таких трудов праведных? Кстати, о хлебе… – как бы ненароком вспоминал Эдик о насущном и, не дожидаясь со стороны хлопцев возражений на свои критические замечания, прямиком устремлялся в «едальню», гремя зимними сапогами по железным ступеням винтовой лестницы. А там у хлебосольных монументалистов непрерывно клокотал кипяток в электрическом самоваре, пахло приличной чайной заваркой, чесночной колбасой, пирожками, копченой рыбешкой, а то и пельменями с уксусом. С молчаливого согласия хозяев отшельник усаживался за грубо оструганный, «деревенский» стол и начинал поспешно поедать то, что ему умышленно оставляли ребята. Иногда, полузамаскированная, из-за самовара выглядывала початая бутылка спиртного, которую Эдик самодовольно подносил к своему чудовищному носу, саркастически улыбаясь, принюхивался к содержимому, словно не доверял случаю, затем, не касаясь бутылкой губ, взметывал посудину над отверстием рта, совершая при этом два-три мощных гулких глотка. Далее с остервенением сплевывал куда-то за самовар и, несколько оттаяв, помолодев и подобрев глазами затаенными, поднимался к себе наверх доводить до кондиции портрет татарского полководца-неудачника Мамая, напоминавшего современного казахского писателя, пишущего на языке эсперанто.
Даше мученик кисти впервые повстречался под сводами храма в Петропавловской крепости, куда Эдик, недоверчиво улыбаясь, забрел с определенной целью, а именно – прощупать взглядом, а если удастся, то и руками, скульптурное изображение Петра Великого, расположенное возле самого саркофага царя и отлитое в бронзе чуть ли не при жизни покойника. В те дни Эдик работал над портретом Петра, которого представлял себе почему-то обряженным в военную гимнастерку времен гражданской войны и обликом своим напоминавшим легендарного ее героя.
Даша в момент появления художника рассказывала англоязычным экскурсантам о деятельности знаменитого царя, о его реформах, воле, силе, бытовых профессиях, причудах, размере обуви и одежды, о его пристрастиях к морскому и плотницкому делу и дружбе с голландцами и вообще о прозападной ориентации императора. Эдик, как всегда, ироничный, недоверчивый, пристроился незаметно к англичанам или американцам (поди разбери их там!) и в момент, когда вплотную приблизился к миниатюрному бюсту царя, ловко руку вперед протянул и быстро-быстро ощупал скульптуру, словно пыль с нее смахнул.
– А руками нельзя, товарищ художник! – шепнула ему Даша на чистейшем русском.
– Откуда вам известно, – окрысился моментально Потемкин, – что я художник? Может, я слепой… И мне трогать – необходимо. Все подряд… И про Петра наплели. Никакой он не мощный, не волевой. Одинокий он прежде всего. Как вот я. Выдающаяся личность всегда одинока. К тому же у Петра печень больная… И вообще – сыноубийца. Грустный, жалкий, в глазах боль зацикленного зверя. А вы – «окно в Европу»!
Потом, когда к концу дня в соборе стало меньше посетителей, Эдик вынул из глубины куртки блокнот и довольно сноровисто сделал несколько набросков толстогубой круглолицей головы Петра Алексеевича Романова. Нечаянно Даша заглянула к нему в блокнот и громко расхохоталась: смешение образов царя и красного комбрига подействовало на нее ошарашивающе!
Разговорились. Пряча свой несерьезный, клоунский нос за страницами блокнота, Потемкин пожаловался ей на миниатюрность человеческой жизни, на нехватку времени, на то, что вряд ли доживет до известности как художник… Затем перескочил на другое, начав доказывать, что писать большие по размерам картины – неразумно. Человека с его маленькой, быстротечной жизнью такие полотна-де раздражать должны, отталкивать. Зритель ищет во всем невольного сходства с собой, со своими проблемами, а гигантские полотна, если они не росписи храмов и других общественных зданий, вызывают недоверие.
Потом она пришла к нему в мастерскую. Из чисто женского любопытства: живой и такой оригинальный художник! И вдобавок ко всему – мыслит как-то странно, как-то неуклюже, не как все… В «Огоньке» репродукций не печатает. Конечно, настораживало в его портретах несоответствие формы и содержания: скажем, Пугачев с его бунтом и жаждой власти на картине Эдика представал одетым в современные джинсы, даже бирка фирменная «Левис» тщательно прописана; над джинсами, этажом выше – не кафтан, не царские соболя и даже не халат арестантский, а модная майка с наименованием определенного сорта заграничных сигарет с фильтром.
– Зачем это вы? Удивить, да?
– Успокойтесь. Просто я так… вижу. Чего тут такого особенного? Это сближает эпохи. Убежден. И вообще на земле только одна эпоха – эпоха Жизни всеобщей. Правда, она раздроблена на всякие там периоды. Дело художника – объединять раздробленное. Убежден. Личность, то есть дух, содержимое телесной оболочки, всегда, во все времена остается цельной, нерушимой! Рассекаете? В какую эпоху ее, личность, ни сунь, она всегда проявит себя надлежащим образом. Пушкин будет писать стихи. Хоть в XXI веке Кулибин – изобретать. Наполеон – завоевывать. Стенька Разин – бунтовать. А папа римский – богу молиться будет. Хоть в сутане, хоть в галифе или вообще в колготках. Не имеет значения.
Поначалу художник приятного впечатления на Дашу не произвел. Очаровал он ее постепенно и как-то нематериально. Сразу было видно: с таким не соскучишься. Вот бы такого в табор привести. А заодно и забавных портретов от него с десяток прихватить, по стенам в гостиной развесить, людей на выставку пригласить. Рисует он даже весьма неплохо! Очень способный человек. Только вот… притворяется, чудит. Ей-то он растолковал: «Видение мира, мол, слишком свое, оригинальное…» А ей все равно кажется, что чудит прежде всего. То, что художнику было уже под сорок и он к этому времени оставался холостяком, объясняла жертвенным отношением Потемкина к призванию, к искусству. И почти сразу ей пригреть его захотелось, обмыть, от пыли вековой отряхнуть, пирог ему испечь яблочный. А главное: талант его уберечь, до людей донести. Когда же через год после их музейного знакомства художник попытался на тот свет себя отправить, пальнув по пьянке из дробовика, то и вовсе ужаснулась, попутно воспылав к Эдику материнской любовью и всепрощением. Она даже в Союз художников ходила, оставила там заявление, в котором просила обратить внимание на погибающий талант. Познакомилась там с одним видным художником-академиком, заручилась его поддержкой.
В благодарность Потемкин когда-то предлагал Даше руку, не просил у нее, а именно, растерявшись, свою предлагал. За что Даша искренне его поблагодарила, но в загс идти с художником отказалась. Из жертвенных соображений.
– Тебе, миленький, не в загс, тебе в Союз художников нужно идти. Из одиночества наружу высунуться. А главное – работать, писать. Государственная премия тебе нужна, а не семья. Чтобы честолюбие подхлестнуть и на место поставить. И вздыматься еще выше… На Олимп! А наши с тобой отношения, миленький, от этого не завянут. Не все ли равно, в какие одежды будут они обряжены, отношения наши? Это если твоей теорией портретной воспользоваться.
Много позже выяснилось, как и следовало ожидать, что художник был не столь уж и бескорыстен в своем отщепенстве. Успеха он жаждал ничуть не меньше монументалистов, даже гораздо сильнее их жаждал. И на этой почве изнуряющего жажданья все больше мрачнел с каждым днем. И тем самым пугал Дашу постоянно, словно к повторному выстрелу из берданки готовился.
На этот раз содержание телеграммы не поддавалось мгновенной расшифровке, что, естественно, насторожило и напугало Дашу.
«Зубы на полке. Муравьи озверели. Пахнет жареным».
Что он этим хотел сказать? И все же некий продуктово-провиантский подтекст депеши угадывался.
Даша притормозила возле гастронома, разменяла последнюю десятку, за которой – лишь ожидание получки. Пакетики с колбасой, сыром, маслом поочередно и вразнобой, как лягушата, норовили выскользнуть из ее рук на дореволюционный кафель бывшего «Елисея». Винного отдела в гастрономе почему-то не было. Мужчина, у которого дрожали руки и текли из глаз настоящие слезы, участливо растолковал, в каком именно переулке помещается теперь этот отдел. В голосе его прослеживались нотки солидарности. Он долго кивал ей вослед с задумчивым выражением лица, словно прощался навеки.
Еще в момент ознакомления с телеграммой Даша решила купить Эдику «маленькую» водки. Чего прежде почти никогда не делала. Сейчас ее смутила фраза о муравьях… Не намек ли это на, скажем, головную боль? Не горячка ли, не бред ли? Тараканы, муравьи… А там и черти. Что-то подобное она уже слышала в таборе, когда речь об алкоголиках заходила.
Оставив «жигуленка» в разноцветном стаде легковушек, принадлежавших юным художникам, Даша закружилась по винтовушке, ввинчиваясь в башню, звеня металлическими ступенями, туда, где под самым куполом хандрил сейчас ее гений, способный в любой миг выстрелить в себя из дробовика еще раз. И вот странно, чем выше она вздымалась, чем ближе подходила к мастерской монументалистов, тем отчетливей пахло… именно жареным! А точнее – рыбой. Молодые художники, сообща писавшие огромные, состоявшие из отдельных частей, словно из детской игры позаимствованные, картины, которые, написав, потом еще долго составляли в каком-нибудь не менее огромном помещении в одно целое, ребятишки эти жизнеспособные давно уже привыкли к «телеграфным» появлениям Даши. Ее тернистый путь наверх, к своему кумиру пролегал через их светлый круглый зал, через пронизанное солнцем пространство, на котором они приносили пользу обществу и одновременно зарабатывали неплохие денежки. За те несколько десятков шагов, что совершала она по их территории в направлении винтовой лестницы, успевали они всякий раз чем-нибудь ее угостить: шоколадной конфетой из набора, свежекупленой розой или гвоздикой, а то и чашечкой кофе с ликером, которую несли параллельно ее движению к винтовой лестнице на самодельном, разухабисто расписанном деревянном подносе. Даша, в отличие от Эдика, никогда не иронизировала, не язвила в их адрес. Более того, недурно разбираясь в их ремесле, иногда угадывала удачно прописанные бригадой места на необъятных полотнах и, выхватив эти места из серой беспредельности, незлобивым, восторженным взглядом указывала на них мастерам, приплюсовав совершенно безо всякой корысти несколько добрых, толковых слов.
Сегодня здесь, в обители, царило не просто оживление, а как бы восторг священный плыл, вдохновение буйное, действо горячечное, фонтанирующее энергией, клубилось!
– Пируете?! – взмахнула Даша кульками. – Произошло что-то? Хорошее, да?! Небось на премию опять выдвинули?
– Не угадала! Понимаешь… Сказочный заказ!
– Такой, что и не снилось прежде!
– Мечта голубая всей жизни! Поздравьте нас, Дашенька!
– Исаакиевский собор, что ли, заново расписывать предложили? – недоверчиво улыбнулась Даша.
– Ну-у, вы даете!
– Да что же тогда, господи?! Вы меня пугаете. Может, башню эту… обитель вашу на ремонт ставят?
– Эх, не угадали! Детский сад… Всего лишь. Понимаете: Красная Шапочка, крокодил Гена! Кащей бессмертный и сорок разбойников. Отдохнем наконец-то… Душеньку отведем. Детство, сказка! И-ех!
– Поздравляю. Действительно, радость.
– Вот, угощайтесь… Лещ натуральный! Вчера еще в Вуоксе обитал.
– Спасибо. Я с собой кусочек возьму. Если можно. Там и съем наверху. Я по телеграмме…
– Гения само собой накормим. А это вам. Сами ешьте!
– Вы его видели? Что с ним?!
– Не что с ним, а кто с ним.
– А кто, если удобно про это говорить?
– Такой маленький и очень волосатый гном.
– А-а… Так это же прекрасно! Я их сейчас накормлю. Они с голода, наверное, помирают…
– Даша, у нас к вам просьба. Упросите коротышку позировать. Конечно, не бесплатно. Мы с него Карлсона, который на крыше, для детсада напишем. Или гнома. Типичный персонаж. Просто отразим его, как в зеркале, и додумывать ничего не надо.
– Постараюсь, мальчики…
Наверху, в довольно просторном зальце, однако гораздо меньшем, нежели у энергичных ребят (башня уходила вверх, постепенно сужаясь), никакого священного трепета или хотя бы оживления не наблюдалось. Погибших голодной или какой другой смертью – тоже… И единственном кресле, похожем на кузов такси без колес или на половинку гроба, сидел, а точнее, лежал, свернувшись по-собачьи, поэт Герасим Тминный. Из кресла торчала огромная голова его, в данный момент дремавшая. При появлении из отверстия в полу Даши Тминный мгновенно проснулся и начал бешено потирать руки от удовольствия.
Сам художник Потемкин у зарешеченного отверстия, напоминавшего тюремное окошко, рассматривал в заляпанном красками зеркальном обломке заросшее волосяным бурьяном невеселое лицо.
– Привет, одуванчики! – Даша бегом добежала до угрюмого художника, стоявшего к ней спиной, заглянула ему в лицо. – Признавайтесь, что стряслось опять? Живы, по крайней мере?
– Живы, хе-хе… Но, хе-хе, не совсем здоровы, – попытался шутить выкарабкивавшийся из кресла, точно из ямы, Тминный.
Художник тем временем пристально продолжал рассматривать себя в зеркале, словно сомневаясь в подлинности увиденного.
– М-м-да-а… Что-то происходит со мной. Неладное что-то, – мямлил Потемкин, не собираясь «вылезать» из зеркала и не здороваясь с Дашей, чего прежде за ним не наблюдалось. – Черт знает что! Мне кажется, что я скоро исчезну… И произойдет это благодаря вот этой забабахе! – ухватил он себя за нос пятерней, как будто грушу с дерева снять вознамерился. – Растет, паскуда. И скоро я весь в него перейду… Как в постороннее тело перемещусь. Вот и возникают у наших невест сомнения. В связи с этим. А там и новые кандидаты на горизонте появляются. Двухметровые. В красивой казенной одежде.
– О чем ты, Эдик? Что с тобой происходят? Подумаешь, нос!
– А вот и «подумаешь»! Пока тут разной чепухой занимался, портретики мазал, замки воздушные строил… а нос-то и запустил.
Даша кульки судорожно к груди прижала. Из одного кулька серебристая головка алюминиевая на свет божий высунулась. Потом Даша все, что в руках держала, медленно в кресло на Тминного высыпала в забытьи. Съежившись, к Потемкину руки протянула.
– Нос как нос… – погладила медвежье, тяжелое лицо художника, в глубине которого, словно в двух колодцах, мерцали маленькие беспомощные глазки, чем-то напуганные.
– Я тебя почему вызвал-то? Страшно мне. В мужья не гожусь. Вижу, знаю. Не спорь! Какой из меня муж? Я – сумасшедший, помешанный… На красках. На печали какого-нибудь одуванчика полевого и на мировой скорби! Опять же нос – как булыжник. Не член Союза. Вот и не любишь меня.
– Ты, Эдик, себя любишь, свои холсты, краски. Сам признавался. И правильно делаешь. Эта любовь – перспективная… Я тебя, Эдик, тоже люблю, но…
– Но странною любовью?
– Чего ж в ней странного? Странно, что все вы от нее отказываетесь. Казалось бы, тонет человек, совсем ему плохо, а протянешь руку – так он не за нее хватается, а за какую-то соломинку. У вас у всех непременно своя соломинка имеется. Найти бы ну самого разнесчастного и в беде – доброго. Чтобы поверил. Не отказался от протянутой…
– Соломинки?
– Да. Только она – сердце. Мое сердце.
– Вон Тминному предложи. Может, ухватится? Хотя у него тоже соломинка. Правда, через нее он чаще кейф ловит, нежели спасается.
Тминный наконец-то выбрался из кресла, обеими руками волосы пружинистые к голове прижал, плечом дерзко повел.
– За Тминного слишком-то не переживайте. У Тминного книга скоро выходит. Его в Союз писателей примут. У него, у Тминного этого самого, по части мозгов – хоть отбавляй. Соломинку протягивают. Тоже мне…
– Ты что же, отказываешься? – Содрал Потемкин алюминиевую нашлепку с бутылочки. – Ну и дубье. От такой-то принцессы?
Даша ласково, как ребенка, обняла Тминного, дружески прижала его лохматую голову к себе. Была она ростом на голову выше поэта, и, глянув на них со стороны, Потемкин не сдержал усмешки. Смущаясь, Тминный высвободился из Дашиных материнских объятий. Кровь прилила к его рано изморщинившемуся лицу.
– Забавляетесь, – бормотал он, сдерживая себя изо всех сил, чтобы на крик не сорваться. – «Тминный, Тминный!» А ведь у меня имя есть. И отчество… Герасим Ильич!
Даша по-бабьи всплеснула руками.
– Обидела! Прости, Герасим Ильич! Ну ради бога! – и в полном отчаянье изо всех сил обняла Тминного. – Мне Эдик стихи твои читал – про коммунальную квартиру, здорово! И волосы у тебя шикарные… Тоже нравятся. И сам ты мне по душе… Я ведь запл а чу, Герочка, если не простишь меня, болтушку…
И тут Тминный в глаза Даше посмотрел, нехотя, невесело. И вдруг настоящие там слезы увидел, только синие, тушью окрашенные. И сам едва не заплакал. Потом задергался, заозирался. Потемкина в помощь себе за руку ухватил.
– Да помоги ты ей!
Разрядил атмосферу голос, возникший в лестничном, люке. По гулкой чугунной винтовушке кто-то напористо, весело поднимался, подкидывая вверх перед собой зазывные слова, словно голубей почтовых:
– Поступило! Предложение! Отметить! Заказ! Всей! Обителью! Под! Леща!
Наконец, в отверстии над полом показалась голова – светлая, лицо в курчавой, застиранной бородке – молодое, румяное, приветливое.
– Приказано артелью: свистать всех… вниз! Так что опускайтесь, Потемкин. И вы, Даша, и вы, товарищ поэт. Через полчасика. Сказочный заказ отмечать будем. Не против?
Потемкин милостиво кивнул, соглашаясь. Тминный руки со страшной скоростью потирать начал. После того как малознакомый профессиональный художник, член Союза, поэтом его назвал, Тминный заметно воодушевился, примиряюще улыбнулся Даше и Потемкину. А сама Даша, промокнув глаза платком, рассмеялась блаженно, словно ее в этот момент сердечная боль отпустила.
– Слава богу! А то ведь я чего только не передумала, пока сюда ехала. Такая смешная телеграмма!
– Герасим, – позвал Потемкин поэта, игнорируя Дашино воодушевление. – Видишь ли ты крюк в стене, Герасим? Тот, на котором веревочка? Как думаешь, выдержит меня?
– Крюк? Или веревочка? – запрокинул дремучую головку Гера.
– Не смей иронизировать! – топнул разношенным сандалетом Эдуард. – Этот способ надежнее. И я его применю.
– Пугаешь? – улыбнулась Даша Потемкину, жующему колбасу.
– Совершенствую метод. Вернее – способ. Рацпредложение вношу.
– Старо, – выдохнул Гера Тминный табачное облако. – Применяли неоднократно. А телеграмма скорей всего так расшифровывается: «Муравьи одолели» – это – мысли черные…
– Не «одолели», а «озверели», толкователь! – поправил Потемкин Тминного. – И не мысли, а деятели, которые бани оформляют! – ткнул Эдик кусочком сыра в направлении винтовой лестницы. – Красят, красят… Дай им волю – весь город, всю планету разделают под орех!
– Ну а… «зубы на полку»? – робко поинтересовалась Даша.
– Жрать нечего! И жареным пахнет! Раздражает.
– Пугаешь, как всегда. И, как всегда, неуклюже.
Снизу в отверстие люка проникала зажигательная музыка. Даша ухватилась за нее моментально, тело ее пришло в движение. В белых вельветовых брюках, в белой «тряпочной» кофте, сшитой из старой простыни и очень поэтому модной, Даша взмахнула руками и весело закружилась по комнате, вздымая вековую пыль одного из самых запущенных углов обители.
– Ты чего радуешься? – Потемкин ковырнул спичкой в зубах. – Думаешь, рыбу есть согласился, так и все хорошо у меня теперь? Наладилось?! Ошибаешься, красотка. Учти, я жив, пока ты не отвернулась от меня. Поняла? Пока ты мне соломинку протягиваешь. И не вздумай отвернуться, отвлечься – сразу на крюк! Под потолок… А все почему? Потому что я бездарен. Во-во! И не делайте изумленных глаз. Не столько в художествах, сколько в другой области, не в живописной – в обиходе, в быту бездарен. Пробивной моченьки нетути… Не обладаю оной. Заели, загрызли муравьи белокурые!
Слушая Потемкина, Даша танец свой вымученный прекратила, вся как-то сжалась, сгорбилась. И к Потемкину со следующими словами вдруг обратилась:
– Не вели казнить, вели выслушать. Прости, если не так что. При твоей гордости, замкнутости кто тебе, кроме меня, поможет?
– Ты это о чем? – остановился напротив Даши Потемкин. – Ежели про женитьбу – не надо. Ничего у нас с тобой не получится. Сама знаешь… Я – богема. В чистом виде. Ты – ангел. Натуральный.
– Не о том я, миленький…
Потемкин замер возле Даши, словно принюхиваясь, словно таким способом предугадать ее намерения пытался.
– Уж… не глотнула ли? За рулем-то? Досказывай, не томи. Чего натворила?
И вдруг художник на цыпочках, трепетно приблизился к Даше вплотную, поднес к ее светлому лицу свою холмистую физиономию и с артистической аккуратностью, изящно поцеловал девушку в лоб. Глаза его, глубоко зарытые в складки лица, какие-то подпольные, робкие, внезапно возгорелись. Стало вдруг заметно и довольно-таки отчетливо, что бедолага этот угрюмый, в нелюдимость свою с головой вросший, вовсе уж не такой каменный, замшелый и к Даше относится весьма нежно, и очень, видимо, от нее зависит, от ее к нему расположения. И дружбой с ней наверняка дорожит. А всяческие словечки ершистые выпускал из себя в ее присутствия; исключительно из оборонных соображений, а также с ее, Дашиного, милостивого соизволения.
– Угадай, миленький, у кого я вчера в гостях была?
– Мало ли… С каким-нибудь англоязычником столковалась?
– Как тебе не стыдно? Сейчас упадешь, если скажу… У такой важной персоны кофеек пила, аж самой не верится. У академика Поцелуева!
Потемкин вздрогнул, словно баржа, наскочившая на мель. Гуттаперчевый нос его побелел от волнения, будто его морозом сорокаградусным мазнуло.
– Кофе, говоришь, пила? С этим вельможей? Откуда ты его… Он же барин, этот Поцелуев.
– Что ты, миленький?! Поцелуев – любезный старичок. Очень внимательный и очень тихий. Тактичный. Рассматривал меня исподтишка… Отворотясь в зеркало. Из скромности. Ему глаза мои понравились. Он их в блокнотик свой занес. Острым карандашиком.
– Где ты у него была? В мастерской? С какой стати?
– А я тебе кто по профессии? Искусствовед. У меня диплом.
– Работу о нем писать собралась, что ли? Только учти: о нем уже все написано. Хорошее – все. А плохое не принято писать. Ну, говори, не томи, зачем к мэтру заявилась?
– Работы ему показывала… твои!
– К-какие такие работы? – нос у Потемкина опять порозовел, словно его к штепселю подключили, снабдив электричеством.
– Прекрасные работы, вот какие… И Поцелуеву они понравились! Вот. Особенно «Времена года». Те четыре пейзажа, которые у нас в гостиной висят. И мою голову под Марию Стюарт тоже предъявила. Да-да… И портрет Вивальди.
– Да ты с… с ума сошла! Да Вивальди-то на портрете на кого похож? На известного космонавта!
– Знаю. Потому-то академик и рассмеялся. «Баловство», говорит. Потом походил-походил по мастерской… А она у него метров сто туда и метров сто обратно…
– Ясно! Дальше что?
– Походил, ногами пошаркал и опять к портрету петушком подскочил: «Баловство!» – прочирикал, а затем еще: «Однако забавно!» А в самом конце прошептал себе под нос, едва расслышала: «Хулиганит, мерзавец, но пишет твердо и вкусно…» Потом спрашивает: «У кого учиться изволил?» А я ему: «У вас, Митрофан Афиногенович». – «Что-то, говорит, не припомню данной манеры. Он, что, в годах уже, подопечный ваш?» – спрашивает. Ну, я ему все как есть и выложила. Погибнет, говорю, ноги протянет, если вы ему руку не протянете.








