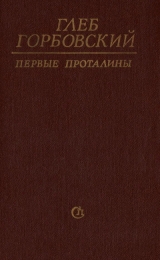
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
К тридцати годам Реутский, со злости женившийся, на той самой гимназической «даме» и не прощавший ей мимолетного увлечения Овсянниковым, сделался невероятно солидным, крупным, величественным, на улице обращал на себя внимание прохожих, любил носить полуказенный френч с огромными накладными карманами, голову брил, на носу его поблескивало пенсне. Преподавал Реутский математику. С Алексеем Алексеевичем впервые после разлуки поздоровался вежливо, но и как бы с затаенным ужасом, вздрогнуло что-то во взгляде, скорчилось. Года три проработали мирно. У того и у другого были успехи. Но успехи Овсянникова были ярче, оригинальнее. А потом начали поступать анонимки. На имя директора школы.
Сообщались в них различные неприятные сведения из жизни преподавателя русского языка и литературы Овсянникова А. А. Близились тревожные предвоенные времена. В воздухе, как пели тогда, пахло грозой. Жизнь становилась нервной. А тут еще эти анонимки… Содержали они сведения, на первый взгляд, пустяковые, бросовые. Но ведь из мелочей, из невзрачных осколочков разноцветных картина могла сложиться. К примеру, рассказывалось, что Овсянников-де женился на своей ученице несовершеннолетней и что у него вообще нездоровая тяга к малолетним, что он и сейчас, возможно, «живет» с одной из своих учениц. Нельзя-де ему доверять работу с детьми, опасно, рискованно. И вообще, этот Овсянников отличается странностями, пишет в письмах к знакомым вместо слова «Ленинград» старорежимное «Питер», а на одном из заседаний непонятно для чего организованного им литературного кружка с упадническим названием «Нюанс» договорился до черт знает чего: будто стихи Пушкина лично ему нравятся больше, нежели стихи Маяковского; и что однажды на майской демонстрации отказывался нести транспарант, ссылаясь на внезапную болезнь малолетнего сына, которого и взял вместо транспаранта на руки. Директор школы, слывший за человека живого, неказенного, уважавший Алексея Алексеевича как незаурядного, сильного педагога, к концу рабочего дня, когда опустела учительская, вызвал Овсянникова к себе в кабинет и напрямик задал несколько вопросов.
– Вот скажите, Алексей Алексеевич… Говорят, будто вы на своей ученице того… женились?
– Женился. А что тут такого? В свое время все мы учениками или ученицами являлись.
– Нет, но… как же… на несовершеннолетней-то?
– Ну и что? Маше семнадцать было, когда я ее встретил. Не такая уж редкость подобные браки…
– И что же… вот… слово «Питер» употребляете? Вместо «Ленинград»?
Алексей Алексеевич за очки схватился, на директора и так, и этак посмотрит.
– Шутите? Или как вас понимать?
– Нет, отчего же… Употребляете «Питер»? Мне важно до истины докопаться.
– Естественно, что употребляю… По привычке, так сказать. По инерции. Ведь все мы еще недавно в Питере жили.
– М-да-а-а. И что же… вот… стихи Маяковского меньше любите, нежели пушкинские?
– Меньше. А вы что же – больше?
– А я… вот… вообще стихи не очень… Я прозой больше увлекаюсь. И что же…. На демонстрации, говорит, транспарант нести отказались?
– Ребенок у меня, Павлуша, закапризничал. Вот я его… Ах ты ж господи! Да о чем же это вы меня спрашиваете, Исидор Лукич?! Что это на вас накатило?
– А то и накатило, что анонимка на вас! И все, что в ней накарябано, с вашими ответами сходится. Подтверждаете все! А я и не знал, что вы такой…
– Какой?
– А такой… можно сказать – вздорный. Не как все, одним словом.
– И что же мне делать?
– Не знаю, не знаю… Хорошо, если эти самые вот сигналы на вас только сюда, ко мне, поступили… А если еще куда-нибудь? «Разве такой преподаватель, который на несовершеннолетних женится, может в образцовой школе работать?» – спросят меня. Подавайте заявление, Алексей Алексеевич. Все равно вам несдобровать…
Обиделся Алексей Алексеевич. Горяч был, колюч и действительно вздорен. Поругался с директором, обозвал его ничтожеством. Но, поразмыслив, заявление все-таки подал. Подписал директор заявление и от Алексея Алексеевича отвернулся: в окно стал смотреть – на приближающуюся весну.
Обиженный, раздосадованный и малость растерявшийся, даже напуганный случившимся, вернулся Алексей Алексеевич домой.
– Маша… я должен уехать. Срочно. Какой-то негодяй – скорей всего Реутский – решил меня закопать…
– Что с вами, Алексей Алексеевич? – Маша подоткнула одеяло под бока разметавшегося на постели сына, улыбавшегося во сне так явственно, словно и не спал мальчик.
– Я… я боюсь! Вот что со мной.
– Вы что-нибудь совершили? Проступок какой-нибудь?
– Не болтай чепухи!
– Тогда… тогда я… – Машенька часто заморгала ресницами, в глазах вспыхнули слезы. – Тогда я не понимаю вас. Почему вы кричите, злитесь почему? На меня?
– Прости… Но ведь мне директор русским языком сказал: «Все равно вам несдобровать!»
– Не надо кричать. Павлика разбудите…
– У меня брат белый офицер!
– Сейчас нет белых офицеров. Успокойтесь, Алексей Алексеевич.
– Какая же ты наивная, Маша. Просто не верится…
– Мне молчать?
– Машенька… Выслушай меня внимательно. Как ты посмотришь, если я к твоему отцу съезжу? Навещу старика?
– А… а как же я? Мы с Павликом?
– На лето в Проклов. К моим сестрам. Денег я вам оставлю. Осенью соберемся опять все вместе.
Нужно сказать, что ко времени отъезда Алексея Алексеевича в Сыктывкар, а именно к весне сорокового года, Машенька уже пять лет как преподавала русский язык и литературу, и не в одной с мужем школе, не под под изрядно утомившей ее опекой, а совершенно самостоятельно, и, значит, пробираться по жизни могла теперь довольно сноровисто. От прошлого остались инфантильное обращение к мужу на «вы», способность по-кошачьи сворачиваться в углу дивана калачиком, вызывать у мужа определенную дозу нежности к себе. Той беспомощной провинциальной ученицы давно уже не было. Была мать первоклассника Павлуши, способная, симпатичная учительница, на уроки которой с удовольствием приходили молодые серьезные инспектора. Она уже не мыслила себя без этого прекрасного города, без его театров, белых ночей, встреч, улыбок. Внезапный, суматошный отъезд мужа Машенька восприняла как блажь, как поразившую Алексея Алексеевича душевную болезнь, тем более что в районо, ей было известно, мужа уговаривали остаться в школе, предлагали ему несколько других мест, но он почему-то заупрямился и поспешно уехал.
Всю прошлую зиму жили в городе тревожно, зажглись в подъездах синего стекла маскировочные электролампочки, свет в квартирах по вечерам зашторивали плотной материей. На предприятиях и в школах происходили учебные воздушные и химические тревоги. Советско-финляндский конфликт многих насторожил. В городе появились раненые. Люди увидели кровь. Пока что – сквозь бинты повязок.
В Сыктывкаре, бывшем Усть-Сысольске, Алексей Алексеевич поселился у своего одинокого безногого темя, работавшего в местной системе здравоохранения. Нашлась с помощью того же тестя, Ивана Александровича Степанова, и кое-какая работенка временная для сбежавшего из Питера педагога. Как-то за чаем разговорились.
– Скажите, Алексей Алексеевич, – старательно, «культурно» произносил каждое словечко бывший фельдшер, проскрипевший по своей северной, морозной жизни на протезах, натуральный мученик, занавесивший боль свою от людей светлой, доброй улыбкой, – скажите мне, так как я есть ваш родственник и сердечно переживаю за вас… Может, вы с Машей не поладили? Почему не всей семьей прибыли? Так я ей напишу… Ибо есть я ей кто? Родитель, и меня она любит.
– На работе у меня появились неприятности. Вот я, чтобы никого не подвести, и….
– Извиняюсь, по какой статье неприятности? Ударили кого или кража, прошу прощения?
– Не городите чепухи, Иван Александрович… Какая может быть кража? Какие статьи? Добровольно я к вам приехал. Погостить, отдохнуть. Былое вспомнить. Я ведь тут жить самостоятельно начинал.
– Как же, как же. Помню, знаю. Соображаю по силе возможности. Только ведь я к чему: добровольно-то в наши края одни вербованные, а чтобы вот так отдыхать, как вы говорите, – извиняюсь, не принято.
– А я… вздорный! – вспомнил Алексей Алексеевич словечко своего директора. – Оригинал я… Не такой, как все. Может такое статься?
– Может, Алексей Алексеевич, может, дорогой… Только ведь – хлопотно. Все равно как против ветра, извиняюсь, сморкаться.
Письма Алексей Алексеевич писал Маше ежедневно. И когда они с Павликом в Проклов на лето уехали, писал в Проклов. В каждом письме был постскриптум, где посылал свои приветы дочери и внуку фельдшер. Сперва Алексей Алексеевич, словно на подпись, подсовывал тестю очередное письмо, и тот старательно ставил свою закорючку. Позднее Иван Александрович уже сам поджидал момент, когда ему приветное слово дозволено будет в письмо вставить. А в конце короткого северного лета Машин отец серьезно заболел. Никто не знал, что у него такое, стал он таять. То ли желудок, то ли поджелудочная отказали. Во всяком случае, есть он почти ничего не мог. Алексей Алексеевич ходил с местными охотниками в парму, в тайгу, добыл там какого-то зверька пушного, грызуна, сало которого зыряне целебным в таких случаях считали.
Только не помогли ни сало, ни прочие полезные рецепты в виде трав, целебных настоев из них. Умер Иван Александрович зимою. Отмучился. Гроб ему маленький, как ребенку, сделали. Потому что когда протезы с него сияли, то и оказался этот человек как дитя, то есть короче того, прежнего, к которому все привыкли…
Маша на похороны отца приехать не смогла: морозы ударили невиданные, а сын Павлуша и так беспрестанно болел, простужался, да и с занятий школьных срывать его не хотелось, как-никак во второй класс уже пошел. Оставить малыша с Лукерьей тоже не выходило: мужнина сестра на производстве, где не то что с работы уйти – опоздать на пяток минут по тем временам преступлением считалось.
Похоронил Алексей Алексеевич тестя, совсем уже собрался в Ленинград возвращаться, как вдруг повторяется ситуация десятилетней давности: в Лесном техникуме заболевает тяжело словесник, и местное руководство «христом-богом» просит Алексея Алексеевича выручить их и поработать временно. И Алексей Алексеевич соглашается. Даже как бы с облегчением, если не с радостью, соглашается. Официально попросили. Законно. Никаких, стало быть, «птичьих прав» отныне. К тому же и Ленинград возвращаться он все еще побаивался. Заглянет в себя как бы с фонариком, пошарит там по закоулкам и вдруг поймет: рано, не весь из него испуг выветрился после той анонимки.
А еще почему-то на Машеньку злился: то ли ее верность, стойкость в разлуке проверить хотел, то ли мстил ей таким образом за покорное согласие на его отъезд из семьи (другая б волчицей выла, в ногах валялась: не уезжай!).
В самом конце апреля сорок первого года возвращалась Маша с небольшой учительской вечеринки, на которые ее приглашали всегда с утроенным усердием, так как, действительно, в любой компании становилась она украшением. Город успел отшлифовать ее внешность, природный ум она постоянно тренировала чтением, театром, общением, а те провинциальные, несмываемые робость и как бы даже застенчивость – придавали ее образу необъяснимую прелесть. И вот возвращается она с вечеринки по набережной, еще достаточно светлой, так как над городом первые размывы белых ночей в небе плавают, и зацепляют ее какие-то двое, пьяненькие, естественно, и, несмотря на то что она учительница и ей уже и общем-то под тридцать (чего никогда не дашь!), пытаются ее обнять, и за руки взять, и куда-то там в темный, пропахший кошками и дровами осиновыми двор завести…
И тут ей крикнуть пришлось. Голос подать, помощи у пустынной набережной попросить. И что вы думаете? Пришла помощь. Прямо с неба свалилась, точнее – из окна второго этажа на дно двора выпрыгнула. Полосатая вся, как после выяснилось – в матросской тельняшке помощь. Курсант Фрунзенского училища. Выпускник. Тренированный, не очень высокий, но с такими надежными плечами – завтрашний морской лейтенант по имени Миша. Вот кто выпрыгнул. Вот кто алкашей прилипчивых раскидал по двору, как поленья. Вот кто, если, забегая вперед говорить, станет Машиным другом, мужем несмотря на разницу в годах (на пять лет моложе), станет судьбой – до конца, до «смертного креста», как сказал поэт. Станет, однако, не сразу, не вдруг.
Проводив ее тогда до дому, Миша запомнил адрес и незамедлительно написал ей письмо. Началась короткая переписка. Короткая, потому что Маша ее вскоре прекратила. Ей вовсе не хотелось таким образом обижать пусть добровольного, но все же изгнанника-мужа. Алексею Алексеевичу она подробно описала случившееся с ней на набережной Лейтенанта Шмидта. И получила раздраженный ответ: нечего шляться одной по вечеринкам, у нее сын, у нее муж, у нее семья, и судьба у этой семьи не такая, как у всех, можно сказать – трагическая судьба. И ее долг – свято нести верность этой семье, а не обниматься в подворотнях… Вот такой смысл, такая подоплека полученного Машенькой из Сыктывкара письма.
Михаилу она сказала твердое «нет». Виделась с ним еще только один раз, когда он лейтенантскую форму обновлял и на набережной в «поплавке» мороженым ее угостил. За три дня до войны.
Чуть раньше, в самом начале июня, отправила Машенька в Проклов на летние каникулы сына к сестре Алексея Алексеевича тетке Евфросинье. На Варшавском вокзале радостная суматоха. Полно детей. Пестрота летней одежды. Запах паровозного дыма. Неповторимо зазывные, вдаль влекущие паровозные гудки. В купе под лавку положили Павлушин чемоданчик. Нашла Мария симпатичную попутчицу-старушку, ленинградку, при своем уме, ехавшую на одну остановку дальше Проклова. Упросила ее за мальчиком присмотреть и в Проклове на руки встречающей Евфросинье сдать. Долго бежала вдоль перрона за покатившимся составом, размахивала сумочкой, из которой сыпались документы, и которые, догоняя ее, собирал какой-то сердобольный старичок. Светлый одуванчик ее волос так и остался в памяти Павлуши на все четыре года его «дачной» эпопеи.
На этих страницах мы не станем рассказывать о Павлушиных скитаниях во время войны. Это отдельная повесть. А в двух словах поясню. От начала войны до взятия Пскова, а через день и Проклова время промелькнуло незаметно. Люди находились как бы в шоковом состоянии, ошеломленные ожидаемой войной. Вот именно – ожидаемой, и тем не менее – ошеломленные. Это как финал жизненный: все знают, что он наступит неминуемо, и все-таки все неизменно ощущают потрясение, ошеломление от его прихода.
Маша успела «протиснуть» в образовавшуюся щель между фронтом и железной дорогой, по которой последние пассажирские поезда, почтовые, уходили, тревожную открыточку в Проклов, где и просила слезно Евфросинью сына при себе держать и в Ленинград ни при каких обстоятельствах не отправлять. Дорогу уже бомбили. И вообще, ситуация менялась на глазах с каждым часом, с каждой новой минутой. Так и остался Павлик в Проклове, в том самом Проклове, где его романтический родитель в свое время поставил «декадентскую», призывающую к уходу от жестокой действительности пьесу в городском театре. К уходу – в себя.
Евфросинья во время оккупации умерла, – после того как единственный взрослый сын ее, прибившийся к партизанам, был публично казнен на городской площади: его повесили на столбе возле сгоревшего универмага. Муж Евфросиньи умер до войны, случайно приняв внутрь ядовитую жидкость вместо водки, словно предчувствовал, какие страшные времена к его тихому Проклову подступают.
И остался Павлик один. А было ему тогда одиннадцать лет. И главной его заботой, постоянной – с утра раннего и до наступления ночи, – стала забота прожить, выжить, устоять. Помоечная корка хлеба, картошина в чужой борозде, холодная постель в опустевшем доме, а потом и бездомье, когда вместе с фронтом ближе к Германии, в Прибалтику, откатился. Не все потерявшиеся, попавшие на положение бродяг дети во время войны хватали винтовку или трофейный автомат и сразу же вливались в ряды партизан или регулярной Красной Армии. В большинстве своем оставались они детьми, напуганными, беспомощными, сжавшимися в комок, и только со временем, постепенно привыкали и к голоду, и к выстрелам, и к крови, и к смерти, что шныряла возле них, задевая своим холодком. О детях на войне, о детях войны, предоставленных, так сказать, самим себе, еще не написано должным образом. Да и кто напишет? Только сам побывавший в их шкуре и сохранившим способность не только хмурить брови, но и улыбаться. Сохранивший себя.
Алексей Алексеевич с началом войны поспешно вернулся в Ленинград. С воинского учета в Ленинграде он не снимался, только отметился, уезжая. Повестка из военного комиссариата ожидала его на Машином трюмо, возле флакончиков с духами и коробочек с пудрой.
В свое время уволенный из армии по ранению, специальности военной не имевший, званий также, попал Алексей Алексеевич в рядовые пехотинцы. Носил на ремне тяжелую винтовку образца 1893 года. И вскоре под Лугой, где Красная Армия неистовое сопротивление немцам оказала, наскочил на гранатный разрыв во время очередной вылазки из траншеи и, взмахнув руками и, кстати, винтовки своей тяжелой из рук так и не выпустив, откинулся назад, плашмя влип в отяжелевший, плотный от ночного дождя, местами взрыхленный снарядами песок Лужской возвышенности.
Полуослепший и кровью истекший, подобран был немцами и в лагерь, находящийся под открытым небом (долина, колючей проволокой обнесенная), помещен. Опыт предыдущего плена времен гражданской войны, а также, несмотря на гибельные условия, человеческое участие помогли Алексею Алексеевичу выйти из этой Долины смерти, как ее окрестили впоследствии, живым.
Первые, прифронтовые, еще «нестрогие» лагеря с военнопленными охранялись немцами не слишком усердно. Конечно, если заметят с вышки, что ты в сторону от лагеря пополз или, пригнувшись, побежал – непременно пристрелят. Хотя километрами по следу за одним беглецом тогда еще не ходили. Это уже потом, в стационарных лагерях железный порядок соблюдался. «Орднунг» знаменитый, когда все четко, по распорядку: пища, сон, баня, крематорий, экзекуции, акции… Все четко, без отступлений ни на йоту. А в первые дни несколько иначе все происходило. И в лагерь, то есть в обнесенное проволокой поле, детям или женщинам тогда можно было кусок хлеба за «колючку» перекинуть или табачку кисет, а то и бутылку молока просунуть. И даже поговорить несколько минут с ближайшими к проволоке пленными удавалось. Выезжали с территории лагеря за ворота несколько бочек на телегах. Бочка за водой, да еще отхожая бочка золотаря, «параша». Лошадками управляли пленные. Водяную бочку немец сопровождал, а зловонную бочку не сопровождал никто.
И не удержали ни пьеса романтическая об уходе «в себя», ни очки, спасавшие от близорукости и делавшие лицо интеллигентным, ни вся восторженная, нестандартная натура: со всем интеллектуальным багажом, нажитым в городе на Неве, пришлось Алексею Алексеевичу в бочку, наполовину заполненную, полезть и сквозь дырку в картофельном мешке, которым возница отверстие накрывал, дышать жадно, дабы не задохнуться. Этим способом тогда из лагеря не один только Алексей Алексеевич наружу выбрался. Возницу внешне никак нельзя было назвать симпатичным малым. Лицо клином, остриги вниз, напоминавшее корнеплод с тоненькими корешками-волосинками на подбородке. Нос огромный, висячий, унылый. И фамилия у возчика удлиненная была, запоминающаяся: Воздвиженский.
Алексей Алексеевич, не вылезая из шинели, дабы не расстаться с ней навсегда, в самое пекло предобеденное лежал на земле, покрытой жалкими остатками вытоптанной и выщипанной травы, и с печальным и в то же время ироническим, «философским» видом рассматривал оправу своих бывших очков, погибших тогда, при взрыве гранаты. Бесполезную теперь оправу успел он тогда машинально засунуть в карман шинели. И вот рассматривал… Над ним остановился высоченный дядька. Печальный и… дурно пахнущий. Даже здесь, в лагере, в мешке, набитом людьми, а значит, и всем их разнообразным содержимым: словечками, запахами, движениями, побуждениями, поступками, взглядами и т. д., даже здесь дядьку этого открыто сторонились, не все, конечно, и не сразу, но стоило кому-то носом потянуть, как становилось ясно: золотарь! И отворачивались, и держались от него по возможности дальше. А бывший учитель не отвернулся. В плену, в условиях диких, поганых, убийственных, он вообще сделался к людям внимательней, участливей, снисходительней. На память та, далекая, в приднепровских болотах происшедшая Адамова гибель являлась. Душа, глядя на страдания людей, теплела, размягчалась, не давая сердцу щетиной себялюбия обрастать. С Воздвиженским они нельзя сказать чтобы подружились, нет. Да и дружить во временном летнем лагере было некогда. Но жест участия к себе в глазах Алексея Алексеевича Воздвиженский успел уловить. И благодарностью, видимо, проникся. А затем и «бочковой» план побега предложил. А в итоге – к самому лесу в кустарник ольховый вывез, где и оставил. Днем Алексей Алексеевич гимнастерку и галифе в речке отмачивал (шинель пришлось выбросить вовсе), а ночами по болотам к Ленинграду пробирался.
Дома, у себя на Васильевском, был он всего одни сутки. Успел в баню сходить – угол Большого и Девятой линии. Парился с невероятным остервенением, но запах, казалось, уже никогда от него не отвяжется. К жене близко не подходил. Потом куда надо явился. Взяли, проверили. Все сошлось. И – снова на фронт. И так до победного дня.
В блокаду Маша не эвакуировалась. Зимой, когда уже умирала медленно, когда впервые на улицу за пайком не вышла из квартиры и когда к ней вечером под одеяло соседка Женя залезла, пытаясь Машу своим рабочим, более «калорийным» (на Балтийском заводе работала) телом согреть, в дверь квартиры сперва робко, затем все настойчивее и настойчивее принялся кто-то стучать, затем дергалку с колокольчиком на проволоке дергать. Как же не хотелось вылезать из-под одеяла, но пошла-таки Женя на кухню, потому что не просто звонили, а как бы даже слезно умоляли открыть – минут десять, не меньше, тишину будоражили.
Так в Машиной жизни вторично появился Миша. Михаил Данилович, морской офицер, появился, чтобы спасти, отогреть, накормить и в дальнейшем уже глаз с нее не спускать. Когда очухалась и на ноги встала, пристроил он Машу в какую-то часть воинскую санитаркой. Курсы она затем медсестринские окончила. В госпитале работала. Затем этот госпиталь в глубь страны эвакуировался. И попал туда раненый Михаил Данилович. Без правой ноги и с незаживающей дыркой в легких. И остались они в этом городе возле госпиталя жить. И война уже кончилась, а Маша от Михаила Даниловича ни на шаг не отходила. Кашлял он кровью – баночку ему подставляла. И не могла она уже к Алексею Алексеевичу вернуться: любовь новая – вернее, настоящая, подлинная – не позволяла. В Ленинград она письма Лукерье писала, о сыне спрашивала, но сведений о мальчике не было.
Алексею Алексеевичу отважно в письме, которое он после войны на кухонном столе в квартире обнаружил, все объяснила. Устоял учитель. Спасибо жизни: закалила. И тут же, давая выход из положения, второе письмо Алексею Алексеевичу подбросила. Рядом на кухонной клеенке лежало. От младшей сестры Татьяны.
Устал Алексей Алексеевич к тому времени смертно, хоть пластом в землю ложись и не поднимайся – это уж так оно и было, без притворств. А в Кинешме в это самое время эвакуированная младшая сестра Алексея Алексеевича учительницей работала. Вот она-то и заманила братца письмом в глушь заволжскую. Подыскали Алексею Алексеевичу в районо спокойную школу сельскую, где учительница на пенсию вышла, и туда, в деревню Жилино, определили. А у самого учителя дополнительная, затем в главную переросшая, цель в жизни появилась: нашелся Павлик, сын утраченный в заварухе военной, и требовалось теперь к жизни его приручать, на ноги ставить, и что самое трудное – без матери родной все это проделывать, чтобы к обучению в школе мальчишку подготовить, суровой отцовской рукой к раскрытому учебнику голову его непослушную, беспризорную пригнуть. Маше в своем к ней первом и последнем послевоенном письме Алексей Алексеевич так и написал:
«Сына я тебе не отдам. По крайней мере сейчас, когда ему твердая рука и любящее сердце необходимы. У тебя этих „инструментов“ никогда не было. Так что предоставь его мне. И убедительно прошу: не открывайся ему пока. Не баламуть в нем чувства сыновние. Никуда они не денутся, при нем и останутся. А сбить с пути правильного не так уж и трудно. Особенно матери, которая далеко и на которую взглянуть ему непременно захочется».
Разузнав, в какой именно колонии находится его сын, отец списался с начальством этого заведения, выяснил, за что изолирован сын и сколько ему осталось «перевоспитываться». Прожив зиму в постоянной тревоге за сына и не получив от мальчика ни единого ответа на свои к нему письма, отец было собрался уже ехать к нему, когда Павел неожиданно сам пожаловал к отцу, из этой самой колонии убежав.








