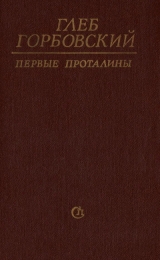
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
– Да, да… Все цело. Ни единой щепочки с места не сдвинуто. Городские не добрались еще. А деревенские, которые из соседних деревень, по старой привычке или памяти уважают это место. Ну и побаиваются малость. Как-никак ворожея… Однако доберутся рано или поздно. Грибники какие-нибудь. Заволжские-кинешемские. Вот я и решил иконки Килинины отсюда унести. У нее ими целый угол завешан был. Хочешь, одну тебе дам? В бога не веришь, конечно?
– Да нет. Еще чего! Скажете тоже… Что я – бабушка?
– Дурачок. Это ж произведение искусства. Художник эти иконы рисовал. Живописец. Смекаешь? – Дядя Федя нацедил в граненые стаканы кипятку из самовара, долил в них до полного какой-то ароматной заварки из чайника с отбитым наполовину носиком. Пододвинул Павлуше мраморный осколок чистейшего сахара. – Пей, Павлик, бабушкин чай. На ее травах пользительных заварочка. Смесь, букет… Помянем рабу божью Акилину. Чтобы ей там, под яблонькой, весело лежалось… Сам-то откуда будешь? Не ленинградский?
– Ленинградский! Как это вы… угадываете? От бабушкиного чая передалось?
– Речь у тебя нездешняя. Не окаешь. Хотя и не акаешь по-московски. На букву «и» нажим производишь. «Чиво», «нинада». Так питерские мазурики балакали… Бывал я в ваших краях. Належался в болотах. Еле разогнулся после войны. Спасибо Килине опять же… Растиркам ее бесподобным.
– Вы что же, под Ленинградом воевали?
– Воевали, – улыбнулся огромным, будто резиновым ртом дядя Федя, обнажив длинные бобровые зубы. И что удивительно: губы его при улыбке не вширь разъехались, а вверх и вниз завернулись.
– Кем же вы… в очках-то воевали? Писарем небось?
– А воевали мы – солдатом. Простым, значит, бойцом. Пока не контузило и зрение не испортило. А как эти самые окуляры нацепил, так сразу и повышение вышло: в саперах отделением, то есть артелью, бригадой, командёрствовать научился. С топориком в основном. По бревенчатой части. Давай нацежу еще стаканчик. Вкусная жидкость?
– Вкусная, спасибо… Приятная.
– На здоровье. Хотя вон ты какой розовый, выпуклый на щеки. В наших-то краях зачем оказался?
– К отцу приехал. В Жилино. А щеки у каждого свои – какие есть. У вас они тоже не очень-то приятные. И по части мазуриков поосторожней. В Ленинграде не мазурики, а ленинградцы. Которые, кстати, немцев к себе не пустили.
– Опять ты, Паша, чересчур серьезно заговорил… Ну да ладно, извини, если не так сказал. А батька твой никак учителем?
– Не «никак», а на самом деле… У него образование высшее.
– Не Алексей Лексеич?! То-то, смотрю, напоминаешь ты мне будто кого! Да у тебя, Павлуша, не отец, а, можно сказать, – человек!
– Вы его знаете?
– Еще бы! Не только знаю, но и запомнил навсегда. Случай со мной случился в прошлое лето. На смычке… На пароходе «Урицкий», который с одного берега на другой по Волге плавает возле Кинешмы. В город я за радиоприемником тогда собрался. На «Рекорд» у нас с женкой сумма была накоплена. И лежала эта сумма у меня под дождевиком в левом нагрудном кармане гимнастерки. На медную пуговицу застегнутая. А вор – он что? – в самую гущу толпы непременно вонзиться норовит. Чтобы с тобой покрепче обняться, ощупать тебя, как курицу: нет ли у тебя яичка золотого под одеянием?
Как только «Урицкий» боками своими лохматыми о дебаркадер заскрипел, еще матросик чалку как следует не завинтил о кнехт, а народ уже к сходням рвется: сгрудились, сузились в проходе, а потом, когда выперло нас и очутился я на смычке, первым делом карман свой ощупал: цело! Бугорок под плащом на месте. Я и успокоился. Обилечивали прямо на смычке. А проверяли – на выходе. Раз-два! – переплыли матушку, приставать собираемся. Народ опять в кучу – масло давить… Личности примелькались уже, которые при посадке локтями работали. Мужичонка мне один, махонький, востроглазый, даже подмигнул, и я ему улыбнулся. Ну и выкатились в итоге на кинешемский песочек. Сейчас, думаю, в гору вздынусь и на базарной площади в столовку зайду: винегрету пожую. Погладил себя для страховки по дождевику, а пальцы скользни в какую-то щель… В прореху! Глянул, а на груди по дождевику разрез. И пуговичка с кармана гимнастерки – тю-тю! Под самый корешок… – Дядя Федя обнял пятерней свою редьку-подбородок и комично так провел по нему пальцами, как бы воду с него стряхивая дождевую. – Обработал меня какой-то умелец, пока высаживались. Скорей всего – тот, который подмигнул. Помнится, стою, как будто меня мешком пыльным огрели. Улыбаюсь, челюсть сама так и отпала. И по карманам себя обыскиваю, хотя наверняка знаю, что деньги в нагрудном ехали… А я и в заднем, и плащ весь перетряс, словно бекасов этих самых, которые вши, ищу. И подходит ко мне, думаешь, – кто? Гражданин в синих очках. Ну, форменный мазурик питерский. Это если с первого взгляда. И особенно после того, как тебя только что радиоприемника «Рекорд» лишили, который с проигрывателем. Радиола по-нынешнему… «Извините, заявляет, не могу ли чем помочь? Полезным быть? Вы, кажется, озабочены чем-то?» – «А вот пройдемте», – говорю и крепко так беру его за руку и веду на рынок – в сторону пикета милицейского.
Он почему-то не сопротивляется. Меня это поначалу смутило, а чуть позже, как базаром шли, насторожило даже: любой карманник непременно или канючить начнет, или попытается руку свою из твоей выдернуть и с толпой смешаться, благо толпа на рынке самая подходящая для этой цели.
Заявляемся в милицию. Я его, очкастого, сразу же к барьеру и свой дождевик порезанный к лицу дежурного пододвигаю: нате, мол, вам, любуйтесь вещественными доказательствами. И правый кулак с изнанки в щель-прореху просовываю. «Вот!» – говорю, а сам чуть не плачу, хотя и улыбаюсь. «Что значит „вот“?» – переспрашивает усатый старый лейтенант, такой милицейский дедушка, и глядит на меня несерьезно, как на фокусника, которые на рынке обыкновенно в «три листика» играют.
«Как это что?! Денежки, которые на приемник, – вырезали!» – «На какой такой приемник?» – якобы не понимает ничего лейтенант. «Не важно, говорю, на какой… Нету их теперь, вот в чем загвоздка. И подозреваю лично этого гражданина в очках. Проверьте у него документы. Сразу видно – гастролер!»
Смотрю, улыбается мой воришка, очки с носу снял и головой из стороны в сторону покачивает, будто у него вода в уши налилась.
Проверили документы. Откуда-куда – поинтересовались. Оказывается, учитель. Фронтовик недавний, раненый, и так далее, и тому подобное. И еще: будто бы я его выручил однажды. Там, на войне… Признал он меня. На грудь кинулся. А я и не вспомню никак поначалу-то. На войне каких чудес не происходило с людьми. Во сне не приснится такое… А теперь-то он с конференции учителей, которая в Кинешме проходила, возвращался. Домой, к себе в Жилино. Проверила милиция документы, все сошлось. Я, конечно, загрустил, извиняться начал. Мол, так и так. Приемник хотелось послушать… Всю войну другую музыку слушали. Короче говоря, достает «воришка» из своего дождевика бумажник и аккуратно из него какие-то деньги вынимает и мне их протягивает: «Возьмите… Здесь сто рублей. Я домой теперь еду. И мне они пока что не нужны. А вам в городе понадобятся».
И адрес мне свой пишет на обрывке газеты. Вот так мы с батькой твоим и познакомились вторично. Позднее-то я и в гостях у него был, и чай пил. Благо жилинские леса моего кордону. Раньше мимо чешешь, а теперь непременно в его школе остановку делаешь. С председателем тамошним, Автономом Голубевым, интересы у нас разные. А с Алексеем Лексеичем сходные.
– А как же приемник?
– А приемник я подешевле купил. Простенький, трехламповый. Однако ловит и музыку, и последние известия. И футбольные игры. Я за ЦДКА болею. А ты за кого? Небось за «Зенит»?
– Я за себя болею. А что? Нельзя, скажете? – улыбнулся хитренько.
– Можно, почему же… За себя постоять никому не возбраняется. Но если постоянно за одного себя болеть, можно и проиграть… У людей так не принято. У хороших людей… Вон твой папа…
– Ну и что – мой папа?! На днях он за какую-то пьяную тетку заступился. И в глаз от ее мужика получил. Синяк и теперь еще не растаял.
– Во! Это и есть, братка, самый главный знак отличия – такой вот синяк, который за доброе дело получен. Орден Справедливости. Ты на своего батьку молиться должен. Бога благодарить, что живой он у тебя из геенны огненной вышел. А что, неужто промеж вас несогласие?
– Зануда он! Учитель, одним словом. Дотошный. Давит, давит… Что я – кролик подопытный? «Учись, учись, пропадешь, погибнешь!»
– Ну а… забывши все это, которое не по нраву, – учебу, наставления, – ежели как на духу, скажи-ка вот – любишь отца?
– А это уже мое дело!
– Заплакал бы, если б его, не дай бог, убили или в тюрьму запрятали?
– Не говорите чепухи! Странный вы какой-то… – Павлуша осторожно, как в заминированном пространстве, привстал из-за стола и к растворенной двери, на выход, попятился.
Дядя Федя, задумчиво улыбаясь, голову чуть ли не к самому столу опустил, на Павлушу якобы ноль внимания. Снаружи избы, где-то далеко за лесом, все отчетливее погромыхивал гром. Когда ухнуло особенно явственно, так что в стакане дяди Феди меленько, чуть слышно задребезжала чайная ложечка, лесник, огладив корешок своего подбородка, взбил на морщинистый низенький лобик очечки и тихо так, вкрадчиво попросил Павлушу:
– Миленький, папу-то своего… того – люби. Кто папу любит, ну и маму понятное дело, тот и землю свою… и все ему дорого в этой жизни. И радости у него больше, чем у холодных эгоистов. Ладно, ступай уж. Ты ведь и сам грамотный. По глазам вижу. Только ведь и сердце в человеке постоянно обучать необходимо. Сердешной грамоте. И здесь любая секунда, тобой прожитая, учителем способна обернуться. Война, лес, одиночество, гром небесный или вот с тобой встреча: вона сколько учителей у меня… И все одному главному учат: спеши из себя человека сделать, а не скотиной оставайся, или зверем, или там еще каким червяком…
– Мне идти нужно, – раскраснелся, застеснялся Павлик, порываясь бегом бежать от разговоров, словно уличающих его в чем-то, и вот комедия! – справедливо уличающих… И в то же время отмахнуться от человека, напоившего тебя чаем, наговорившего о твоем отце столько интересных слов, так хорошо и необычно улыбавшегося (не вширь, а как бы вверх!), было уже невозможно.
– Привет Лексеичу передавай. Скажи, мол, кланяется Федор Иванович Воздвиженский. Передашь?
– Передам. Обязательно.
– Вот и умница. Беги, сынок. И гроза ежели захватит – под большое дерево не становись. Лучше в кусточки, в ельничек-лапничек. Беги, не то батька хватится. И еще просьба: не унывай! Улыбайся почаще. А не то язву желудка наживешь раньше времени.
Выйдя на крылечко, Павлуша носом к носу столкнулся с Кучумом. Собака, встав на задние лапы, передними уперлась в перила крыльца и пристальным взглядом провожала парнишку, пока тот на яблоню розовую оглядывался, в окно дяде Феде рукой махал, а как только за колечко гремучее калиточное взялся – сорвалась с места и, весело вращая пропеллером хвоста, прошмыгнула вместе с Павлушей наружу – на пустынную кроваткинскую улицу.
Небо над головой синело огромной сверкающей прорубью, в центре которой плавало солнце, а вокруг – по всей ширине – венчиком клубились громадные, хлопковой белизны, облака, на западе будто подкопченные, овеянные грозовым дымком, перерождающиеся в угрюмую ворчащую тучу.
Глава восьмая. Княжна
Из шестнадцати лет, которые удалось Павлуше прожить на земле, шесть смело можно назвать скитальческими, непутевыми. Его маленькая, невзрослая, но весьма жилистая философия – устоять, проскочить, вывернуться, выжить – воспитала в нем за годы войны, а еще больше за месяцы колонии множество способов выживания. И прежде всего был он крайне внимательным. Ежели спотыкался, то непременно оглядывался: обо что? Запоминал. Изучал повадки взрослых людей. И частенько благодаря своей внимательности предугадывал события. Мог, где это было выгодно, заплакать или, наоборот, окрыситься, зубки показать.
Однако наряду с приобретенным уживалось в нем и врожденное – скажем, если не доброта, то жалость. Во время войны и в колонии прибивались к нему собаки, ибо знали, бессловесные, что этот – даст. Пусть не сразу, не тотчас, с оглядкой, но что-нибудь непременно отломит, отщипнет и незаметно уронит, чтобы другие мальчишки не видели и слабость в нем эту не заприметили. Однажды в колонии, когда проигравшегося в карты, красивого, из интеллигентной актерской семьи, мальчишку выпало Павлику казнить или миловать, когда остальные пацаны воровского толка стояли возле дверей чулана, где Павлуша при свечах должен был избить, унизить проигравшегося, стояли в ожидании рыданий и стонов, чтобы дружно хором запеть «Катюшу» и тем самым плач проигравшегося заглушить, – шепнул вдруг Павел своей жертве: «Кричи, дурак! Притворяйся, натурально чтобы… У тебя ж родители артисты: играй роль, красавчик… Ну, раз, два, три! На-ко тебе, сука!» Бац! – треснул Павлуша кулаком о свою ладонь, затем о стенку чулана. И пошла как бы катавасия. Заскулил, засопливился хлюпик довольно-таки натурально, а потом и вовсе на собачий вой перешел, задергался на полу, в пыль-грязь вымазался. Под дверью «Расцветали яблони и груши» поют что есть мочи. В общем, отлично они тогда комедию разыграли. Ко всему прочему Павел, пожалев слабака, верного слугу в его лице приобрел.
А сегодня отца сделалось жалко. Как никогда прежде. Павел запоздало сообразил, что отец, прослышав о взрыве, наверняка переживает исчезновение сына… Смутная вина перед отцом пробиралась в сознании мальчика, как путник сквозь метель. И как бы на самом выходе из этой метели, на дневном ярком свету представился Павлуше отец, согнувшийся над нечвой с винегретом, с нерассосавшимся синяком под больным глазом, городской, нездешний, в огромных деревенских валенках… Павлуше захотелось немедленно побежать к отцу, что-то сказать ему необыденное – нежное, ласковое, что-то такое, на что у подростка зачастую духу не хватает. И… не побежал, не зажегся той нежностью. Только вспыхнуло в нем доброе желание и тут же потухло. Есть такие спички. Не идеального качества. Хоть одна да отыщется в коробке. Неполноценная.
Не побежал. И это несмотря на сосущую сердце жалость к отцу. Пугали очки… Вернее, то, что под ними таится. Неприготовленные уроки расхолаживали. Конечно, он знал, что в итоге все равно вернется. По причине ли жалости или разумения трезвого, то есть расчета, а скорей всего по зову желудка, ощутившего винегретную тоску, так или иначе, но возвращаться в школу предстоит неминуемо.
Синее небесное море над головой сузилось до размеров глухого, прощального окошка. Еще несколько мгновений, и громоздкие, казалось, такие неповоротливые на первый взгляд облака проворно замурозали, заткнули синюю дырочку. Откуда-то слева, затем справа и, наконец, над самой головой Павлуши раздались короткие грозовые разряды. Молнии он почему-то не заметил. Сверкнуло минуты через две. Резко и как-то размазанно, во всех направлениях. Павлуша начал считать про себя и досчитал до пятнадцати, когда воздух – и казалось, не только воздух, но и землю – потряс многоступенчатый обвальный грохот.
Пес Кучум, поджав хвост, припустил по безлюдной улице к дому бабушки Килины. Павлуша так и не понял: чей он, Кучум? В конуре лежал тогда, будто он в ней родился и вырос. Но ведь в Кроваткине жителей никаких нету. Дядя Федор – лесник с кордона – просто чай по старой привычке пьет, на пути к своему дому. И собака Кучум не иначе его собака.
Но уж такой сегодня день суматошный выпал на долю Павлуши: едва от одной встречи отделается – другая подстерегает. И где? Можно сказать, в пустыне лесной…
Порожний желудок все отчетливее давал о себе знать, словно закручивался внутри живота снизу вверх – тряпочкой в трубочку. Ноги сами несли по мшистым подушкам кочек вдоль молчаливого, надежно замаскированного травой ручья. Сейчас Павлуша выбежит на прозрачную вербную долинку, где камень блистючий, а рядом с ним и дорога; в одну сторону на Жилино идти, в другую, через село Козьмодемьянское, – на Александровскую фабрику. Все ясно, все четко как на ладони. Вот и вербочки, вот и… фигурка человеческая возле камня! Неужели Капка, чума болотная, дожидается его?
Первые капли, редкие и огромные, как хулиганские плевки, звучно шлепали, ударяясь то там, то тут о прошлогодние листья на проселке, о неровную поверхность воды в ручье, о молодую зелень над головой Павлуши, а вот теперь – и по самой голове стукнуло.
Фигурка возле камня сидела живая, беспокойная, полностью накрытая прорезиненным макинтошем, вертела под ним головой непрестанно и явно подсматривала за происходящим вокруг – в щель не доверху застегнутого плаща.
«Откуда у Капки макинтош?» – остановился Павлуша в недоумении, прячась за вербным кустом, на котором, как дым от костра, висело еще множество потемневших от дождя сережек.
Из-под плаща, приглушенное прорезиненной тканью и расстоянием, донеслось игривое хихиканье, перешедшее в неподдельный визг сразу же после того, как лес пронизал разряд электричества и страшный грохот накрыл собою все живое и неживое на земле.
Грозы Павлуша не боялся. Ни в розовом, уютном детстве, когда отец, гуляя с ним по Ленинграду, однажды специально продержал его под дождем минут пятнадцать, объясняя пятилетнему сыну это красивое явление природы и словно ловя молнии рукой. А застала их гроза, помнится, где-то возле Невы, чуть ли не напротив Медного всадника. Отец тогда еще удивился: такой кроха, такой комок трепетный, а глаз от грозы не прячет и даже улыбается навстречу, будто на празднике новогоднем при виде иллюминации елочной.
Не боялся Павлуша грозы и тогда, когда один, без родителей, посреди военной сумятицы очутился. Не потому ли и все наземные, рукотворные грозы переживать ему было как бы сподручнее: ночные, с подвешенными на парашютах гигантскими люстрами, бомбежки; артиллерийские дальнобойные дуэли, в зону которых он попадал вместе со всеми не причастными к военным действиям существами – птицами, зверюшками, насекомыми, рыбами и деревьями; не от этого ли врожденного отсутствия громобоязни он и войну беспощадную перенес легче других сверстников, многие из которых по ночам еще долго будут вздрагивать и потом холодным обливаться. Мало того – он даже любил страшненькое: зачарованно смотрел не только на грозы небесные, но и на земные пожары, на большую весеннюю воду; ветер шквальный, мускулистый, нравилось ему головой насквозь пробивать. И когда позднее, в школе, «Песнь о Буревестнике» наизусть усваивал – делал это не механически, а с вполне осознанной радостью.
Мирное, размеренное течение жизни действовало на него истязаюше, и выносил он эту пытку покоем гораздо мучительнее, нежели тревогу.
Дождь грянул напористый, пулеметный! Под плащом заверещало еще заливистее, а когда электрический разряд вспыхнул, казалось, где-то перед глазами, сразу же гром словно от камня блестящего мячиком вверх отскочил! Существо, притаившееся под плащом, не выдержало и громко позвало:
– Ой, Павлушенька, миленький! Боюсь…
Павлуша, раздвигая рукой стебли дождя, не торопясь, степенно подошел к камню, возле которого притулилась фигурка, заглянул под плащ, и тут его цепко горячая рука ухватила и под навес к себе как миленького втянула.
«Княжна Тараканова!» – ужаснулся Павел. Сердце у него вмиг словно испарилось, растаяло от страха и предощущения беды.
– Вот ты и попался, воробышек! – задышала ему в ухо. – Теперь уж я тебя не выпущу… Ой! – И Тараканова неожиданно резко подскочила, так как в ямку возле камня, где она сидела, змейкой метнулась из травы шальная пузырящаяся вода.
– Бежим! – Княжна потянула Павлика за собой куда-то в глубь леса, в тишину лохматую, под ельник лапчатый, водонепроницаемый.
Павлуша, когда под плащом у Таракановой очутился, мгновенно дразнящие запахи съестного успел уловить: скорей всего хлебом свежим пахло и салом с чесноком. «Что это у нее в узелке?» – плотоядно подумал.
– Павлик, а я тебя поджидала.
– Зачем тебе?.. Шпионишь!
– Капку возле кирпичного завода встретила. Она и проговорилась.
– А меня там не ищут? Не слыхала?
– А чего тебя искать? Не маленький, чай… У меня к тебе просьба. Как к мужчине. Поможешь?
– Чего еще?
– Мадам Олимпиада, мамаша моя, в Козьмодемьянское меня командировала: бабке нашей могилку подправить. Тут и идти-то всего пару километров. Управимся – пообедаем с тобой. У меня яички, сваренные вкрутую, хлебушек с маслом и даже вон колбаска.
– Что, думаешь, я колбаски твоей не видел? Да я до войны… торт «Полено» вот такими кусками ел! А яйцами бросался! Да-да! Сырыми. Не веришь? Я в детском саду уже хулиганил. А дома, когда мать на работу уйдет, увижу в окно: какая-нибудь шляпа по двору идет, ну и р-раз! – в нее с четвертого этажа. Однажды с дворником пришли. А меня бабушка ничья, которая в коридоре без прописки проживала и тюрю ела, в сундуке своем спрятала.
Княжна Тараканова порывисто погладила Павлушу по голове, откинула ему со лба волосы мокрые, дождевые, нежно и пристально в глаза парнишке посмотрела.
– Бедовый ты… Герой, – прошептала. – Я ведь и про завод знаю. Кто его нынче на воздух поднять хотел. Скучно тебе здесь, Павлик, удалая головушка. А ты со мной подружись, поиграй. Мне тоже скучно. Мы с тобой одинаковые. И земляки вдобавок. Подумаешь, на год я тебя старше… Ну, на полтора. Разве это разница?
– Не в разнице дело. Ты девчонка. И все надо мной смеяться будут.
– Я не девчонка. Я женщина, Павлик. Я женщина, ты мужчина. Хочешь, я тебя целоваться научу?
– Да я… да я тебя сам чему хочешь научу! Училка…
Тараканова невесело улыбнулась. Взяла Павлушу за обе руки, долго стояла так, в сантиметре от него, глядя в серые, с весенней зеленцой, испуганные глаза парнишки, и вдруг потянула его на себя. Резко. Бесстрашно падая назад, на спину, – без оглядки, правда, в отчаянье зажмурив перед падением свои сумасшедшие глазищи. Упали они под вербный куст на мягкие, осыпавшиеся с ветвей, теперь мокрые сережки.
Павлик прижал Тараканову к земле так сильно, как будто боялся, что она вырвется и улетит в небо. И вдруг Княжна ни с того ни с сего хитренько щекотнула его вдоль спины по ребрам, будто гвоздем раскаленным провела, да так, что дыхание у Павлуши от веселого ужаса перехватило, и мигом он от земли, от груди Таракановой вверх подпрыгнул, а затем, словно щенок, змеей ужаленный, в траву покатился.
На ноги встали одновременно. Девушка юбку клетчатую, «шотландку», одернула, на поясе вокруг талии туда-сюда покрутила, не переставая улыбаться, жакетку черную бархатную от приставших к ней вербных шишечек отряхнула, сумку с провизией из-под куста извлекла.
– Идешь со мной?! – задорно и вместе с тем требовательно спросила-приказала. – Проводи меня, Павлик. Боюсь я лесом. Шляются здесь всякие… которые абажуры из кожи людской делали. Вон Груздева Оля, почтальонша… Где она? Как в воду канула. А ты, Павлик, мужчина, мне с тобой не страшно будет. Тем более что не на танцы… На кладбище иду. Боязно. Проводишь?
– Ладно. Идем. Кладбища испугалась. Землячка называется.
– Не кладбища, а привидений. Которые от покойников исходят… Павлуша, у тебя мама в Ленинграде… на каком похоронена?
– Не знаю! – вздрогнул, съежился вдруг парнишка. Насторожился, словно его обмануть или обидеть попытались. – Не знаю, поняла?!
Не дожидаясь, пока Тараканова с места сдвинется, остервенело от нее отвернулся, прыжками – с ноги на ногу – выбрался из кустов к дороге и так, держась несколько впереди Княжны, поскакал в сторону Козьмодемьянского.
– А ну постой! – крикнула вдогонку. – Остановись, говорю… Вкусненького дам!
Остановился как бы нехотя. Прутик зеленый пушистый-запашистый сломил. Начал от воображаемых комаров отмахиваться. Нагнавшая его Тараканова голубую пачку «Беломора» на ходу распечатала, выдавила из образовавшегося отверстия папироску. Предложила парнишке:
– Кури. Это тебе не махра, не самосад навозный. Питерские! Фабрика Урицкого! – И, как бы предупреждая Павлушкино любопытство, пояснила: – Мамашины кавалеры снабжают. Бери, угощайся.
– Ничего себе «вкусненькое», – разочарованно сорвалось у Павлуши.
– А тебе что же – сладкую конфетку подавай?
– Заткнись, конфетка! – Павлуша выхватил папиросу, степенно, как это делали некоторые взрослые курильщики, размял пальцами табак, а твердую бумагу мундштука дважды промял-сплющил с разных сторон. Павлушины спички на дожде окончательно размокли, так что прикуривать пришлось от зажигалки «заграманичной», которую Тараканова опять же из своей многообещающей кошелки извлекла.
На кладбище пришли часа в два пополудни. Грозовые облака умчались куда-то вбок, не по ветру, а несколько левее, обнажив ярко-синее глубокое небо. Изрядно припекало. Тараканова сняла с себя нарядную бархатную жакетку, расстегнула кофтенку белую, крепдешиновую, затем как-то незаметно, в момент, когда Павлуша вослед убегавшим облакам смотрел, осталась в голубом, воздушного цвета, лифчике и таких же штанишках, обшитых кружевами.
– Можно, я… позагораю? – спросила кротко, потупив взор.
– А могилку дядя будет обрабатывать? Говори, что делать? Да и неудобно тут… загорать.
– Одно другому не мешает, глупенький. Солнышку не все ли равно: на пляже человек загорает или на кладбище? Раздевайся. Вон, белый как молоко. Лопату возьмешь, песочку от берега наносишь.
Ограды сельское кладбище давно уже не имело. Располагалось оно в полукилометре от Козьмодемьянского – выше по реке, зажатое с трех сторон глухим кустарником, а с четвертой стороны повисшее над самой водой реки Меры, которая неустанно, год за годом подмывая в паводки берег, вгрызалась в кладбище, некогда удаленное от реки, точила, рушила бугорок погоста, будто решила во что бы то ни стало к определенному сроку смыть его с лица земли. Если глянуть на кладбище снизу вверх от реки, особенно по весне, сразу же после большой воды, то и доски гробовые, торчащие из толщи берега, обнаружить можно.
А вообще-то местность здешняя для приезжего глаза приятна. И сердцу полезна: успокаивает. Случись вам однажды здесь, на кладбище, на старую, с удобными, плавно выгнутыми ветвями-сиденьями сосну забраться и посидеть там, озирая мир без суеты желаний земных, – тут-то и постучится в сердце ваше восторг робкий, не нахальный, и вы, повинуясь его шепотку неназойливому, как бы прозреете ненадолго, не навсегда, увидев картины беспечальные, доселе неведомые, только за гостеприимную сосну крепче держитесь. Тогда прежде всего долину реки обнаружите. Вся неровная, клубящаяся зеленью и синью, налитая сизым воздухом и посеребренная увилистым пояском речной влаги. Разве питали вы свой мозг чем-то подобным, живя от этого дива в двух шагах, рукой подать, смотря на все это уставшими от очков, бессильными глазами горожанина и ничего, кроме поверхности земли, не ощущая? Питали, конечно, но чем? Блеском неживых репродукций? А здесь, над простором ожившим, над зеленью дышащей, что-то толкнуло вас как бы, восторг какой-то сердце обволок, и вы прозрели изнутри, духовно. Любовь ли тому виной или нечто проще, но произошло чудо: вы увидели красоту. В обыденном.
Княжна Тараканова, как на грядке морковной, деловито полола траву на могиле, неодетая, такая живая, яркая. От сырой земли на ее тело веяло зимней стужей застойной, глубоко проникшей внутрь под почву, и девушка, ощущая этот подземный холод, иногда поеживалась бессознательно, с удвоенной энергией выгибая спину навстречу солнечным лучам.
Из глубины жасминового куста извлекли спрятанную год назад ржавую лопату с полуистлевшим черенком. Здесь же, на территории кладбища, Павлуша обнаружил покореженное ведерко с проржавевшим насквозь дном. Закрыл дыры на его донышке щепками, стал носить в ведре песок береговой – устилать им середину могилки и все огороженное оградой пространство Таракановых. На кресте черной тушью из пузатой баночки подправили даты жизни усопшей в войну старушки: «1870–1943 гг.» А также буквы фамилии – «Куницына».
– Мы Таракановы по отцу. Замуж выйду – обязательно сменю фамилию.
– А вдруг у твоего мужа еще страшнее фамилия будет? К примеру, Червяков? Что тогда?
– За Червякова я не пойду. У тебя хорошая фамилия. Овсянников! Нравится. Махнем, не глядя?! А что? Может, одолжишь через пару годиков? Когда тебе восемнадцать исполнится?
– Это почему же?
– Потому что ты еще… права голоса не имеешь. Вот почему.
– Болтаешь, Танька, как ненормальная… Чего разделась-то? Заболеть хочешь?
– А тебе что же, выходит, жалко меня? А ты и пожалей. Погладь меня по головке. Я несчастная. У меня бабушка умерла. Слушай, Павлик! – Переменила тон и, резко забравшись ногами в юбку, заторопилась куда-то, засуетилась, подхватывая кошелку с продуктами и подталкивая Павлушу локтем на выход с кладбища, туда, к берегу реки, на зеленый, прогретый солнцем бугорок. – Давай-ка с тобой перекусим. А то и впрямь знобко что-то…
Все из той же неисчерпаемой кошелки доставала Тараканова розовое полотенце, стелила на еще не высокой, но упругой, жилистой траве. Положила на тряпку полкаравая хлеба настоящего, ржаного, нарезанного ломтями, маслом склеенными. Рядом с хлебом – колбасы краковской полкружочка, четыре яйца, крашенных луковой шелухой, пасхальные еще, расположила; соль в спичечной коробке присоединила; бутылку молока, газетной пробкой заткнутую, выставила. «Ну и ну! – Ударила снедь по голодным глазам мальчика. – Это тебе не винегрет батькин, не силос. И откуда у бухгалтерши харч такой мировой, красивый?»
– Садись, Павлик, опускайся на траву. Это еще не все, у меня ведь не только закуска, но и… под закуску имеется! Эх ты, котенок! – рассмеялась она безрадостно, хотя и беззлобно, неожиданно подмигнув Павлуше левым глазом, упершись позади себя руками, откинув голову и выпятив грудь в лифчике. – Ты бы на меня так смотрел, как на… колбасу смотришь. Чудной ты еще, Павлик. Что с тебя взять.
Тараканова выудила из кошелки большой плечистый флакончик с голубой завинчивающейся пробочкой – то ли из-под тройного одеколона, то ли еще из-под чего непродуктового, химического.
– Во! – взболтнула содержимое бутылочки. – Первач! Свекольный… Отначила у мамаши. Пей да дело разумей, понял?!
– Думаешь, я твоего первача не видел? Да я в войну коньяк французский из бочки пил. Не веришь? Хочешь, расскажу?
– А ты сперва глони… А потом рассказывай хоть «Тысячу и одну ночь»! А лучше «Декамерон». Ну, выпьешь со мной? Нашего, русского первачку?
– Выпью… если не отрава.
– Вот и молодчик. Отвинти пробочку. Ты сильный. А я ноготки могу поломать, испортить. Мне мои ноготки жалко. Маникюр-то еще с Кинешмы держится. Пей!








