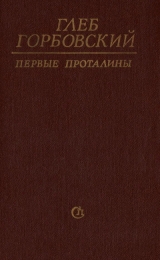
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
– И что же, – не унималась «теща», – по какому принципу жить совместно собираетесь? На какой моральной основе?
– Чтобы все, как у людей!
– Во-во… Это теперь первейшая заповедь. И что же, значит, семья, ребеночек, тряпочки? – закрыла очередную клетку изящная бабуля.
– И ребеночек будет. Платоша. Все тип-топ.
– Тип-топ, говорите? А вы мне нравитесь. Какая семья без… тип-топ, то бишь без ребеночка?
Старушка, от игры бочоночной не отрываясь, продолжала теперь о своей дочке распространяться, причем несерьезно как-то, словно подсмеиваясь над Дашей, а не цену ей набивая.
– Она ведь у нас святая… Слыхали про таких? Блаженная. Нынче большая редкость подобная категория людей. Однако не перевелись. Это как гений, только необнародованный. Гении обыкновенно трех видов бывают: признанные, непризнанные и которые о своей гениальности не догадываются. Такая неподозреваемая гениальность чаще всего не в науке, не в художествах, а исключительно по сердечной части. И для чего, думаете, применительна такая, с позволения сказать, гениальность? Чтобы придурков различных чаем угощать? Не только. В основном, чтобы солнышку светить помогать. И греть. Дом или даже целый город от холода лютого оборонять. Одного такого блаженненького достаточно, чтобы целый город от погибели уберечь.
Чай пить в большую комнату перешли, в просторную, со скрипучим паркетом, прогибающимся под ногами Стаса, как болотная трясина. Огромный, черного дерева стол, тронутый резьбой и кой-где жучком-точильщиком. Темный буфет с остатками дорогой посуды, напоминавший средневековый замок. Стенные часы, круглые, как глаз гигантской птицы, наблюдающий за происходящим так же бесстрастно, как естественный спутник Земли.
На подоконнике толстый журнал, открытый настежь. На страницах журнала, похожие на отъевшихся, сочных клопов, – коричневые семечки от недавно скушанных яблок. Среди горшочков с кактусами и алоэ большая бело-серебристая люминесцентная лампа уличного применения, словно бритая голова небольшого Фантомаса. На стенах изрядное количество картин. Среди них несколько вещей «молодого» письма, подобных портрету в прихожей.
Стасу нравилось, что люди в Дашиной семье мягкие, тихие, не матерятся, не рыкают голосами, хотя и не пыжатся, а сидят себе и запросто в лото играют. И вместе с тем, обстановка в квартире солидная, монументальная, нерушимая. Не лотошная, серьезная.
А Даше новый знакомец почему-то начинал наскучивать. Чужой, громоздкий, неуютный. Да ко всему еще и женатый. Тянется к ней довольно безыскусно. Но – чужой. Невыстраданный. Короче говоря, не Он. Не Тот.
– Небось нагорит вам от своих? От семьи?
– Никакой семьи нету! – заспешил, скороговоркой зачастил Стас. – Два, этих самых, самолюбия всего лишь навсего… Банальная история, клянусь! Не разглядели друг друга, когда, пардон, обнюхивались… А потом, когда, в рейс уходя, двери за собой с облегчением закрывать стал, понял: чужие!
– Значит, у вас настоящая жена есть? Не шутили? Спасибо. Законная жена… Черт возьми! Да вы просто Рокфеллер! Такое богатство. А вот у меня всего лишь Эдики. И когда они при моей помощи созревают, когда на них опираться самое время, тут-то у них и подгибаются ноженьки. А мной овладевает… музыка. И чаше всего старинная: Глюк, Вивальди, Перголези, Бортнянский… Интересно вам про такое?
– Интересно. Хотите совет? Рядом с вами сильный, современный, удалой человек стоять должен. Чтобы вы не упали. Мужчина, одним словом.
– Такой, как вы?
– Откуда я знаю… А что?
– А то! Эдики мои – трогательные, смешные, беспомощные. Их выручать нужно. У беды отнимать. Проявлять сочувствие. А вас от кого спасать? Вас не спасать, вами подпирать что-нибудь хочется. Какой-нибудь дом покосившийся. Самый интересный из моих недотеп – это Эдик, который художник. Это его работы у нас: пейзажи, моя голова. А в прихожей заказной портрет Антонио Вивальди. Я заказывала. Только Эдик не взял с меня за работу. На день рождения подарил… Рисует Эдик совсем неплохо. Только чудит. А все почему? От непризнания. Признали бы, в Союз художников пригласили бы, дали бы выставиться как следует – он бы сразу остепенился. Я знаю… У меня чутье на этот счет, в смысле боли потаенной. Очень одинокий художник Эдик мой… Единственный друг у него, кроме меня, – Гера Тминный. А ведь Гера сам непризнанный. Эдик Потемкин дробью стрелялся. Гера с Исаакиевского собора спрыгнуть хотел. Да я отговорила. Нас тогда на подмену в Исаакии попросили поработать. Веду иностранцев наверх, город им показываю с птичьего полета. Вдруг вижу: маленький человек прислонился к перилам ограждения, голову под руки себе опустил. Я думала: человеку плохо, кружение перед глазами или еще что… Я даже за ребенка его поначалу приняла. А когда он от перил глаза приподнял, вижу: плачет человек. И не какой-нибудь Филиппок растерявшийся – взрослый мужчина. Я к нему. Что случилось? А Тминный, это был он, грустно так поинтересовался: «Скажите, – спрашивает, – а еще повыше нельзя? Во-он туда?» – и указывает на самый последний ярус, который давно уже на ремонт в соборе закрыт. Тогда я все поняла и за руку Тминного беру, чтобы вместе с ним на землю сойти. Ухватился он за мою руку, да так цепко, что я в тот день работать больше не смогла: повела Тминного в табор чаем отпаивать.
– А про шпалы на Витебской дороге? – иронически улыбнулся штурман. – Вы что же, дважды его спасали?
– Про железную дорогу он сочинил. У него про это самое поэма написана. Ему кажется, что про железную дорогу правдоподобнее. Он всем рассказывает, что я его спасительница. А ведь Гера не только чудной, он еще и смелый, отчаянный. Однажды в Летнем саду на высокое дерево залез и никак его оттуда снять не могли. Пока я не пришла и оттуда его не выманила. Когда спрыгнул, пришлось у милиции прощения за него просить. Законной женой назваться. Иначе в больницу свезли бы.
В этот момент на кухню, где Даша со штурманом уединились, прислали за самоваром Тминного, и рассказ и нем оборвался.
Внешне Тминный напоминал коненковского деревянного мужичка-лесовичка, только очень волосатого, обремененного могучей, цвета пакли шевелюрой. А шея – тонкая, ребеночья.
На кухню Гера прибежал, воодушевленный стопкой водки, которую перед чаем преподнес ему Дашин отец Афанасий Кузьмич, человек простецкой формации, чувствовавший себя в родной семье несколько сиротливо, хотя и не обойденный любовью ближних.
С Ксенией Авксентьевной познакомился до войны, до ранений, бравым физкультурником, уступив ей в июльское пекло, последний у газировщицы, стакан воды: не успел к губам поднести, как зашипело, газ в баллоне кончился, и вся очередь поскучнела моментально. Тут-то Афанасий и протянул тоненькой девушке огромный свой кулак, в котором воробышком малым, от страха запотевшим, стакан газировки поблескивал.
К Тминному, человеку улицы, на которой Афанасий Кузьмич фонарями заведовал, к этому современному бродяжке, пилигриму квартирному, льнуло безыскусное сердце Дашиного отца, как льнет на дожде и ветре дерево к дереву где-нибудь в городском саду. И если с отставным полковником, а по другим сведениям – генералом Лахно у фонарщика отношения сложились хотя и дружественные, но какие-то торжественные, то с Тминным Афанасию Кузьмичу было куда проще хотя бы глазом всего лишь перемигнуться: держись, мол, Гера, где паша не пропадала!
И сразу же, после того как Тминный самовар под мышки взял и прочь с ним умчался, на кухню женщина прибежала, озабоченная, немолодая, но и не старая и, как про себя отметил Стас, еще недавно принимавшая участие в игре в лото. Ее движения были двоякого свойства: то резкие, нервные, крутые, то внезапно плавные, заторможенные, в глазах смесь изможденности и какого-то бешеного восторга. Целеустремленная и одновременно бесшумная, как ночная птица, напоминала она заряд замедленного действия, готовый взорваться в любую секунду. Счастье занятости, причастности, нужности людям – вот причина ее восторга, вот магический состав, проникший в душу и плоть этой бессемейной женщины и приподнявший ее над изнурительностью быта. Человека, отмеченного этим счастьем, можно безошибочно выделить из толпы, как можно выделить из толпы заболевшего или опьяненного. Женщина эта лихо подвесила на свои указательные пальцы по фарфоровому чайнику с заваркой и так же плавно, как и появилась, летучей мышью отпрянула из кухни.
– Это Нюра Хлопотунья, мы ее Хлопотуньей прозвали. Мамина очень дальняя родственница. Откуда-то с Волги родом. Хлопочет постоянно. Общественница. Сейчас она за какую-то старушку с запутанной трудовой биографией хлопочет. Намерена ей пенсию на десять рублей увеличить. Нравится ей хлопотать. Слово-то какое… птичье! Словно крылышками – хлоп-хлоп! Только у нас в России могло такое усердное словечко возникнуть: хло-по-тать! За кого-то о чем-то просить, доказывать что-то, беспокоиться, усердствовать.
– И что же… так вот и «хлопочут» каждый день за столом?
– Лото внедрил генерал. Он самый молчаливый в компании, и затея с лото – его тактический маневр. Чтобы руки были заняты, а мыслям простор.
– И о чем же говорят? Мемуары небось устные? Что, почем до войны стоило?
– И мемуары. Только чаще – на ощупь рассуждают. Шарят, за что бы им зацепиться, за словечко какое или мысельку. А там и поехало! Обычно Шишигин Игнатий, сегодня он отсутствует, проповедник одиночества доморощенный, который без собеседника дня прожить не может, так вот Шишигин этот какую-нибудь цитатку или фактик из головы у себя выдернет и незаметным образом, как дыма колечко, поверх лото подбросит, и все дружно начнут шарить, улавливать, а затем и вдыхать подброшенное, в том числе и я. Скажем, позавчера обронил он невзначай, да еще с долей сарказма, известную фразу: «Возлюби ближнего, как самого себя». И началось. Нюра Хлопотунья с возмущением пламенным: «Вам дивья ближнего любить! Вас вон тут сколько. А ежели нету его, ближнего? Ежели одна я как перст?! Нет, ты мне дальнего полюби… А то – „ближнего“. Да мы только и делаем, что ближнего любим, а ты вот-ка незнакомого, постороннего приголубь! От которого не то что спасибо – оплеуху в любой момент схлопотать можно!» Не разобралась в горячке, кто ближний, а кто, по библейским понятиям, дальний. Папочке Афанасию «как самого себя» не понравились слова. «Самого-то, говорит, себя любить разве хорошо? Это себялюбие называется». Ну а мамочка, как самая интеллигентная и начитанная, все нм в конце концов растолковала – как и что. Генерал наш Лахно, тот, в основном, помалкивает или вставит несколько слов, вроде: «Любить надо не ближнего, а достойного»– и опять онемеет, пока до него очередь «банковать», бочонки лотошные из мешка вытаскивать, не дойдет. А Шишигин согласится с объяснениями мамы для вида, а сам дальше пойдет в рассуждениях, что-де, конечно, любить человека можно и нужно, только почему меня-то лично никто не любит? И каждый, мол, так возропщет: почему не меня, почему другого ближнего? Я, что ли, не человек? Намерений благих много, а заглянешь в душеньку любого, то и что же ты там увидишь? «Свечечку одиночества, невесть кем зажженную, которую ледяной смертельный ветер задуть старается. И, в конце концов, задувает». А Гера Тминный, служитель муз, декадент самодеятельный, ручки потрет как бы от удовольствия и всех неприятно порадует: «И правильно, что задувает, и очень даже справедливо. Не задуй, так Земля с орбиты сойдет. От перегрузки. Жизнь – кино. Посмотрел ленту и лети из зала! А то рассядутся…» И тут Гера стихи поэта Баратынского непременно прочтет, про санитарную и вообще полезную деятельность смерти…
О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
……………………………
Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли – губительного тенью,
Злак не восстал бы до небес.
Вообще-то, я Геру Тминного всерьез очень редко принимаю – и как поэта, и как пугало… Просто он из несчастных, и для меня закон – таких жалеть. А ведь пугать-то он ох как любит! И тогда с Исаакием, и с деревом в Летнем саду. Или вот возьмет да и заявит всему табору, что-де самый гениальный поэт в России это Федор Сологуб, а не Пушкин. И стихотворение «Чертовы качели» того же автора – самые мудрые стихи. А то повадился на Смоленское кладбище ночевать ходить. Возле могилки того же Сологуба. Каждую весну ходил он туда запросто, как на мероприятие, как в оперу – торжественно, с цветами. И винца бутылочку прихватить не забудет. А чтобы охотнее шагалось, художника Потемкина напарником себе уговорит. Сядут возле Сологубовой могилки и празднуют. Их даже милиция оттуда прогонять перестала: за своих признали… Потом якобы заночевали в сыром склепе. Только не верю: пугает. А Шишигин книжки современные читает, за научными открытиями следит, нет-нет да какую-нибудь свеженькую гипотезу подложит во время игры в лото. Словно террорист. Подложит и наблюдает, как и что. О происхождении Вселенной путем взрыва на днях поведал. И еще о том, что когда-то, в самом начале, не только ничего живого не было, но и мертвого, неживого, то есть никаких даже мельчайших частиц элементарных, никакой материи, ничего абсолютно. Полный нуль. И что какая-то Сверхсила, Сверхволя взяла да и произвела взрыв. От которого все и пошло на все четыре стороны!
А в другой раз забудет, что уже говорил об этом на предыдущем «заседании», и опять про взрыв, но вдруг опомнится и, чтобы себя реабилитировать, примется как бы углублять или расширять прежде сказанное, что вот, мол, сомнительно это «на все четыре стороны», когда сторон этих, по разумению Шишигина, не четыре, а, скажем, пять, что эта пятая сторона как раз и есть та самая «сторона обетованная», куда люди всех времен душой-помыслами стремились, то есть – духовная область, а не Вологодская или Семипалатинская. А вы говорите: ло-то-о. Да у нас тут про самое что ни на есть глобальное калякают. Пока руки игрой заняты.
– А этот отставник… Видать, пожил в свое удовольствие? Такой на его лице покой нерушимый. И значение.
– Лахно?! Милейший дядечка. Хотя и угрюмец с виду. Не в своей тарелке человек. Понять можно. Его от армии отлучили, а он еще силы полностью не растратил. Вот он и окаменел внешне. Не обиделся, а как бы раскаялся. Внутри-то он не такой монолитный, я знаю. Представляете, чуть ли не всю жизнь военным был. Не числился, а являлся. Образ жизни железный. Вот он и побледнел, когда отставили. Из-за беспомощности мужской. И вдруг о моем отце вспомнил. Вместе служили. Теперь-то он не пропадет возле нас. Малость, конечно, переродиться ему предстоит, вот он и перерождается помаленьку. В основном путем молчания. Гражданский образ жизни постигает. Смиряется, прислушивается, прирастает к среде… Он ведь невоенной-то жизни и не знал. Нуте-ка, выпустите прирученного, дисциплинированного медвежонка в глухую тайгу за существование бороться! Он тебе и сядет на пенек, и пригорюнится, и задумается, когда в этот самый момент по сторонам необходимо главами рыскать, а носом принюхиваться. Да и когти заодно о колоду точить-вострить. Вот он и сидит пока что на пеньке и выкликает номера… Отец при его появлении стойку «смирно» все еще принимает. Это как рефлекс. Старшиной роты в его полку служил. А Лахно злится, когда отец стойку делает. Зубами пытается скрипеть, но больше – стулом. И зовет отца чаще фонарщиком, хотя отцу больше нравится, когда его Лахно старшиной величает. Отец лампочки перегоревшие в городе новыми заменяет. Провода оборванные связывает. Столбы фонарные, погнутые, выпрямляет. Отец славный. Не любит он только… Эдиков. Хотя не ругается на них, нет. Просто меркнет лицом при упоминании, огорчается. Он и вас потом в Эдики зачислит. Пойдемте к ним. Они понять хотят: кто вы? Маме-то я шепнула, как и что… Потому что и впрямь сердечница. За нее не переживайте: пусть повеселится. И учтите: если кто-то из них попросит вас рассказать о небе, то и рассказывать нужно о небе, самолетах, а не о том, что вы женаты и какая у вас красивая бурная Инга, и как вам терять ее не хочется.
Потом весь табор уселся за стол, не имеющий углов, довольно продолговатый, напоминающий уютный стадиончик, покрытый старинной льняной скатертью, пожелтевшей от времени, как прошлогодняя трава. Возле Ксении Авксентьевны самовар на мельхиоровом подносе. Все вдруг неожиданно резво привстали с мест и, словно с приветственными рукопожатиями, потянулись к ней с чашками.
Афанасий Кузьмич, человек внешне малоприметный, с длинной узкой лысиной, будто корова шершавым языком по голове его прошлась, тугоплечий мужичок, произвел какое-то, едва заметное движение, какой-то порыв в его мешковатом теле наметился, и сразу Ксения Авксентьевна поощрила супруга улыбкой и одновременно, словами:
– Скажи, родименький, не таись.
– А и скажу! Не заржавеет… Ежли это зять, тогда одно дело, а ежели Едик очередной, тогда другое. Что ни говори, а не каждый день мужья, то есть зятья в гости чай пить приходят. Короче говоря, тебе виднее, сынок, кто ты есть на самом деле. Ежли зять – держи пять! – протянул фонарщик руку. – А ежли сумлеваешься, так и скажи, не темни. Нам с энтим не привыкать. Дочка у нас нескучная. Нет-нет да и развеселит.
Не успел Стас решить про себя: брать ему или не брать руку фонарщика, как в дверях комнаты три молодых человека появляются. Один моложе другого, по ранжиру как бы. И ростом все трое ступенчаты: высокий бледнолицый шатен – Дашин братец Георгий, суровый, но любящий Дашу, как и все в доме, младший братец Федя, весь в отца-фонарщика (такой же сиволапый, приземистый и достаточно уравновешенный эмоционально), а промеж братьев – Илларион, Федин товарищ и дальний родственник. Глаза у этого недоверчивого большелобого юноши-подростка раскрыты настежь, распахнуты, в непреходящем как бы изумлении пребывают. Слез, сырости на их голубизне никакой вроде нету, сухие, даже как бы раскаленные зрачки, а приглядишься:; плачут глаза. Словно видят нечто, чего другие не замечают. Как сказал поэт: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Все остальное в подростке, если ему в лицо, в глаза блестящие не смотреть, выглядело достаточно прочным. Мальчик стройный, изящный, золотоголовый. В обтрепанных модных джинсах. Благородная вельветовая курточка на плечах. Однако же Стас, когда молодые люди в дверях появились, первым делом на этого странного подростка внимание обратил. Чем-то он, если хотите, Дашу неуловимо напоминал, малолетка этот простодушно-серьезный. Страстностью, незащищенностью. Но сходство меж ними явно прослеживалось. И различие. Помимо чисто наружного: на Дашином лице теплый свет, в повадках веселость, тогда как в Илларионе-Ларике прежде всего бешеная серьезность из всего облика выпячивалась. И не живой, горячий свет исходил, а как бы электрический, без огня и дыма.
Мальчики уселись на свободные места, и Стас тут же о них забыл. Его Даша интересовала. С каждой минутой все больше. Еще на кухне, перед чаепитием, Даша смущенно улыбнулась ему, брякнув просьбу:
– Стас, миленький! Пока никого на кухне, поднимите меня на руки к себе. Никогда еще никто на руки меня не поднимал. Кроме мамы… Хочется испытать, пока живая и не слишком старая, пока встречные мужчины улыбаются. Потом-то меня, когда бабушкой сделаюсь, разве поднимет кто? Санитар «скорой помощи»?
Стас смущенно и довольно нервно, отрывисто подхватил ее под коленки и одновременно под лопатки, выжал на руках тело девушки, словно посторонний груз, без улыбки, с окаменевшим выражением лица. И тут же по-быстрому вновь ее на ноги поставил.
– Спасибо. Теперь знаю. Очень похоже на сон. Детский…
У старшего братца Георгия, который Стасу руку с пренебрежением протянул, на верхней губе шевелились темные реденькие усики, напоминавшие длинноволосую шелковистую гусеницу. Сквозь усики эти просматривалась яркая, белая, городская кожа. Был он, братец сей, и движениях резок, спортивен, наверняка в секции каратэ занимался укрощением плоти, отчего определенная уверенность в повадках выработалась и отчетливый дух превосходства в темных глазах просматривался.
– Значит, муж? – улыбнулся Георгий задиристо, притом не губами одними, но и как бы бровями и одновременно редкими усиками шевельнув довольно комично. – Здесь уже привыкли к Дарьиным неожиданностям. И все-таки каждый раз не перестаешь ликовать и удивляться. До потери сознания. Потому что ни свадьбы, ни хотя бы скромненькой отметинки по данному поводу ни разу не было. Может, я подарок гименейский хочу сделать? Может, облобызать желаю родственничка очередного?! Вот и предъявите мне… штампик! Да-да. Которым женатых людей клеймят!
Наступила неловкая пауза. Те из присутствовавших, что пили чай, старательно забренчали ложками, увлеченно из чашек прихлебывать взялись. Даша вздрогнула и захохотала. И только серьезный мальчик с изумленными глазами, смотревший на Дашу непрерывно и безо всякого удержу, как смотрят дети на поразившее их явление природы, спохватился, сообразив, что Дашу обидели. Сообразил и сразу же ощетинился на обидчика.
– Почему, почему вы такой всегда жестокий, дрянной?! Ядовитый такой?! Да скажите же ему, – обратился подросток к Стасу, – скажите ему, чтобы он извинился! Если вы муж… Защитите!
– Да никакой он не муж. Что я, не вижу? Очередной Эдик. Разве не так? – поворотился Георгий лицом к Даше, в гармошку растянув свои иронические редкие усики.
Стас, красный, раскаленный от стыда и обиды, обиды невиновного, неуклюже приподнялся из-за стола, смущенно помаргивая и как бы ища глазами Дашиного позволения на дальнейшие действия, которые самостоятельно в незнакомой ему среде предпринимать не решался. Приподнялся над столом и Георгий. Не такой высокий, как Стас, но весьма агрессивно настроенный. Тело свое натренированное в струну вытянул, вот-вот зазвенит весь от напряжения… Но Даша опередила обоих. Мягко, словно и не руками вовсе, а все той же улыбкой всесильной, потянула она Стаса обратно на стул. Затем, домашняя, «уменьшенная» – без каблуков, к чернявому братцу подступила, ключик автомобильный, на стальное колечко посаженный, перед его усиками на пальце завертела.
– Жорик, лапушка, не наседай… Ты, наверное, из-за машины переживаешь? Разве так можно? Ключик я тебе все равно не отдам. Мне без машины нельзя: я при ее помощи восстанавливаюсь. Одни душ после работы принимают, третьи водочку или там на «бродвей» выходят в поисках ощущений, а я за рулем возношусь! «Балдею», как принято сейчас говорить. А вернее, от мыслей разных суровых, городских очищаюсь…
– Тебе нельзя ездить! Ты ворон ловишь во время езды! Я знаю…
– Тебе кого жалко-то? Меня или машину?
– Мать жалко! Поняла?! Надоели твои кандибоберы всем!
– Дурачок ты у меня, Жорик… Злючка-колючка. Ладно но уж, успокойся. Замирись. Пофантазировать нельзя… Ну, не муж, не жених! Штурман просто! Чем плохо? Не угодила опять? Простите, если обидела. Думала приятное сделать. А Стасик – рыцарь. Сейчас я его поцелую!
Все, кроме нервного юного Иллариона, словно загипнотизированного Дашиной улыбкой, отвернулись: кто в чашку с чаем уткнулся, кто ногти себе осматривать начал; даже Георгий к столу спиной встал, а через секунду и вовсе вышел из комнаты на кухню. Даша порывисто погладила Стаса по рукаву пиджака.
– Милый, добрый Стасик! Простите великодушно. Вот – уговорила человека во влюбленного поиграть… А разве в такое играют? Да еще ни с того ни с сего? Чего уж там темнить… Не проведешь их, родименьких наших…
– Значит, что же… не муж?! – выкрикнул, захлебываясь от волнения и неосознанной радости, мальчик и дорогих джинсах.
– Значит, не муж. Где уж нам уж выйти замуж.
– И не жених даже?! – взвизгнул юнец то ли обиженно, то ли восторженно.
– Да господь с тобой, Ларик! Чего уж так волноваться-то? – подала из-за самовара продубленный «Беломором», тяжеловесный голос Ксения Авксентьевна. – Уроки-то на сегодня приготовил? Без тебя-то разве не выяснят, кто кому кем доводится?
– Да как же, как же им не стыдно врать-то?! – вспыхнул паренек еще ярче, бросая гневные взгляды теперь уже в сторону Стаса.
И тут Даша придвинулась к мальчику, ласково погладила длинные волосы Ларика, бледными сосульками свисавшие с остроконечной головы. Представляя его Стасу, произнесла:
– Это Илларион. Понимаете, Стасик, его нельзя обманывать, даже из добрых побуждений. Все уже привыкли, притерпелись ко лжи, а Ларик не привыкает. И никогда не привыкнет! И запросто может умереть, отравиться ложью…
– А себя, себя-то вам не жалко?! – вспыхнул последний раз усыпленный Дашиными руками Илларион.
Наконец-то все чинно вокруг стола расположились, приглушенно чай втягивать принялись. И тут как расплата за обман, как наказание за насмешку над Любовью на миг в комнате, а может, и во всем мире возникла тишина звенящая… От неожиданности, от удара по нервам тишиной металлической каждому друг на друга посмотреть захотелось, но никто на это не отважился. Словно холодом из вселенной на них дохнуло, и какой-то как бы зигзаг ледяной трещиной по их ощущениям прошелся, парализовав на мгновение жар жизни, но сразу же и отпрянул, дав отдышаться и вновь приступить к постижению непостижимого, то есть Времени, Бытия.








