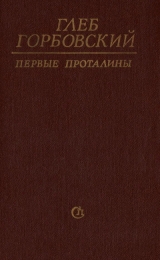
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
И, когда в коммуналке Шишигина прозвучало сразу четыре звонка, а доподлинно столько полагалось их произвести человеку, решившему навестить Шишигина, Аполлон молодцевато выпрямился у подоконника, где, глядя на небритые кактусы, полировал свое прекрасное, скульптурное лицо электробритвой «телефункен», выпрямился не столько в ожидании, сколько в предчувствии чего-то необычного и даже больше: приятных в его судьбе перемен.
Правда, перемены эти уже как бы начались неделю тому назад, когда Аполлону пришлось на улицу из своей двухкомнатной кооперативной с двумя чемоданами выходить и, стоя под летним дождиком, свободу ощущать, вспоминая адрес дуплиста Шишигина.
Однако перемены эти недавние ничего хорошего Барнаульскому пока что не принесли. Вдобавок ко всему композитор остался без инструмента, с помощью которого делал деньги, то есть без фортепьяно. И все же открывать на звонки в прихожую Барнаульский отправился в приподнятом состоянии духа. Он знал, что прийти должна какая-то необыкновенная девушка, какая-то, если верить бормотаниям Шишигина, прелесть, способная приподнять тебя над промозглой суетой и увести при помощи одной лишь улыбки в даль светлую, где не нужно будет соображать, смекать, мозговать, а лишь улыбаться в ответ этому ангелу-спасителю.
Осторожно отпихнув от себя входную дверь, Барнаульский при свете тусклой лампешки, висевшей над лестничной площадкой, как при свете горящей папироски, увидел матово светящееся улыбкой какое-то эфемерное личико с глубокими, словно открытые настежь окна, глазами под козырьком замшевой кепочки. От лестничной площадки к дверям шишигинской квартиры вели три каменных ступени, и потому девушка привиделась рослому Аполлону как бы далеко внизу, словно возносясь ему навстречу из бездны повседневности. И моментально Барнаульский ощутил в своем организме некий микрокатаклизм! Землетрясеньице некоторое, страстью рожденное, и жар от глаз этих женских возносящийся уловил и в кровь свою рыбью, вялую жар этот пропустил. И вот оно чудо – доступное, реальное, мощное: со сведенного судорогой безразличия гипсового лица Аполлона, в одночасье подтаявшая, сползла маска… Мускулы, воодушевляясь, зашевелились, кожу легкий рассветный румянец пронизал, огромные, мохнатые, бархатные глаза Барнаульского загорелись изнутри неподдельным восторгом самца и любопытством человека.
И потому, когда уже там, внутри квартиры, на свету Даша взглянула на представшего ей мужчину, это был далеко не тот Барнаульский с его непробиваемой окаменелостью и монументальными повадками, это был человек живой, интересный, а главное – заинтересованный.
Глава шестая. Наваждение
В следующее мгновение Даша потеряла равновесие, голова у нее закружилась, и, не подхвати ее на руки Барнаульский, лежать бы ей на полу в коридоре, прямо возле дверей бабушки Ляли. Сказалась ли тут нервная напряженка перед неизвестностью или автомобильные вихляния по дорогам, включая молниеносную потерю сознания за рулем, или же сам демонический, расслабляющий в женщине волю облик Аполлона повлиял, но бедная Даша так стремительно обомлела, что Барнаульскому ничего не оставалось делать, как взять ее на руки и нести в каменистое дупло Шишигина. Там он, разбросав ногой булыжники возле шишигинского мешка, раскатал по полу той же ногой, не выпуская из рук Даши, спальник философа и осторожно, как спящего ребенка, опустил на примитивное ложе пришедшую в себя, но еще кроткую и совершенно снежно-прохладную, притихшую девушку.
Когда перед ней медленно отворилась эта лохматая, обитая каким-то невероятно ветхим клочковатым материалом дверь шишигинской квартиры, возвышающаяся над площадкой своими тремя ступенями, как некий сатанинский алтарь, и когда она лицо это беспощадно-красивое, совершенно небывалое, из тех, за которыми женщины всего мира в грезах своих по белу свету гоняются, когда она лицо это перед собой, как какую-то страну неведомую, увидела, Дашу прежде всего паническое чувство страха пронизало, так и прострелило насквозь во всех направлениях!
Потом у нее голова закружилась, и Аполлон ее на руки взял, и она это все хорошо запомнила, но поделать с собой в те секунды ничего не могла, да и не хотела вовсе…
Улыбка не покидала ее даже в миг наивысшей растерянности. Она бы не сопротивлялась этому лицу, этому видению долгожданному, даже если это лицо исказилось бы мерзкой гримасой, а не дрогнуло в смутной заинтересованной усмешке, даже если оно принялось бы вдруг плеваться и скалить зубы в ее направлении, вышвыривая изо рта непристойные слова, даже тогда она ни за что бы не отвернулась от этого лица, но скорее наоборот – еще стремительнее приблизилась бы к нему со своей незатухающей, врачующей улыбкой.
И еще запомнились его первые, как бы не совсем продуманные, обособленные от глаз, губ, жестов рук, всей музыки тела – его испуганные, машинальные, как стук первых капель дождя о жестяной водослив перед окном, слова:
– Я знаю. Я все абсолютно знаю… Мне, все досконально известно… Я в курсе… и все, решительно все о вас знаю…
Но главное все же состояло в ошеломляющей догадке: перед ней – Он! Ее идол, выношенный в мечтах и сомнениях. Тот, по которому она постоянно тосковала, черты которого присваивала скульптурным изображениям, – мысленно с которым ходила в Капеллу на старинную музыку, тень от которого падала на нее почти что с рождения, когда ее тонкая, спортивная мама, еще не курившая «Беломор», но такая же родная и милая, как и теперь, возила ее в коляске, по Дворцовой, площади и маленькая Даша, едва окунувшаяся бирюзинками глаз в небесный океан, разглядела высоко-высоко над собой и над площадью, над твердью земной летящие в синеве фигурки с крыльями и без оных.
«Значит, судьба…» – подумала Даша, боясь пошевелиться на жестком, издающем затхлые запахи мешке Шишигина.
Чувства их были настолько внезапны друг для друга, хотя, скажем, Даша и поджидала своего кумира не один год, настолько они оба неподготовленными оказались для такой бесцеремонно ворвавшейся к ним любви, что пришлось из предосторожности как бы символические таблички вокруг себя в атмосфере развесить: «Осторожно, огнеопасно!» Они теперь оба направо и налево окатывали весельем встречных, знакомым подарки делали – внезапные, незапланированные, цветами всех усыпали, пирожными, книгами. Аполлон с затратами не считался, потому как полностью от жизненной прозы отключился, про все серое на свете позабыл, счастье сделало его на некоторое время рассеянным, дурашливым, милым.
Встречались они на первых порах все там же, в дупле у Шишигина, когда он дежурил свои сутки в музее. Шишигин было ворчать принялся, жаловался, что влюбленные теорию дуплизма ему расшатывают… Но его с головой завалили подарками, улыбками, поцелуями, и прежде всего – пяток редчайших латиноамериканских кактусов раздобыл ему Аполлон у бабушек на Кузнечном рынке. Затем и по части камней: один поэт, с которым Барнаульский несколько социальных романсов написал и который по совместительству в Антарктической экспедиции геологом работал, когда с шестой части света возвернулся, то камень замечательный в распоряжение Аполлона предоставил, с красненькими мерцающими вкраплениями граната в белой кварцевой среде (геолог уверял, что помимо зримых гранатовых вкраплений в камне имелись вкрапления куда более дорогостоящие, хотя и неуловимые для невооруженного глаза). Камень тоже подарили Шишигину, дабы он смирился на время с разрушающей его теорию «дуплизма» стихией любви. Таинственный камень, доставленный с оборотной стороны земшара, Шишигин положил себе в спальник под голову и стал ждать перемены погоды.
Все лето Даша с Аполлоном носились по городу, искаженные, одурманенные чувством до неузнаваемости, не расставались ни днем ни ночью. Даже в собор, в котором она экскурсии проводила, являлись теперь вдвоем, и, пока Даша рассказывала иностранцам о возникновении города, Аполлон бегал на Сытный рынок за цветами, которые демонстративно возлагал на каменную могилу Петра. Приносил он Даше заодно с цветами мороженое в стаканчиках, пепси-колу, ягоды-фрукты и все это незаметным образом подсовывал ей, извлекая из объемистой кожаной сумки, подвешенной на плече.
Однажды после закрытия храма в конце дня, оставшись в торжественном и несколько угрюмом из-за могил помещении вдвоем, Барнаульский, заметно взвинтив себя изнутри, разволновался, сложил молитвенно руки на груди, подбородок ввысь, под сферическое пространство купола задрал и срывающимся, как бы собранным по крупицам баском пропел, прогундосил:
– Венча-аются раба-а-а бо-ожия Да-арья-я и раб бо-ожий Аполло-о-он! Мно-огне-я ле-ета-а!
Из какого-то потаенного отверстия, как мышка из норки, появилась бабушка с метлой и, прежде чем уборкой в храме заняться, с интересом голову набок склонила, глядя на Аполлона, прислушиваясь к его жизнерадостному поведению, словно вспоминая что-то далекое.
– Вот бы и обвенчались путем. Чтобы, значитца, по-божески. А то ведь ныне как: бумагу подпишут, сфотографируются, руку легистраторше помнут, шампанского лизнут под звуки… и на улицу – пенсию зарабатывать! А где слезы радостные, восторги благостные? Трепетание сердца иде? Тайна таинственная куды запропастилась? Ты вона-тка козлом блеешь, а получается, как на трубе архандельской! А почему, спроси? Потому что не помещения тута, а хра-ам! Всячецкую суету за дверью оставляли, когда в него входили. А входили зачем? Думаешь, только молиться? Да молиться-то где попало можно, хоть в пещере, хоть в фатере… Для трех главных дел строился храм. Ребенок родился – сюды его и принесут, перед дальней дорогой жизненной. Чтобы духу чистого высокого набрался. Далее, подросло дитя, жениться решило, опять его сюда приводят, чтобы серьезней мозгами думал, потому как не забавляться предстоит, а семью строить, дом. Ну а по третьему разу, когда телом остынет, опять его сюда доставят, чтобы, значит, в самую дальнюю дорогу спровадить… И не тяп-ляп, а чтобы торжественно опять же, потому как ты жизень прожил, а не цигарку выкурил, повидал всякого, уважение заслужил и слезу.
– Послушайте, бабушка! Да вам не метлой шаркать, вам лекции читать! О смысле жизни. Хотя бы в очередях. Или в поездах дальнего следования, – протянул Аполлон старушке огромную, как детский надувной шарик, грушу желтого, горячего цвета.
С этого дня запало Барнаульскому в голову – свадьбу играть. Даша не противилась, но и не лопалась от восторга, она как бы глаза на всю эту Аполлонову затею закрыла, предоставив ему суетиться в данном направлении. Нельзя сказать, чтобы она почему-то не доверяла Барнаульскому, нет. Она ему доверяла полностью, как доверяются люди счастью, пусть иллюзорному, но окрыляющему, хотя бы и временно. Не доверяла она себе. Своим возможностям. Инерция неудач настораживала, прежние фиаско на невестином поприще расхолаживали.
А Барнаульский так и ринулся в заботы, затраты, затеи! Снял с лицевого счета осевшие там музыкальные денежки, не одну тысячу рублей, и начал оригинальничать.
Сидя у Шишигина в дупле на каменьях, поглаживая невозмутимые кактусы горячей, взволнованной рукой, как котят против шерстки, Барнаульский расписывал Шишигину, зашнурованному в спальном мешке по самые уши:
– Даша не женщина, не жена. Даша – мир, судьба, произведение искусства. Только автор этого произведения не человек, а существо высшего порядка, гений!
– Инопланетянин, что ли? Из пришельцев? – раскрывал волосатую пасть рыжий Шишигин, потягиваясь в мешке, как в могиле. – Начитаются барахла разного… Фантасмагорий дешевеньких, досужих, ради металла липкого сварганенных, и раздувают жабры в восторге копеечном.
– Не бурчи, Шишигин, – выпячивал волосатую грудь Аполлон, невольно впадая в шишигинскую манеру изъясняться. – Ты кто сейчас есть? Одинокая, жалкая тварь. Мешок с… со скепсисом. Вот нарвешься, как я, на радость безмерную! Прохватит тебя ветром нездешним, вступит тебе в позвоночник не идея, не фантазия сумрачная, а музыка небес! Опалит на тебе, как на курице, все лишнее, не выщипанное… Вот тогда и посмотрим на тебя. Вот тогда и предстанешь, будто солнечный луч! Отраженный страстью и негой…
Шишигин невесело улыбается, скребет ногтями щетину на подбородке, стреляет в Аполлона желтым от длительного покоя глазом.
– Эк тебя рассупонило. Хоть студентам-медикам показывай. Меня, Аполлоша, не раз уже прохватывало. И вытряхивало не раз. И тебя вытряхнет! Ох и вытряхнет… До сантима, как говорится, до последнего тугрика. Совет тебе мой: работай, пиши. Не останавливай конвейер. Свершай. Чтобы струйка в сберкассе не иссякла. Иначе никакие пришельцы не спасут тебя от уныния. От прозябания на ветру жизненном. В сторожа ты не годишься: апломб. Философии своей не имеешь, того же «дуплизма» не разделяешь. Тебе если уж и дупло, то непременно кооперативное подавай. Пропадешь, одним словом, если песенки свои стрекозиные в ночной эфир запускать перестанешь. А в эфир-то их не при помощи зефира тихоструйного запускают, но исключительно при помощи старания: беготни по редакциям, по нужным адресам, по магазинам и ресторанам, где подарки для необходимых людей приобретаются. Меня не обманешь. Я все из своего дупла вижу. Оборвется струйка – и вся твоя затея с неземной любовью враз отпадет, завянет. В шалашах теперь, сам знаешь, не разживешься. Рыбу в ручьях выловили, дичь, которая осталась, сама не промах: голыми руками ее теперь не возьмешь, а на ружье запрет одиннадцать месяцев в году. Святым духом питаться? Это и вовсе из моды вышло. Кстати, за постой, – Шишигин палец о палец потер, указательный о большой, – за снятие у меня угла необходимость рассчитаться настала. Потому как сторожевой оклад у меня не ахти… А я не кактус, меня поливать иногда нужно. И не водичкой, а сам знаешь чем.
– Да не бурчи ты, Шишигин… Полью, не завянешь. Нужен ты еще людям… способным, любить. Поблагодари их за это. А работать я не отказываюсь. Всему свое время. Мы с тобой, Шишигин, одинаково самолюбивые люди, только, я удачливее. А ты самолюбивее. Но сейчас я не об этом. Сейчас я о Даше, вернее, о себе с Дашей речь веду. Понимаешь, Шишигин, с такой, как она, женщиной не хочется заурядно… По формуле: не хуже, чем у людей. Надобно ярче, бесподобней, фееричнее! Не так, как на самом деле, но поэтичнее, понимаешь?
– Понятно, – Шишигин надвысунулся из мешка, и в углу комнаты как бы возник его бюст, никем покуда еще не вылепленный, кроме матушки-природы. – Понятненько, ясненько, куда ты клонишь, донжуанишко второсортный. Все твои речи искрометные, фейерверки словесные – все они к тому, чтобы в загсе с Дашей не регистрироваться, Отгадал? Учти: не оригинально. Да и по бакенбардам схлопотать можешь. Не от меня. На этот случай у Даши братец имеется. Разрядник.
– Ты меня плохо знаешь, Игнатий. Я, конечно, птица другого полета, нежели ты. Перышки у меня и те забавнее твоих. Привлекательнее. Но комбинировать, что-то соображать, кумекать у входа в рай не стану. Войду с благодарностью и открытым сердцем! Дашин восторг, не говорю – любовь, восторг ее живительный – для меня свят. Заруби это у себя на своем кактусе рыжем! Ты, Шишигин, никакой ты не экзистенциалист. Трусишка ты – вот! Неженка. На ветру обуглиться боишься. А я говорю: вынут. Погоди-ка, безо всякой милиции извлекут. И кто бы, ты думал, на такое способен? Женщина. Она, Шишигин. Единственное средство в мире, способное тебя воскресить. И чует мое сердце: вьется уже над тобой отважная птичка, сужает круги… Недавно, когда ты под лестницей у себя в музее чай заваривал, влетела сюда одна рыженькая, на тебя похожая. Как бы случайно. Перепутав этажи… Я еще подумал: не сестра ли твоя? Только Даша ее сразу узнала, из-за плеча моего высунулась и сердечно так поинтересовалась у рыженькой:
«Это вы приходили тогда в храм Петра? Не лучше ли нам объясниться начистоту? К чему такая таинственность? Даже если вы не первая жена Аполлона, а всего лишь третья?» – выдала ей Даша, чем развеселила моментально и меня, и рыженькую незнакомку. А затем эта залетная канарейка пластинку Дашину как бы перевернула и резко так спрашивает нас обоих: «Шишигин дома?» А ты, Игнашка, притворяешься тут, в аскеты, в постники играешь. Врешь ты все, вот! В «дуплизме» своем ты до тех пор охотно пребываешь, покуда люди вокруг тебя шевелятся, по асфальту подметками шуршат. А замри, затихни вокруг все по какой-либо причине – враз выскочишь, заозираешься! «Ау!» – крикнешь. Без людей ты нуль, Игнаша. Как, впрочем, и все мы, грешные. А свадьбу непременно сыграем. И в загс, если Даша пожелает, сходим.
– Вот я и говорю: сходи! Уважь девку. Какая б она воздушная ни была, а загс этот самый и над ней довлеет, потому что – среда: не в безвоздушном пространстве живет, а среди мнений.
– Сходим, Шишигин. Только незаметно. Пешочком. Как в сберегательную кассу за получением денег, на которые потом разгуляться можно будет. И опять же – не по-купечески, не с разбитием зеркалов и витрин, а по-своему, интеллигентно, интеллектуально разгуляться! Где-нибудь в лесу ароматном, птицами набитом, или в городе Москве, среди людей занятых, мастеровых, с невыветренным восторгом в мозгах.
– И что же… безо всякого застолья? Без принятия вовнутрь? Без аренды столиков, без оркестра? Ор-ригинально… Тогда уж у меня в дупле.
– Еще чего. В таборе для начала. Или в башне. У Дашиных художников Башня из слоновой кости имеется. Храм искусств. Обитель. Вот достойное место для оформления чувств. Но скорей всего – в таборе.
– Так тебя, что же, всерьез, что ли, принимают в ее семье? Бывал ты хоть там когда? Появлялся уже?
– Нет, не бывал. Но Даша говорит – все обойдется. Поймут. И мне так кажется. Потому что приду я туда с открытой душой!
– Вот тебе еще один мой совет, Аполлошка: песенок своих стрекозиных там не играй, не навязывай. Не пройдут. Напортишь только себе.
– Да что я?! Да у меня есть другие сочинения. Я им «Осиротевшую мечту» или «Судорогу познания» выдам! Еще в консерватории напрягался. Говорили: шикарные поэмы. И в ногу со временем. Инструмент у них как? Не очень разбитый?
– Не знаю, не прикасался. Пианино как пианино. Старенькое, с подсвечниками. Только ты поосторожнее все же с «Судорогой» своей. Отец у Даши – простой мужик, без нюансов. Потом у них этот, друг дома один, постоянный, как бы комиссар доморощенный, отставник угрюмый по фамилии Лахно. Камень такой гранитный в галифе. Вряд ли судорогу переварит. Но главное – мамаша. Она верховодит. И воспитана в традициях. Скребанешь ей по уху своим сочинением, и – увы. Натура у бабули тонкая, смекалистая. Угодить надо всем, не спугнуть… А еще братцы! Георгий, старшенький, – инженер: видит насквозь, как прибор. Чуть что не так – сразу в ухо. На дуэль вызывать не станет. Прием применит – и считай носом ступени. А там их много: и приемов разных, и ступенек грязных. Да и поднадоело им изрядно с женихами дурацкими, со сватовством затянувшимся. Дашка чудит. У нее образ жизни такой составился, а родне печаль нескончаемая.
– Как то есть «чудит»? Какие еще женихи?
– Ты что, с неба свалился? А Эдики, а Стасики?.. Она тебе что же, не успела еще исповедаться?
– Ах, эти… Тоже мне женихи! Такими уродцами у нее вся жизненная канва обставлена. Включая, Шишигин, тебя. Такая длинная аллея через всю биографию. Из всевозможных несчастненьких, которых ей одно удовольствие выручать, брать на поруки, из преждевременной смерти выковыривать, как мышиный помет… Нет, Шишигин, такие кавалеры, знаешь ли, мне они не конкуренты.
В предсвадебные деньки Даша с Аполлоном по городу в основном перемещались на такси. Правда, на одной из автостоянок смиренно ржавел под открытым небом запущенный, до срока без хозяйской руки обветшавший пикапчик Барнаульского. Пользовался он им крайне редко, а теперь, когда композитор Дашей заболел, на машине этой и вовсе как бы крест был поставлен. Однако именно этому впавшему в круглогодичную спячку экипажу суждено будет впоследствии сыграть если не роковую, то весьма эксцентрическую роль в Дашиной судьбе.
Теперь же, покуда Барнаульский готовился к празднику женитьбы, Даша, глядя на его хлопоты, все беспомощней и отчаянней улыбалась куда-то в пространство, из которого, как ей казалось, в любую минуту мог прийти сигнал, отменяющий праздник, объявляющий радость недействительной. Не оттого ли в планы свои никого теперь не посвящала? Даже мать с отцом. Прежде, когда с Эдиками знакомилась, могла для домашних комедии играть, запросто приводить очередного молодого человека в табор, за общий стол усаживать и даже мужем своим случайного кавалера величать: не страшно было. Потому что шалость одна, баловство несерьезное, неосновательное. И вдруг эта сказка, эта встреча с Аполлоном, только уже не в фантазиях, а наяву. Если Эдики, обстреливая ее словами и взглядами, чаще всего в «молоко» попадали, то Барнаульский в «десятку» угодил, то есть в сердце.
Однажды, выбравшись из такси возле ателье мод «Смерть мужьям», где Аполлон для Даши платье заказал, не подвенечное, а как бы смесь бального с обручальным, столкнулись они нос к носу с Дашиным отцом Афанасием Кузьмичом. Одет папаша был в черный взявшийся пятнами хлопчатобумажный комбинезон и оранжевого цвета жилетку дорожного рабочего. На руках резиновые перчатки. Рядом с ним возле обочины у фонарного столба машина с подъемником. Афанасий Кузьмич уже ногу занес, чтобы на вышку свою выдвижную забраться и что-то там наверху, на кончике столба, отремонтировать, как вдруг счастливую и от этого очень даже заметную дочку свою в тротуарной толпе разглядел. Так она и вынеслась на фонарщика вместе с пижоном каким-то замшевым: ну, артист и артист, даже пудрить не надо! Натуральный тебе Лановой или Тихонов, только еще более жгучий, молодой и глаза имеет телячьи, огромные, зрачки голубой дымкой обволочены, и росту парень завидного. На голове – темный волос густой, словно приставленный, не своим ходом выращенный, а в магазине в виде парика купленный. Из недостатков явных, которые при первом знакомстве сразу же в глаза бросаются, отметил Афанасий Кузьмич огромные уши красавчика, которые даже под такой густой и длинной шевелюрой не умещались, прорезываясь наружу сквозь черное резкой белизной.
– Папа! – ухватилась Даша обеими руками за отцовскую канареечную безрукавку. – Вот, знакомься! Мой… это самое…
– Не надо! Н-не желаю… – вдруг не сдержался, воскликнул, рукой заслонился от дочери всегда уравновешенный, мягкий характером и лицом (от этой его мягкости физиогномической наверняка и Дашина улыбка пошла), так и не успевший поседеть, русобровый, сероглазый Афанасий Кузьмич. – Не надо, не балуй. Достаточно! – и руками замахал.
И тут Даша вспыхнула. Ногой о камень ударила. Улыбка с ее лица на мгновение сошла, сделав лицо несчастным, убитым. И сразу же Афанасий Кузьмич руками махать прекратил и виновато, за неимением хвоста, ногой по тротуару завращал, бесшумно шаркая резиновой подошвой.
– Папа, миленький, родненький… Это ведь Аполлон!
– Рыбкин! – без тени улыбки отрекомендовался композитор фонарщику, протягивая музыкальную, длиннопалую ладонь. – Аполлон Рыбкин.
– Очень приятно… – начиная стаскивать со своей огромной пятерни резиновую крагу, сказал Афанасий Кузьмич.
Даша скорей весело, нежели недоуменно подняла брови, пытаясь разгадать поведение мужчин и прежде всего Барнаульского, назвавшегося почему-то Рыбкиным. «Чего это он? К встрече, должно быть, не готов. Вот и чудит от неожиданности».
– Папа, миленький, успокойся. Ну, посмотри на меня: это – я! И на этот раз все как бы всерьез…
– Как бы? Или всерьез? – стащил наконец перчатку Афанасий Кузьмич и устало провел рукой по своему лицу, по закрытым глазам, попутно взъерошив правую бровь, отчего весь его неуклюжий облик сделался еще трогательней.
– Извините, – крепко взял Барнаульский Дашу под руку, – только в жмурки играть не обучен. Об чем речь? Терпеть не могу недомолвки и разные там недоглядки. Лично я всерьез и надолго!
И тут происходит что-то по теперешним меркам ужасное, не всякий выдержку после этого при себе сохранит: молодой, модный, замшевый, штаны подтяжками схвачены, прикушены, такой, на которого и так постоянно люди в толпе оборачиваются, яркий, хлесткий, удачливый, можно сказать баловень судьбы – Аполлон, можно сказать Бельведерский, нимало не заботясь о своих вельветовых штанах и о том, что о нем прохожие подумают, с размаху на асфальт перед Афанасием Кузьмичом коленками стукается! И голову покорно на грудь склоняет. А потом, глаза вверх подняв, смело заявляет:
– Абсолютно трезв, учтите. Как стеклышко. Так что со всей определенностью и ответственностью прошу у вас Дашиной руки. Руку вашей дочери прошу! Вот… К супруге вашей, Ксении Авксентьевне, за той же просьбой приду отдельно. С колен не встану до тех пор, пока согласия не получу.
– Ну что вы, ей-богу… – заволновался Афанасий Кузьмич. – Дарья, подыми его, брюки испортит.
Люди, идущие мимо них, сдержанно улыбались, не зная, что именно около столба происходит, во всяком случае что-то забавное… Некоторые долго, по нескольку раз оборачивались, прежде чем окончательно затеряться в толпе. Но никто из них даже не притормозил движения: наша хата с краю. И только одна бойкая, отважная старушка остановилась с твердым намерением разобраться, что к чему. Есть такие пружинистые, несгибаемого характера старушки на Руси. Из тех, скорей всего, женщин, которые в более свежем возрасте могли и в горящую избу войти, и коня, а то и просто автомашину на всем ходу остановить, преградить ей дорогу, выбежав на проезжую часть и замерев там бесстрашно, как деревце на ветру.
– «Скорую»-то вызывали? – обратилась бабушка к Афанасию Кузьмичу, как к лицу официальному, облаченному в казенную жилетку.
Но до нее ли тут было, до старушки ли неравнодушной? Афанасий Кузьмич Аполлону поспешно руку протянул. Композитор руку принял, но с колен подниматься не спешил.
– Дорогой папаша… Я ведь вас крайне серьезно, со всей ответственностью спрашиваю, – задрожал вдруг губами Барнаульский, подставляя себе под правый глаз холеный, музыкальный кулак, – согласны породниться?! Или не нравлюсь, черт возьми?!
– Да что вы на самом-то деле… – зашептал, залепетал, отвернувшись к машине, фонарщик. – Да вставайте же… Нехорошо. Ну, согласен, согласен! Ясное дело. Не спрашивают нынче родителей. – И тут дверца его фонарной машины отворилась, наружу высунулась голова шофера, напарника Афанасия Кузьмича. – Вот, Варфоломеич, познакомься… Моя дочка. Даша.
– А это что же? Хулиганют?
– Да нет… Зятек вроде, – усмехнулся Кузьмич.
– А что же… выпил малость?
– Не надо, не надо! – заворчал, отклеиваясь от тротуара, Аполлон и небрежно отряхивая серую пыль с темно-синего вельвета. – Ни грамма! Как стеклышко. И не жертву приношу, дяденьки, а сердце! Само собой получилось. Даже не верится.
– Так у вас что же, – заволновался Кузьмич не на шутку, – и эти, как его… штампики, того, проставлены?
– Заявление подано. Через неделю штампики.
– Тьфу ты, господи! – отмахнулась старушка разочарованно от непонятной для нее компании и, ворча себе что-то под нос, двинулась прямиком на красный свет поперек проспекта. Завизжали тормоза, но все обошлось. Старушка повернула обратно и, подойдя к Афанасию Кузьмичу, весело проговорила:
– Отпусти ты их, кормилец! Ну, дали промашку… С кем не бывает. Такие оба пригожие. Помилуй ты их, ради Христа. Слышь-ко… – потянулась бабушка ртом к уху фонарщика, но Дашин отец, напялив перчатки, стал резво карабкаться вверх по скобам подъемника и через мгновение был уже там, на круглой площадке, огороженной перильцами. Затем он резко постучал железякой о перильца, и шофер Варфоломеич включил подъемник.
Так что, когда вконец растерявшаяся бабуля взглядом вслед за Афанасием Кузьмичом скользнула, находился он уже высоко в небе, где долго, с необычной медлительностью менял в фонаре люминесцентную лампочку, зорко при этом посматривая вниз то на горячую старушку, то на свою дочку с женихом. На землю фонарщик опустился, когда у подножия столба никого из этих людей уже не было. Аполлон с Дашей прошли в ателье, где невесте предстояла примерка платья, а старушка попросту испарилась, как дождинка небесная на раскаленном асфальте.
Платье Даше изготовили на месяц раньше указанного в квитанции срока, а именно в тот же день, когда они на Невском возле неисправного фонаря просили у Афанасия Кузьмича отцовского благословения. Аполлон небескорыстно улыбнулся мастеру-закройщику. Последовала ответная улыбка – и платье было готово. Как моментальная фотография в киоске на Витебском вокзале. Выйдя из ателье, Барнаульский, глянув на столб, сокрушенно покачал головой.
– Все! Довольно трепотни. Начинаю семейную жизнь. Без промедления. Дашенька, ступай в ателье и быстренько там переоденься в новое платье. В подвенечный свой наряд. А я тебя здесь в каком-нибудь такси подожду. И ни одного слова поперек. Хотя бы сегодня. Обещаешь? – привлек он ее к себе, попутно опалив горячими губами Дашино ухо.
Переоделась она быстро, любопытство подгоняло: что он еще затеял? Аполлон поджидал ее в машине. Посадил невесту рядом с огромным букетом роз, занимавшим полсиденья, помог расправить платье, чтобы не измялось. В загсе Аполлон забросал розами официальное помещение, подарил кому-то авторскую пластинку со своим изображением на конверте, показал кому-то свеженькие, «натуральные» билеты на самолет, спросил: что ему делать, так как завтра длительная командировка на БАМ с концертами в пользу тружеников начинается? Короче говоря, в виде исключения, совершенно секретно, а также бескорыстно отмолил себе укорочение срока «на раздумье» до минимума, то есть до «завтра в это же время»…
Когда на другой день со штампиками было покончено, Аполлон, снарядив кожаный сак со всякой дорожной всячиной – от зубных щеток до миниатюрных баночек с гусиной печенкой, – понесся вместе с Дашей в аэропорт. Даше он сказал:
– Это не свадебное путешествие, это сама свадьба. Считай, что уже началось. Не за столом, не под крики «горько», а вот так, в беготне, суетне, во взлетах и падениях, под горячие сосиски в буфете. У нас не будет обряда. У нас будет кейф. А затем – состояние непокоя, образ жизни, схожий с постоянным, вечным выздоровлением, вознесением над мраком. На два дня в Крым! А? Неплохо? Тебе ведь во вторник на работу? Вот и отлично. Обернемся. И учти, что это не пижонство, не игра в купчика затрапезного… Это деталь действа. Самое сложное и почти невероятное из всего, с чем пришлось мне покуда встретиться, – это непроходимый, неразбавленный, мощной концентрации скепсис в глазах твоего отца, когда он на меня со столба смотрел… И еще – доставание билетов на самолет. Бархатный сезон, чтоб его моль побила!








