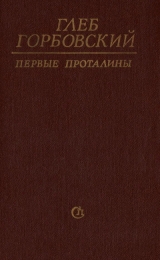
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Незаметно женщины и к дальнейшим действиям перешли, и первым делом ручонку Сережкину из лап уполномоченного – настойчиво так – высвободили. И колоски мигом подхватили, попрятали, с полу все до единого подобрали и куда-то затиснули, в щели какие-то незримые, словно в трещины коры земной, пропихнули, чтобы с глаз долой. Затем и самого Сережку обволокли, опутали руками, словно поглотили без остатка, отлучив мальца от притихшего вдруг Супонькина.
Однако Супонькин, как это выяснилось чуть позже, без боя своих позиций сдавать не собирался.
– Хулиганничаете… – выдохнул он шепотом. – За такое статья полагается. Ежели по закону! К примеру, взрывы энти… Дознался я, какие петушки энтим занимаются.
– Тихо ты, – обернулась к нему самая внушительная на вид, грузная, может просто опухшая от воды, громадная женщина. – Ребенка испужал, ирод… – проговорила она спокойно, без надрыва и суеты, а может, просто сил не было горлопанить. – Оставь дитю в покое. Ручку вон всю как есть изломал. Синяя теперь. А то мы тебя с твоим пиштолетом в яму компостную затолкаем, право слово.
– А ну, бабы, садись по местам… Кому говорю! – подал начальственный голос Автоном Голубев. – Брысь чтобы у меня! И никакой самодеятельности. Мальчонку домой отведите. Потом разберемся. Уборочная на носу. Не дозволяю ни колоски рвать, ни от дела отвлекаться. Все! Ша, мамаша! Чтоб у тебя…
– Граждане колхозники, товарищи дорогие, – начал вдруг веселым, отвлекающим тенорком незаметно как пробравшийся к столу партийный секретарь колхоза Авдей Кузьмич Торцев. – Товарищ Супонькин, будьте любезны так, сядьте и живенько включайтесь в собрание. – Торцев свистяще-громко дышал, широко размахивал своей единственной левой, держа свободный правый рукав гимнастерки под широким кожаным комсоставским ремнем, усеянным двумя рядами дырочек и с медной пятиконечной звездой на пряжке. – Собрание общее, открытое. Так что и присоединяйтесь. Тем более что вы есть бывший житель данной деревни, коренной… И весьма, я бы сказал, официальное лицо в данный момент, представитель, уполномоченный…
– Я шкоду в поле обнаружил. Потраву! А вы мне зубы заговариваете. Задвигаете меня в угол! Да покуда вы тут слова разные произносите, бабы все мои доказательства, которые вещественные, уничтожили! Не позволю! Преступная халатность – вот тут што налицо, а не собрание колхозное! И взрывы опять же… Не сегодня-завтра на воздух подымут, пока вы тут заседаете.
– Дозвольте мне! – обратился, поднял руку сидевший возле теплой плиты даже летом зябнувший Яков Иваныч Бутылкин, вступивший в колхоз только во время войны. – Я хоть и без стажу у вас пайщик. В колхозе всего пятый год состою. Зато у меня христьянского стажу хоть отбавляй: скоро сто лет. В ту субботу справлю.
– Ай да Яков Иваныч! Почитай, уже двадцать лет от тебя слышим: скоро сто! А ты все такой же. Да тебе уже все двести небось, дедушка? – поинтересовалась громадная женщина, так ловко оттеснившая уполномоченного от Серёньки.
– Дозвольте! – направился дед прямо к столу начальства. – Я здесь старшей всех. И вам полезно будет мое мнение узнать. С мальчишкой надоть разобраться, и не после, а в первые минуты собрания. Прав в энтом Супонькин. Но разобраться для чего? – Бутылкин указал в сторону зажурчавших было опять женщин. – Для того, чтобы объяснить мальцу мнение наше о воровстве! И отпустить его с богом. Мы его здеся и так до смерти напужали. Что у него там сейчас, в головешке той? Небось – горе-ужасти, беда, одним словом. Хватит, говорю, над дитем измываться! Вот мое слово как старшего здеся… Да и не крал! Свое попробовал. На один зубок только…
– Не ты здесь старшой! – вскинулся на Бутылкина Супонькин, челюсть нижнюю выпятив так, что носик его с площадочкой так весь и загорелся, будто лампочка от фонарика карманного. – Не ты здесь старшой, а вот… секретарь. Пусть он и решает, – махнул Супонькин рукой в сторону Торцева.
– Дак ведь чего решать? Я ведь как народ… А народ у нас вот – бабы, извиняюсь, женский пол, – заулыбался Авдей Кузьмич. – Мальчонка теперь надолго запомнит. Запомнишь, Сережа?
И тут бабы разом расступились, и, словно из-под их подолов, возник смущенный, напуганный Грузденыш.
– Ну, что скажешь? – спросил его председатель Голубев Автоном.
– Не стану… боле.
– Вот и молодец… А теперь поведай это дяденьке Супонькину. Чтобы он на тебя бумагу в район не сочинил. Скажешь?
– Не стану боле.
Супонькин долго смотрел в пол, как бы решаясь на что-то. Затем подкинул на голове своей фураньку, которую, как говорят злые языки, не снимал даже в бане, так в ней и парился, и вдруг, совершенно неожиданно выхватив из толпы поименно двух баб, начал их тут же при народе срамить за несознательность.
– Вот ты, Евфросинья, почему ты подписалась, а не вносишь? Где твои сто рублев?
– Нетути…
– Достань! Займи, продай, а что положено – отдай!
– Ишь как складно заговорил…. Хоть на гармоньи ему подыгрывай, – пропела какая-то бесстрашная бабушка. – Тебе-то что до этого?
– А сознательность где? Как ты людям могешь в глаза смотреть? Они-то ведь сыскали, внесли…
– Да н а ты меня, зараза, бери всею! Вешай меня на вешало! Где я возьму, окаянный, таки денежки теперь?! – налетела вдруг в полном отчаянье Евфросинья на уполномоченного, да так, что тот попятился к дверям, плюнув в сердцах кому-то на подол и тут же получив толчок и пару горячих слов вдогонку. С перекошенным лицом оглянулся в дверях.
– Ну, председатель… Смотри, мать твою за ногу! Хорошие у тебя собрания! По всем законам! Смотри, как бы за это кому-сь куда следоват не усвистать за таки порядки!
– Вот и поговорили, – развел было руками Авдей Кузьмич, забыв, что у него их всего одна в наличии. Только где-то возле самого плеча чуть шевельнулась под гимнастеркой незримая культя. – А теперь по существу.
Глава десятая. Облака
После раскаленного, никлого прошлогоднего лета нынешняя, с прозрачным, словно увеличительное стекло, небом сухая весна, казалось, вела дело к тому, чтобы безжалостно повторить неурожайное, худосочное, голодным звоном звенящее лето, как вдруг с середины июля клубком закрутились по небу тучи, заворочались в них тяжелые, крупного калибра, грозы, пошли накатом – один за другим – дожди брызгучие, шальные, стеной стоящие. В лесах пожары от молний загнездились, дымком тревожным потянуло окрест…
Не обошлось и в Жилине без событий, упавших, можно сказать, прямо с грозового неба. В открытую форточку к Павлине Супонькиной шаровая молния влетела. Долго в избе по воздуху передвигалась, словно плакаты на стенах рассматривала, пока не зацепилась за что-то и так трахнула, что хлебавшая в этот миг квасную с первой огородной зеленью окрошку Павлина девяностолетняя – враз навзничь с табуретки упала. В доме пожар случился. Хорошо еще – время обеденное, многие из работавших в поле домой под дождем бежали и взрыв в Павлининой избе услыхали. Старуху, потерявшую сознание, на дворовую травку вынесли. Огонь в избе кое-как сбили. Правда, плакаты пришлось посрывать: основательно их огоньком лизнуло.
Прибежал на звон пожарной рельсы и Алексей Алексеевич. И что же он видит? На огороде бабы старую Павлину в землю закапывают. И Бутылкин Яков Иваныч туда же: лопатой шурудит, бабулю оглушенную сырой почвой обкладывает. Налетел учитель стремительно, лопату из рук Бутылкина вырвал, в картофельную ботву откинул. Павлину от земли освободил. На рогоже ее разложил, одежду расслабил на груди – искусственное дыхание делать начал. Пришлось ему дряхлую Павлину в сморщенный рот крепко поцеловать, чтобы дыхание спертое вызвать, сдвинуть «шестеренки», остановившиеся в столетнем Павлинином организме. И – ожила!
Не кричали бабы от мистического ужаса, руками не заслонялись – молча, с уважением, по домам разошлись. Но почему-то с этих пор чаще и ярче, с явной охотой при встрече учителю улыбались.
– Павлуша, посмотри на дорогу… На этот раз определенно что-то скрипело.
Алексей Алексеевич поджидал подводу, которую председатель обещал ему на собрании. Транспорт был необходим учителю, чтобы привезти из лесу дровишек на школу. Пяток кубометров колхоз уже поставил. Привозили дрова бабы, ворчали, потому как работа эта в счет трудодней не шла, а производилась как бы в шефском порядке. Бутылку Евфросинье за старание не поставишь, неловко… От чаю она отказалась, некогда, да и пугалась учителя, синих его очков. Судя по прошлой зиме, пяти кубометров до весны ни за что не хватит. И тогда учитель решил ехать в лес собственными силами. Единственно, что требовалось от председателя, – это подвода.
Вот и ждал ее Алексей Алексеевич, всем настороженным организмом улавливая каждый посторонний звук вокруг школы, потому что времени у него было в обрез: каникулы иссякли, скоро дети придут, за парты сядут, а у него еще побелка печей предстоит, за керосином не съезжено (электричество к Жилину еще не подступило). А тут еще парты кое-какие расшатались, скрепить надлежало, а уж с дровами и вовсе беда: мало их из лесу под стены школы доставить, нужно их еще на чурки пилить, а также колоть. Правда, колоть полуметровые березовые чурки собирался учитель не все сразу, а каждое утро и вечер помаленьку, растягивая удовольствие чуть ли не на всю зиму, так как любил он это занятие, заменявшее ему зарядку. С нескрываемым весельем брал в руки топор или колун, будто гантели комнатные, городские, и хрякал и хакал во время колки безо всякого стеснения и оглядки.
– Павлуша, вроде тащатся?.. Выгляни в окно. Павлуша смотрел в окно и ничего не видел. Дорога проходила хотя и возле школы, но пряталась за цепочкой ракитника и ольхи. Цепочка эта постоянно вырубалась, прореживалась и все-таки каждое лето вновь загустевала, закрывая обзор, но и в какой-то мере заслоняя собой попутно здание школы от зимних метелей, образующих здесь, перед кустарником, своеобразный снежный заслон, увал гладкобокий, покрытый в морозы фарфоровой прочности настом.
По этой дороге проселочной, уходящей мимо школы в лес и дальше, на один из латышских хуторов заброшенных, давно уже никто не ездил. А сейчас, за серединой лета, старая замшелая колея и вовсе как бы исчезла в траве высокой, густой. После хорошего грозового ливня незримые в мураве колдобины наполнялись чистой небесной водой, и не было ничего приятнее, чем, раздевшись до трусов, ступать по обманчивой зелени, иногда проваливаясь по колено, а то и выше в теплую, ласковую глубь.
Но вот из кустов на школьный, не огороженный забором двор и впрямь что-то выбралось и не поехало, а как-то вперевалку потащилось и вдруг встало, замотав рогатой головой, словно отказываясь от дальнейших действий. Это приехал на бычке Яков Иванович Бутылкин.
– Вот шары-те! – возмущался дед, бросая веревочный кнут, спиралью намотанный на кнутовище, в телегу, состоящую из трех досок: одна внизу – пол или дно повозки, и две по бокам – как бы стены ее. – Ну и шары-те… Лошадку пожалели для-ради школы. Своех же детишек тута умом-разумом обеспечивают, а лошадку дров привезть – не бери, не смей. Потому что в Гусиху на лошадке за водочкой необходимо… А то за чем же еще? Не за карасином же…
Алексей Алексеевич, радостный, выбежал на крыльцо встречать подводу. Обнаружив возле бычка старика Бутылкина, поначалу засомневался в успехе мероприятия, а затем, поразмыслив, наоборот – приободрился. Пожал руку Якову Ивановичу, головой вежливо тряхнул, поклонился, едва очки на носу удержались от усердия.
– Никак в помощники нам, Яков Иваныч?
– А это как посмотреть… Можа, и в начальники. Небось на таком механизме и ездить не приходилось? То-то. Выскочит из оглобель – что делать станете? Бычок он, не гляди, что махонький, а тоже характер имеет… и прочие недостатки.
– Он, что же, прямо из стада?
– Какое стадо. Тягловый он, в ярме с юных годов. И прозвище ему, как полагается лошади: Митя. Повезло рогатому. Давно бы его в добрые времена скушали… С ногами и рогами… А тут война, разор. С транспортом нелады. Глядишь, и повезло угрюмому. Подольше живьем продержится. Травки-сена понюхает. В обыкновенное-то, мирное время бычки, мужское коровье население, почитай, все на поголовное истребление обречены. Окромя производителей матерых…
С собой в лес бутылку молока взяли, хлеба по кусочку да картошек несколько вареных. Топор и пилу на всякий случай в телегу пихнули. Веревку лохматую, всю в узлах и надвязах, для скрепления воза Яков Иванович прихватил с колхозной конюшни.
Алексей Алексеевич в сапоги резиновые обулся, в те самые, которые при школе чем-то вроде транспортного средства числились: зимой и осенью, на снег или дождик выскочить по надобности – запрыгнул в них, и… поехали. А по возвращении непременно их у порога оставляешь, так как права вхождения в дом сапоги эти не имели.
Павлушу отец с большим трудом уговорил хотя бы спортсменки к ногам привязать: за лето ноги у парнишки привыкли к свободе, и всякое над ними насилие принималось в штыки. Ничего не поделаешь, обулся, потому как нынче они в лес намеревались углубиться, а там и колючки разные, и гадючки… Вон Яков-то Иванович – весь снизу доверху в материалы различные упакованный: на ногах лапти мягкие, разношенные, из пахучего лыка липового, с молоденьких деревцев по весне дранного, из которого мочалки банные, запашистые, на ять получаются; под лаптями – онучи домотканые, белые да плотные, хотя и покладистые, ребристой скалкой на кругляке березовом прокатанные, и не кем-нибудь, а бабушкой Авдотьей Титовной, председателя тещей, которая на деревне вроде «тимуровца» при одиноких людях состояла. На чреслах штаны байковые, из одеяла военного сконструированные. Сверху пиджачок бумажной ткани, на локтях заплаты из той же солдатской байки; под пиджаком гимнастерка, наглухо застегнутая доверху. И все это – при температуре плюс двадцать пять. А на голове еще, как на самоваре заглушка, – фуражка выгоревшая, бесцветная, неизвестного происхождения.
– Уши не отморозьте, – насмешничал Павлуша, развязывая шнурок на футболке.
– У меня кость мерзнет… К тому же клещ в августе присасываетца. Так и порхат, зараза, по кустам, так и порхат! Береженого бог бережет.
Ехали невообразимо медленно. И это порожняком. А что будет, когда дрова на телегу погрузят? Павлуша несколько раз уходил по тропе далеко вперед, но всякий раз возвращался, потому что Алексей Алексеевич кричал на весь лес: «Павлу-у-уша! А-у-у!» Ну просто смех. Будто он все еще маленький, и сейчас его серый волк сцапает и к бабе-яге отнесет.
Бычок Митя передвигался в одном раз и навсегда усвоенном ритме, то есть – как черепаха. Ни бегать галопом, ни трусить рысью тварь эта не могла. Широко растопыренные, на каждой ноге по паре, копыта глубоко увязали в песке или болотной лесной жиже; на твердом грунте копыта эти напоминали прохудившуюся обувку, пополам разорванную да так и не починенную.
Наконец выбрались на делянку, где лесничеством было отведено место под заготовку дров. В разреженном лесу дрова, сложенные в небольшие, с двух сторон подпертые вбитыми кольями укладки, белели свежими торцами то тут, то там.
Неожиданно из одной еще зеленой кучи сучков-веток, отсеченных топорами при заготовке, выскочил здоровенный заяц, бурый, в русых подпалинах, и так он большими задними лапами смешно начал подкидывать из стороны в сторону свой круглый задок, удирая во все лопатки, что Павлуша улыбнулся. Отец, заметив на губах сына эту робкую улыбку, почувствовал, как сам он вспыхнул изнутри, преображаясь, и что дивный прилив сил буквально всколыхнул его, – так ему жить опять захотелось, и верить, и глазами на мир глядеть, и руками работать…
«Ничего! Оттает мальчонка. Слава богу, не все в нем одеревенело. Выдюжим. Лишь бы улыбался почаще, лишь бы доверился. А уж я… во имя этой его улыбки горы сверну!»
Дед Бутылкин появление зайца встретил по-своему, сокрушенно взмахнув кнутовищем и с завистью проводив убегающее «мясо» голодным взглядом.
– Килограмм на пять косой… Ишь копыта-те задрал, короед!
Дровишки Алексей Алексеевич нагружал один и с явным наслаждением. К штабелю никого не подпускал. Бутылкину велел только на возу полешки ровнять. Нагрузил, сколько бычку увезти и сколько Яков Иванович позволил. Сам и веревку под телегой цеплял, сам и крепил ее другим концом где-то на хвосте жердины, пронизывающей телегу, раскраснелся, помолодел. Очки на время работы снял. Прическа его аккуратная пришла в негодность. И вдруг перед глазами лицо девическое возникло… И за собой как бы зовет. Хорошо сделалось, беспечально. Алексей Алексеевич озираться начал вокруг себя: не насмеялись бы над ним окружающие! Павлуша-то вон какой серьезный да сдержанный. Загнал учитель в себя улыбку счастливую, как ему показалось – грешную, непозволительную в его положении и возрасте, спровадил ее с лица своего и вдруг новую улыбку зубами не удержал: Павлуша что придумал! Целую пригоршню, верхом наполненную отборной спелой малиной, из кустов вынес и одну половину отцу, другую Бутылкину протягивает.
– Хороша малина ноне! – вскрикивает Яков Иванович и не ест, а первым делом нюхает ягоду: долго, со свистом, глубоко вдыхая неповторимый лесной ее дух. А затем смешно задирает бороду, отъединяет от бороды усы и, широко раскрыв рот, бросает в него ягоды. Однако, захлопнув рот, не сразу принимается жевать, а лишь пару мгновений спустя, когда малина во рту сок даст.
У Павлуши опять губы затрепетали в усмешке. И птицы лесные сразу же засвистали, запели, будто на празднике. Шум по вершинам деревьев вместе с ветром промчался. Солнце сквозь щели в листьях спицы свои золотые на дно леса обронило. Светло сделалось и радостно. Пусть ненадолго, зато пронзительно. От поверхности до истоков жизни.
Назад ехали, помогая бычку в вязких, труднопроходимых местах, упирались кто в колесо, кто в березовую плашку на повозке. Потом на одной лесной поляне, выбившиеся из сил, все вместе разом упали в траву (бычок Митя тоже не удержался, подогнул ножки) и полчаса отдыхали, глядя кто в землю, кто на облака, пролетавшие над лесом.
– А что там, за облаками?
– Там, Павлуша, ничего и одновременно – все. Во всяком случае, не прогадаешь, если на небо время от времени посматривать будешь. Мы ведь неба-то и не видим почти… Глазами в землю живем. А без неба нельзя… Без ощущения беспредельности.
– Неясно. А дальше-то что? За звездами? Есть там стена… или дно какое-нибудь?
– Нет. Говорю тебе: там – бесконечность. И ничего существенного, кроме звезд…
– Не скажи, – вмешался в разговор Бутылкин, – как же так – ничего существенного? А бог? Извини-подвинься… Мы хоть и не ученые, а какие-сь книги тоже читали. Божественные.
– Книги, Яков Иванович, люди сочиняют.
– Как это – люди?! Люди обыкновенные книги пишут. А божественные – они от бога. И дураку ясно.
– Дураку-то, может, и ясно, Яков Иванович, а вот умные опровергают.
– Опровергают, говоришь?.. Делать им нечего.
– А зачем бог? – вновь смело, детски бесцеремонно задал вопрос Павлуша.
– А затем, чтобы ты улыбался почаще, понял аль нет? Чтобы людей от зла всяческого оборонять, а радостью одаривать.
– Для смирения гордыни бог придуман. А также для утешения, – поспешил вмешаться учитель.
– Слухай ты его больше. Вот ты меня малиной угостил. Кто тебя надоумил? Митя, что ли, бычок? Бог и надоумил. Для добрых дел – вот для чего.
– А кто Гитлера надоумил войну начать? – Павлуша повернулся на бок, лицом к Бутылкину, и, подперев голову рукой, вопросительно подмигнул деду.
– А энтого сам диавол надоумил, не иначе.
– Кто такой еще?
– А самый главный мазурик… Который супротив бога идет. И на плохие дела людей подбивает. Вот, скажем, куришь ты от батьки втихаря. Или без спросу чего берешь…
– А… женщин любить? Это как? Плохо или хорошо?
– Эка ты хватил, малец. Да бабу-то любить оченно непростое это дело. Тута сама природа верховодит такими вопросами.
– Значит, всех выше природа?
– Задурил ты мне голову, парень. Сбил в кучу все понятия. Одно знаю: у добрых людей – любовь, у злых – только кровь… Одна жидкость в сердце. Всего лишь…
За то время, пока Бутылкин с Павлушей философствовали, успел Алексей Алексеевич над собой в небе три кудрявых облака взглядом проводить. Очертание одного из них, мягкое, овальное, представлялось ему женским лицом в зеркале неба… И само собой пришло решение: завтра чуть свет побежит он в Кинешму с Евдокией поговорить, доказать попытается, что пятнадцать лет разницы между ними – это не океан, который вплавь не одолеть. Разве не любит он уже? Сын и тот заметил в нем перемены… И не осудил. А даже как бы одобрил.
– Слышите, – обратился он к Бутылкину с Павлушей. – Слышите, как шуршат облака?!
– Облака, говоришь? Шуршат? – приподнялся с земли Яков Иванович. – М-да-а… Это, парень, с непривычки. Перестарался ты на дровах. Вот и шуршит. Давление в башке подскочило. У меня у самого так-тось шуршит иногда. Особливо после бани. Перепарюсь, ну и шуршит, а то дак звенит аж! Однако пора нам, господа хорошие. Митя вон пообедать успел, пока мы валялись. Вон как лужок-то остриг зубами…
Возвращались хотя и голодные, но как бы просветленные, по крайней мере учителю так казалось.
Вечером за самоваром и винегретом попытался Алексей Алексеевич причину своего внеочередного похода в Кинешму Павлуше объяснить.
– У меня, Павел, не просто дела в Кинешме. Увидеть мне кое-кого необходимо…
– Евдокию?
– Как ты догадался?!
– Очень просто. По газете.
– По какой еще газете?
– А вот по этой! – протянул Павлуша отцу старенькую «Приволжскую правду», всю испещренную чернильными закорючками, рисунками, словечками. – Вот, пожалуйста. Голова женская. На кого похожа? На Евдокию. Нос и губы ее. И коса. А завитушки вот эти… Что означают? Букву «Е»? Тринадцать штук насчитал…
– Ну и что скажешь, следователь? По поводу этой буквы? Плохо, да, с моей стороны?
– Нет, почему же… Забавно.
– Нет, нет… Скорее – смешно. Пожилой, сорокалетний человек… Советский учитель. И вдруг – головки чернильные! И всякие там буковки.
– Ты ведь маму нашу любил? И Евдокию полюбишь…
– Не слишком любил. Себя любил больше.
– А потом разлюбил?
– Мама первая опомнилась. Когда другого встретила.
– Кто это может подтвердить?
– Как кто?.. Мама, естественно.
Отец потянулся с другого конца стола, взял Павлушину ладонь в свою. Попытался улыбнуться.
– Не смейся! – отдернул сын руку, словно обжегся. – Я помню маму. И голос ее помню. Такой растерянный всегда… Будто она чего-то все искала. И не могла найти. А Евдокия тоже красивая. Ты не думай, я не против. Только я помню. И не забуду… Слышишь, никогда не забуду! Поезжай к своей Евдокии. Можешь ей привет передать. Я тебя понимаю, отец…
– Ты это искренне?
– Зуб даю!
– Зачем же так страшно? – Отец даже очки снял, долго глазами моргал, головой крутил из стороны в сторону, искоренял в себе смущение перед сыном. – Понимаешь, Павлуша… Я мигом вернусь. Только проверю себя: серьезно это или так? Понимаешь?
– Да понимаю, понимаю…
– А как же вы тут без меня? Лукерья – она ведь слабенькая… Смотри не обижай ее. Оставляю тебя за хозяина. Пожару не наделайте, а главное – Негодника голодом не уморите. Из-под печки его доставайте. Его если молочком поманишь – на молочко он непременно выйдет.
– Скажи, папа… а Танька, Княжна, – это от бога или от дьявола?
Отец не удержался, смех потряс его, давая разрядку нервам, мозгу, всему существу, еще недавно напрягавшемуся в единоборстве с сыновней колючестью, бесцеремонностью.
– А про это, Павлуша, у Якова Иваныча Бутылкина спроси… – едва отдышался от смеха учитель. – Это по его части. Ну а мое мнение: от бесенка она! Не от бога и дьявола, а непременно от бесенка бедового твоя Княжна.
И вдруг отец как бы полностью очнулся. Смех с его лица осыпался до крупинки. Потускневшие было глаза через мгновение вновь засветились, но каким-то мягким, теплым светом.
– А мама твоя… Машенька… ни в чем не виновата. И прекраснее женщины я не встречал.
– Расскажи! Не темни…
– Вот вернусь, и поговорим. Одно знай: не она… сам я от нее отказался. Струсил, сбежал. Да, да! Сам и терплю одиночество.








