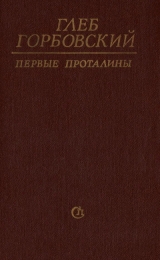
Текст книги "Первые проталины"
Автор книги: Глеб Горбовский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Глава седьмая. Кроваткино
А Павлуша тем временем уходил по зеленой пушистой тропе все глубже в лес, в тишину прохладную, доверчивую, непуганую. Свежие, бодрящие запахи листвы, живых соков древесных, почвы, незримо взрыхляемой корнями растений, волновали Павлушину плоть, делая его походку гибкой, ловкой, звериной. Зрение, слух как бы просыпались, умытые лесным воздухом, и теперь служили свою службу более рьяно, с откровенной жадностью.
Тропа, уводившая Павлушу в дебри лесные, прежде была обыкновенной проселочной дорогой, на которой скрипели колесами телеги, а зимой – отполированными полозьями – сани, дровни, розвальни… Ездили из Жилина за двадцать пять верст на далекую Александровскую бумажную фабрику, возили туда дровишки, оттуда – необходимые товары обихода: свечи, мыло, гвозди, сласти… Ездили кривоколенным, петляющим в зарослях проселком в гости на соседние хутора, в Латыши, к зажиточным прибалтам, обосновавшимся на лесных полянах еще в прошлом, дореволюционном веке; а по престольным праздникам целым обозом прибывали в село Козьмодемьянское, что сразу после деревеньки Кроваткино торчало над рекой Мерой, выпячиваясь в небо оштукатуренной аккуратной колоколенкой.
Проселок заглох, потому что необходимых товаров было теперь больше в другой стороне, а именно в Кинешме, за Волгой. И не беда, что дорога туда длиннее на пару верст и проходит она через два обширных болота и всего лишь через одну деревню Гусиху. Там от Гусихи до берега Волги ходили теперь огромные лесовозы с прицепами; в теплой кабине «студебеккера», если повезет, за зеленую трешницу можно подышать сладким городским бензинным воздухом и даже вздремнуть, не выпуская при этом из рук железной скобы-держалки, дабы не пробить головой на жутких ухабах железную крышу американского грузовика. Проселок иссяк еще и потому, что все реже и реже ездили крестьяне в гости друг к другу и все чаще в город, на фабричку ткацкую, в пролетарии наниматься, и потому все чаще и чаще стучал в тишине лесной молоток, заколачивающий окна и двери очередной покинутой хозяевами избенки.
Внезапно Павлушиных ноздрей коснулся махорочный дымок… Основной ветер проносился где-то высоко над лесом. Здесь, на тропе, у подножия деревьев, гуляли всего лишь его обрывки, отголоски. Они-то и принесли на себе мужской, табачный запашок, возвещающий о приближении человека.
Встречный выглядел несерьезно: передвигался, то ли раскачиваясь, то ли танцуя на ходу, одновременно умудряясь строгать палочку, курить козью ножку и, не размыкая зубов, что-то там непонятное, бессловесное напевать. Аккуратно подстриженный, чисто выбритый, на локтях зеленовато-серого армейского мундира – тщательно вмонтированные заплаты. Алюминиевые, пупырчатые, словно гусиной кожей покрытые пуговицы на мундире сохранились только на клапанах больших нагрудных карманов. Остальные застежки были искусно вырезаны из дерева, отдаленно напоминая собой то бабочку, то жучка, то венчик цветка. Правда, и немецкий мундир, и солдатские, нашего происхождения, галифе, и грубокожие ботинки, а также упомянутые выше деревянные скульптурки пуговиц – решительно все, и ногти рук в том числе, несло на себе едва уловимый маслянистый оттенок. Такой трудносмываемый «загар» приобретают люди, постоянно имеющие дело с механизмами, маслами, горючим. Белокуро-медовые гладкие волосы встречного рассекались давно устоявшимся пробором. Выражение лица счастливое, можно сказать – беспечное, курортное. И если бы не усталость, заштриховавшая ранними морщинками пространство вокруг глаз незнакомца, сошел бы он за послевоенного студента, за юношу. Сугубо русское, деревенской конституции устройство для курения, эта вызывающе дерзкая двухколенчатая козья ножка забавно контрастировала с нездешне интеллигентным обликом молодого человека, и, когда вдруг, при появлении на тропе Павлуши, незнакомец, поплевав на цигарку, бросил окурок себе под ноги и с необыкновенным тщанием вдавил его в землю каблуком, Павлуша моментально понял, что перед ним – немец.
Короткий, из обломка пилы, на манер сапожного сделанный ножичек поблескивал в сильных, спокойных руках незнакомца. Своим удивительно четким, осмысленным, профессионально исполненным орнаментом бросалась в глаза краснокожая вербная палочка-прутик, над которой трудился походя бывший германский солдат.
– Битте! – протянул Павлуше дрючок. – Нравится? – спросил он и как-то очень по-русски улыбнулся мальчику. И эта раздвоенность – немецкое «битте» и наше «нравится», приправленное доверительной улыбкой, – напомнила Павлуше других немцев, совсем недавних властителей, временно обосновавшихся на его, Павлушиной, русской земле. Он даже за ухо себя машинально взял, представив, как подкрадывался к нему немец-конюх с красивой фамилией Шуберт, Мартин Шуберт, которого все называли Мартыном, как заворачивал он Павлуше ухо в трубочку, да так, что кровь из того самого места, куда девушки сережки подвешивают, проступала…
Павлуша, сжав зубы, пристально посмотрел лесному немцу в глаза, чуть дольше, чем это полагалось делать в лесу, без свидетелей. Схватив красивую палочку, Павлуша яростно переломил ее о колено пополам! Переломил, не отводя глаз от немца…
– Затчем ломайт? Их не понимай… Плохой палочка? – подбросил немец остро отточенный нож так, что он трижды перевернулся в воздухе, плавно и звучно шлепнувшись на ладонь незнакомца. – Смелый мальтшик. Не боялся меня. Я феть есть фашист… Как это? Прешний… Пыфший. Могу – чик-чик! Капут махен.
– Видал я тебя… – Павлуша нерешительно вытолкнул из себя отяжелевшие слова.
– Не пойся… Я есть пленный теперь. Их бин – шофер. Натчальника на аутомашинен… би-би… фарен.
– Пленный?! – Откровенно ехидничая, Павлуша отбросил палочку в кусты. – Гитлер капут, Германия капут?!
– Я не знаю… Гитлер, – засомневался, неожиданно посерьезнев, пленный. – Может, и капут. Не жалько… Германия – нихт капут: Германия путет всегта. Германия, Дойчланд – есть не Гитлер, не Бисмарк, не Вильхельм. Германия – луди есть… А луди есть жизнь. Меня Куртом зофут. Я шофер… и немножко гулял по лес. Люблю отчень дерево. Птицы тоже…
– А ножик зачем?! Думаешь, боюсь твоего ножика? Да у меня!.. Да я плевал на всякие там ножики! На кусочки могу разорвать, ферштеешь?
– Понимай, – опять, но уже сдержанней, улыбнулся Курт. И голову шутливо склонил на грудь в подтверждение своих мирных намерений.
– Слыхал, может, – грохнуло недавно?! – сощурился на Курта Павлуша. – Моя работа.
– Затчим? Здесь так тихо, руэ так… Карашо, гут! Я шляфен, бай-бай ложиться, тоше бум-бум во сне слышу… Страш-шно. Затчим?
– Тоже мне вояка! «Страш-шно!» Небось и в плен сдался от страха?
– Я не ставалься в плен. Меня фзяли…
– Мы вас всех победили! Всю вашу Германию.
– Я есть Курт. Маленький человек. Меньшенскинд! Меня послали, меня фзяли… Я хотчу толко шить.
– Так ты что же – портной? Шнайдер?
– Найн! Я не есть портной, я шофер! И хочу – лебен, шить! Пошивать… Лес витеть, птицы. Тебя, мальтшик. Ты стесь ф лесу, наферно, не фитель войну… Тумаешь – война интересант?! Война – шайзе! Извини. Рукаюсь уше…
– Да видел я вашу войну! Не беспокойся, не маленький.
Курт запустил руку в огромный накладной карман мундира, покопался там, как в мешке, затем вытащил оттуда… птичку. Опять же – деревянную, петушка резного, не раскрашенного красками, а, видать, горячим раскаленным гвоздем гравированного. Приставил немец петушка к губам, дунул. И петушок смешно кукарекнул.
– Умеешь… – нехотя согласился Павел и вдруг, сам того не желая, улыбнулся. Облегченно, словно дух перевел.
– Хотчешь фзять? Пери! Ты отчень смелый мальтшик. Я поняль моментно! Ты нет теревня, ты корот приехал, зо, так? Такой мальтшик теревня нету.
– Смекаешь… Из Ленинграда я.
– О, Ленинграт! Крассиво, культурно. Я фитель Ленинграт через окуляры… Пинокль. Тесять километр. А ф самом короте не биль…
– Не пустили потому что.
– Не пустиль… Зо!
– А хотелось небось?
– Отшень! А стесь ты…
– А здесь я в школе живу. С отцом. Мой отец учитель, лернер. Ферштеешь?
– О, я! Панимай… Их так и тумаль, что – ителлигентен мальтшик… То свитанья тепер… Мой товарищ натчальник рукаться начинайт. Я пошель. Меня совут Курт. А тепя?
– А меня Павел.
– О, Пауль! Шейне наме! Гут!
– Петуха, значит, мне оставляешь? Подарок, что ли?
– О, та, та! Яволь! Икрай, пери.
– На кой он мне!
– Пери, не опижайся, пожалюйста.
– Вот еще! Обижаться…
– На немец – не опишайся. Так полючилось. Война финовата…
– Ладно уж оправдываться.
Павлуша беспечно дунул под хвост птичке, игрушка издала прерывистое гнусавое кукареканье. Заторопившийся Курт трусцой побежал в направлении Жилина. А Павлуша раздумывал: что ему теперь предпринять? Возвратиться домой? А ну как отец прознал о его «диверсии» на заводе? Вдруг да там в деревне переполох уже, и его, Павлушу, с собаками ищут, чтобы арестовать и в колонию заново посадить? «Нет уж! Лучше по лесу шляться… Скоро ягоды созреют. Уже зацвела земляника. Кислая травка щавель, съедобная, растет по канавам. А там и грибы пойдут. Жаль только – спичек нету. Ночью к Лукерье в избушку постучу. Она не откажет. И спичек даст, и картошки. И молочка попить. Лукерья тоже добрая, как тетя Женя, соседка…» – размышлял Павлуша, забираясь все глубже в лес и время от времени издавая молодое, тонкоголосое, на высоких нотах срывающееся кукареканье.
В небе, опушенном облаками, еще с утра появились синие проталины. К полудню оно почти совершенно очистилось от облаков. Большое майское солнце пронизывало лес насквозь, до кореньев. Даже внизу на тропе было тепло, светло и непонятно радостно. Радовались и вовсю трещали налетевшие с южных краев и заселившие лес пичуги. Радовались деревья, шелестевшие новой, еще как бы лишенной кожи, тоненькой листвой. Радовались осы, шмели, мухи и еще какие-то летающие букашечные существа. Радовалось что-то шуршащее и шмыгающее в старой прошлогодней листве и в уже перемешанной с молодыми побегами летошней траве: то ли ящерки, то ли мыши, то ли лягушки-попрыгушки. Радовались, веселились, почуяв жар солнца, свет солнца, соки солнца.
Ощутил волну этой как бы беспричинной радости и Павлуша. И его подмывало то петь, то прыгать и даже летать. И в петушка немецкого кукарекать! Надо же… Такая большая зима, а совсем еще недавно такая большая война – голодная, бродяжья, постоянно норовящая убить, искалечить, чего-то лишить, такая страшная, необъятная беда людская – и вот все-таки отхлынула, отпустила, рассосалась по закоулкам планеты… И можно отдышаться, отдохнуть от насилия, от слез неутолимых, жалоб непроизносимых, страданий неразделенных.
Павлуша не заметил, как очутился в долинке, поросшей вербным красноталом. Кусты его не тянулись сплошняком, а располагались по всей поляне как бы большими букетами. Сережки на прутиках кой-где уже отвалились, зато теперь зелеными язычками тянулись к свету листочки. Павлуша набрал в ладонь целую пригоршню пушистых, напоминающих маленьких зайчат, вербных сережек и, поднеся к лицу, потерся об их нежные шкурки.
За очередным кустом возле камня-валуна, серого, но весело поблескивающего на солнце искрами кварца, Павлуша увидел спящую на вязанке свеженарезанных прутьев девушку. Спиной она прислонилась к нагретому солнцем камню. Платок съехал к затылку, обнажив растрепанные, распущенные косы нежной, золотистой окраски. Ноги в парусиновых дешевых туфлишках и простых, не единожды штопанных бумажных чулках песочного цвета неудобно протянуты с вязанки вперед и несколько растопырены. Губы расклеены в тихой, сонной улыбке. Глаза, смеженные сном, закрыты. Мышцы лица блаженно расслаблены. Ватная стеганка распахнута, грудь под ситцевым горошком платья едва заметно пошевеливается, словно два котенка в лукошке ворочаются.
«Интересно, чего это Капка тут развалилась? – усмехнулся взбудораженный встречей Павлуша, узнавший девушку и пытавшийся заставить себя уйти прочь или, по крайней мере, глаза от спящей, беспомощной фигурки отвести. – Неужели за прутьями? Зачем они ей? Небось корзины плетет? На продажу. Полы в школе моет… Все денег мало. Наверняка жадная».
Павлуша совсем было собрался прочь идти, но Капитолина вдруг шумно вздохнула, не просыпаясь. Грудь ее отчетливо приподнялась, затем опустилась. Движение это не ускользнуло от глаз, а затем и сознания юноши. Его вдруг неизъяснимо встревожило это видение. И – повлекло неудержимо туда, за куст, под сверкающий звездами камень, о который опиралась розовая, разгоряченная сном и солнцем девочка.
«А вдруг она… с немцем тут валялась? – переполошился, отрезвел на мгновение Павлуша. – Вдруг они здесь встречаются?! Ах ты, зараза…»
Юноша не заметил, как произнес последние слова вслух, склоняясь туда, под камень. Но, зацепившись в последний момент за надломленный, висящий на отлете от остальных сучок вербы, споткнулся и, прикрыв глаза локтем руки, чтобы не уколоться о прутышки, чтобы о камень лицом не мызнуться, словно в пропасть, на девушку спящую полетел.
И вот уж действительно чудо: настолько в женском существе развита способность предугадыванья, что в какие-то считанные секунды, можно сказать полностью не проснувшись даже, Капитолина успевает оторвать себя от камня, выпрямиться и, не раздумывая ни мгновения, пуститься наутек в лесную гущеру – только икры, выпяченные под чулками, замелькали. И все это действо происходит за кратчайший миг Павлушкиного полета в сторону девушки.
Оттолкнувшись от блестящего камня, Павлуша молча припустил за девчонкой. Капитолина бежала напролом, не разбирая пути, так как была смертельно напугана. Она врывалась в кустарник, как могучая лосиха, и уже в нескольких местах оцарапала себе ножу.
Наконец Павлуша догадался назвать себя, послав ей вослед, как из автомата, целую обойму слов.
– Это я, я – Павлик! Дурочка, остановись! Нужна ты мне! Я предупредить хотел. Стой, говорю, Капка! Ты разве не слышала взрыва?! Смотри добегаешься! Ногу оторвет! – Павлуша на ходу несколько раз кукарекнул немецким петушком, надеясь завладеть вниманием девушки при его помощи. И Капитолина остановилась. Она поспешно застегнула ватник, рука ее трепетная так и осталась на последней пуговице под подбородком в ожидании чего-то необыкновенного.
– Ну, здравствуй, Капа! Ты это что же… так с тех пор и сердишься на меня?
– Нет… З а што мне сердиться на вас?
– Ну, за то самое… Что я тебя ущипнул тогда.
– А-а-а… Нет, не очень сердюсь. Испугалась я ужасть как.
– А сейчас почему бегала?
– И сейчас чуть не обмерла!
– А немца видела? Курта? Который шофером?
– Где?
– Да здесь, в лесу!
– Я немцев только в кино видела. Когда в Кинешму корзины продавать отвозила.
– А чего ты в лесу спать развалилась?
– А сморило… Прутов нарезала. Сидю, дремаю на вязанке. Олю Груздеву быдто вижу… Подружки мы с ей. Згинула, говорят… Чай, слыхали? Вот и подошла она быдто ко мне и за шею щекотит. «Пойдем, говорит, Капка, на Меру сходим, скупаемся». А мне быдто лень… Неохота. А Оля-то как закричит на меня. «Ах ты, говорит, зараза!» Да как замахнется. Ну, тута я и подхватилась. А замест Оли – вы. И по шее у меня сикляхи бегают, мураши черненькие. От страху-то я и понеслась.
– Выходит, не обижаешься на меня?
– Да господи! Ну, потрогали чуток… Нехорошо, ясное дело. Я ведь не против… Только пужать не надо. Так-то и заикой оставить недолго. А тут – экось, петушком закричали! Так и сомлела.
– Хочешь, подарю? – протянул петушка девушке.
– Ой, чудо-то какое! Неужто сами сделали?
– Еще чего! Стану я петушков разных делать. Ковыряться… Подарили.
– Рази дареное-то дарят? Себе оставьте, нехорошо дареное… – отказалась решительно.
Внешне успокоенные, в тревожном оцепенении шли они, время от времени заглядывая друг другу в глаза, шли рядышком, понимая друг друга без слов, как два зверька красивых, шли уже не по дороге, а как придется, лабиринтом лесным. Павлуша поднимал и отводил от лица девушки встречные ветки. Затем, когда замшелый, глубоко в землю закопавшийся ручеек перепрыгивали, подал Павлуша девушке руку да так и оставил, задержал в своей ладони горячие, помеченные ссадинами, цыпками, бородавками и все же ласковые пальцы.
– Ой, – вскрикнула, непритворно встревоженная. – А прутушки?! Да маманя меня на порог-от не пустит без вязанки. Куды это мы вышли?
Расступились шатровые, зелеными колокольнями уходящие ввысь могучие, седым мхом помеченные вековые ели. Разомкнули шумливое, шелестящее кольцо взявшиеся за руки длинноногие здесь, в глубине леса, березы и осины. Впереди только пушистый метровой вышины подлесок топорщился, и – свет! Огромная чаша света.
Вдали, в центре лесной поляны, под старинной чередой полусухих, корявых тополей, под рябинами разросшимися и яблонями одичавшими угадывались сморщенные серенькие избенки какой-то деревни. И странная тишина, исключающая всякое шевеление жизни, вытекала из этой чаши, через край проливаясь на слух и зрение стоявших у ее подножия молодых людей.
– Неужто Кроваткино? – ахнула Капитолина, по-старушечьи всплеснув ладонями. – Это куда жешь мы вышли? Во пустыню какую?!
Несколько в стороне от деревьев, принакрывших собой деревеньку, на конце недвижной жердины колодезного журавля шевельнула крыльями толстая, неповоротливая ворона, наверняка заметившая с верхотуры появление посторонних этому захолустью существ. Затем птица каркнула дважды и нехотя снялась со своего наблюдательного поста, плавно, изящно изгибая крылья в полете.
– Это что за пункт? – поинтересовался Павлуша. – Может, табачку в деревне стрельнем? Курить чего-то захотелось, – присочинил он, еще не привыкший к табачному зелью, рисуясь перед девчонкой.
– Да што это вы, али не знаете? Не живут после войны в Кроваткине. Недавно последняя бабушка померла. Остальные – кто в Кострому, кто в Кинешму. А бабушка эта, Килина-травница, травкой лечила. Ходили к ней сюда и с порчей, и с грыжей, и если змея укусит – прибегали. Она еще скризь видеть могла…
– Как это… видеть?
– Вот случается – на фронте мужик чей в поле убитый, погибает. Она, Килина-то, посмотрит скризь воду… Мисочка у нее была медная… Волшебная. Посмотрит и видит. Живой он али холодной уже. Возвернется в дом к своим али не ждать его вовсе. Знахарка, одним словом.
– Мура все это. Пережитки. Темнота. Еще бы – тут, в такой глуши… У нас в Ленинграде расскажи про такое – засмеют на всю жизнь.
– В Ленинграде, может, и засмеют. А у нас хорошо вспоминают бабушку. Потому что денег с людей не брала. Бесплатно лечила. И угадывала бесплатно. На пропитание какую-нибудь корочку оставляла, ежели приносили… А злые люди про нее врали, что она кошек ела. Обдерет, мол, и сварит в супе. А шкурку на варежки. Только неправда это, мама сказывала. Которым не помогла ее травка – те и злобились. А кошек она сама кормила. Похоронили ее этой весной. И что померла – не знали про то целую зиму. Сказывают, лежала как живая. Не спортилась вовсе. Правда, морозы в тую зиму страшенные были. На кладбище в Козьмодемьянское не повезли, здесь, в Кроваткине, и закопали. На ейном огороде. И быдто кошки на могилке так и живут, не сходя с места. И мертвую, когда она зиму лежала в избе, не тронули, не обгрызли. И мышам не дали.
– Пошли посмотрим! – воодушевился Павлуша. – Интересно ведь: целая деревня, и вдруг – никого. Не верится даже. Хоть кто-то да есть. Разве такое бывает, чтобы совсем никого? Населенный пункт. Название имеет. На карте района небось точечкой обозначен.
– Чего не знаю, того не знаю… Да и домой мне пора. А вы как хотите. Только не советую. Не ходят сюда наши по одному.
– А как же ты одна дорогу назад найдешь? – насторожился Павлуша, втайне надеюсь, что Капа не оставит его здесь, в этой неприятной, мертвой местности.
– Уж я-то дороги не сыщу?! Да господи! Вот, от солнца напротив – туда и пошла по ручью. В аккурат по нему к тем вербочкам и выйду, где камень блистючий. Возьму свои прутушки – да на фабричную дорогу, она там в одном шаге. От камня до Жилина три версты всего… – Отвечая на вопрос, Капитолина, по всему было видно, старалась нездешнему Павлуше помочь сориентироваться.
– А волков не боишься одна? – выпытывал парнишка, надеясь и для себя нечто утешительное от нее услышать.
– Двуногих волков боюсь… Ну, я ушла.
«Неужели сбежит? Известное дело – баба. Все они одинаковы. А была бы мальчишкой… Вон Серёньку силком надо гнать домой». И ему вдруг захотелось мгновенно переубедить ее, заинтересовать чем-то, сделать или хотя бы пообещать на словах что-то хорошее, ценное, искреннее. И вдруг будто бес копытом лягнул: «Не на колени же перед ней становиться?! Обойдется».
И тут Капа оглянулась, как бы приглашая его молча к себе, призывая не связываться с неизвестностью.
– Капа! – крикнул он, зардевшись.
– Ходите домой, – проговорила, опустив глаза.
– Еще чего, – прошептал он себе под нос, довольный, что позвала. Теперь самое время проявить себя мужчиной и не согласиться. Двинуть в неизвестное, может статься опасное.
– Ладно, бывайте, – затопталась она у входа в лес, не решаясь так сразу оборвать паутинку близости, протянувшуюся от сердца к сердцу. – В субботу мне опять у вас полы мыть… Так что до свиданьица! – крикнула она, уже невидимая, из леса, как из гулкой пещеры.
Павлушу вовсе не радовал ее уход. Он уже подумывал: не догнать ли ему девушку, как вдруг со стороны пустой деревни, отчетливый, истерически-визгливый, вспыхнул и долго не потухал собачий лай.
«Выходит, никакая не мертвая, не пустая… Живет кто то в деревне! – обрадовался и одновременно испугался догадки. – Насочиняла Капка. Небось напугать меня хотела. А потом и посмеяться: мол, струсил городской… Теперь-то уж обязательно схожу в деревню, узнаю, что да как».
Давно не езженная тележная колея вывела Павлушу на бугорок, на макушке которого торчали деревья, уже с первого взгляда отличавшиеся от деревьев лесных. То были деревья домашние, взращенные человеком, и не походили они на своих диких собратьев так же, как домашние животные на зверей. Приземистый, широкоплечий дуб, под которым не росла трава и где прежде собиралась молодежь, звучали частушки, стучали каблуки, дробившие суглинок в залихватской пляске, – дуб этот неувядающий вновь обрядился в молодые листочки. Еще полуживые дуплистые ивы, скрюченные, скорченные стволы которых проедены дождями и огнем, пробиты местами ударом молнии – насквозь, навылет. Да пара заматеревших, дремучих лип. Да стройный, словно в футляре выросший, клен. И вдруг – раскудрявая, еще прозрачная, с незагустевшей кружевной кроной рябинушка. А под ней, на поросшей жилистым подорожником тропе – настоящая шавка, дворняга с загнутым кочережкой хвостом и прошлогодним репьем на серой, цвета солдатской шинели, взъерошенной шерсти.
Собака минуту-другую молчала, пружинисто припадая на передние лапы, и вдруг, подняв вертикально столбиком морду, на кончике которой поблескивала влажная черная кожица, начала скулить, затем выть и яростно лаять. А над собачьей головой, там, в молодой пушистой листве стародавней рябины, как птица в клетке, сидел на разлапистом сучке черный кот. И, приоткрыв розовую, растянутую ромбом пасть, пугал собачонку гнусавой, занудной трелью.
Павлуша решил не связываться с неполадившими животными, перешел на другую сторону деревенской улицы, однако собачка, хоть и была крайне занята, все же заприметила парнишку; поджав хвост и раскачивая задом, на полусогнутых лапах покатилась под ноги человеку, всем своим видом и поведением убеждая того в намерениях мирных, не вздорных. Павлуша похлопал себя по колену ладонью. Собачка и вовсе на задние лапы встала, целоваться полезла. Ничего дикого, мрачного, звериного в замашках песика не наблюдалось. Обыкновенный уличный кабысдох.
– Ну что, Бобик? Одичал? Или не совсем? Жевать небось хочешь по-прежнему? Извини. Пусто у меня в карманах. У самого в животе кошки скребут.
Избы в Кроваткине располагались не по обе стороны дороги, а лишь по одну, и этак по дуге, полукольцом. Как древнее городище. Короткая, еще не вошедшая в рост пушистая травка запорошила улицу. И эту шелковистую травку, и круглые блинки молодого лопуха, угловатые, с мягкой, байковой изнанкой листья мать-мачехи – всех обогнала молодецкая крапива, устремляясь в своем естественном порыве ввысь и вширь, обступая теперь избы не только с огородных задов, но и спереди, пробиваясь на свет прямо из щелей дощатых завалинок, на которых обычно сидят старики и старухи.
Окна первой от края избы заколочены, словно перечеркнуты, каждое двумя нетесаными ольховыми дровинами. Стекла местами выбиты. Черная немота за ними недвижна. Следующая изба оказалась заколоченной несколько аккуратнее: окна ее были зашиты настоящими досками, наглухо, так, что и стекла в избе, вероятнее всего, уцелели. Перед покосившимися, но плотно запертыми воротами этого дома стоял… велосипед. С твердыми надутыми шинами. На рулевой колонке – бирка пензенского завода.
«Ну, Капка, зараза! Чего насочиняла… Пустыня! Да здесь на велосипедах ездят…»
Павлуша засобирался идти прочь, встречаться ему ни с кем не хотелось, как вдруг собачка, топтавшаяся позади него, с размаху уперлась лапами в калитку, на которой негромко звякнуло ржавое железное колечко. Натужно заскрипев, дверь калитки отошла внутрь. Собачка проскользнула во двор. За те несколько мгновений, когда в калитку протискивалась собачка, успел Павлуша многое разглядеть в глубине двора. Зеленый рюкзак, стоявший прямо на земле, вернее – на мелком чистом булыжнике, которым был замощен двор, и пару ступенек, ведущих на крыльцо дома, и дверь, настежь распахнутую, различил. А главное: человеческую фигуру в фуражке с зеленым кантом заприметил. Человек стоял спиной к воротам, но, когда заскрипела калитка, мгновенно обернулся, встретившись взглядом с Павлушей. В руках дядьки мелькнула какая-то непонятная вещь: то ли книга, то ли картинка небольшого размера, темная, но с каким-то цветным изображением.
Калитка захлопнулась и минуты две не открывалась. Затем тот же мужчина, но уже с пустыми руками, в сгорбленном состоянии выбрался из приземистого отверстия калитки, как бы врезанной в плоскость ворот, и медленно распрямился перед Павлушей, оказавшись высоким и неожиданно недеревенским, потому как носил под козырьком фуражки круглые в рыжей, чешуйчатой, похожей на червячную кожу оправе очки.
– Вы кто?! – испуганно и вместе с тем задиристо выскочило у Павлуши.
– Видишь ли, паренек. – Мужчина не торопясь обхватил огромной ладонью свой клинообразный, острый подбородок, напоминавший только что извлеченный из земли, поросший редкими ниточками волос корнеплод. – Если я скажу, что перед тобой Чарли Чаплин, ты ведь не успокоишься…
– Мне говорили, что в этой деревне никого нет.
– Совершенно верно говорили.
– А как же… вы?
– А я проездом. В должности лесной состою. И по обыкновению чай в этой деревеньке пью.
– С вами серьезно, а вы… Чарли Чаплин!
– А я не хочу серьезно. Надоело, понимаешь? С кем ни повстречайся, обязательно сразу серьезно себя веди… На собрании – серьезным сиди. К начальству тебя вытребуют – в кабинете непременно серьезно себя веди. На улице, в очереди тоже не улыбнись, иначе за дурака примут. Может, и беды-то все оттого, что слишком серьезен человек, угрюм слишком, вечно брови ему сводить необходимо, улыбнуться лишний раз на людях нельзя, не смей…
– Вы лесник?
– Да. Такие вот в сказках лешие, как я… Похоже? А зовут меня дядя Федя. Чаю хочешь, Витек?
– Хочу! – рассмеялся парнишка и смело протянул дяде Феде руку. – А я Павел!
Павлуша сам не заметил, когда ему дядька этот нескучный, с глазами, полными улыбки, нравиться начал. Некрасивый, даже страшненький, лицо необычное, вытянутое, нос как рюха городошная, на остром подбородке не борода, а какие-то водоросли. И еще эти очки под фуражкой – как корове седло… А голос приятный, хотя и простуженный, сиплый. Добрый голос. Веришь такому голосу.
– Тогда пойдем в избу.
На дворе рядом с крыльцом, покосившаяся, со следами синей облезшей краски, стояла собачья конура. Из нее выглядывала собачья морда, поваленная на пучок старой, полуистлевшей соломы.
– Кучум! – позвал мужик. Пес очнулся. Приоткрыл один глаз. – Отдыхаешь? Валяй… А мы чайком побалуемся и – по коням.
– Вы что – купили этот дом? – Павлуша растерянно озирался, поднимаясь на усыпанное прошлогодними листьями, давно не подметавшееся крыльцо.
– Здесь Килина жила. Бабушка такая известная… необычная. Мы с ней дружили. Лет двадцать подряд. С перерывом на войну. Чаем она меня угощала всякий раз. А в прошлую зиму умерла она тут. Вернее – замерзла. В крещенские морозы. Занедужила небось, а протопить некому. В марте я на совещание пробирался, в Кинешму. Заглянул, как всегда, погреться, чайку глотнуть… Водки-то я не пью. Ну и… обнаружил. Теперь она под яблоней лежит. Во-он под той, которая розовым цветом цветет, – указал дядя Федя длинным, как дуло от парабеллума, пальцем.
– У нее что же… и родственников никаких не осталось?
– Родственники, ежели во всесоюзный розыск подать, может, где и обнаружатся. А вот которые родные, самые близкие люди, таких у нее уже нету. Всех пережила. За девять десятков ей было. Со счету сбилась. А голова ясная на плечах. Глаза так и светились, будто оконушки ночные… А над моими очками потешалась: «Чего это ты, Федя, рамы-те зимни до холодов поставил?»
– Она что, колдунья была? В какую-то мисочку смотрела…
– Килина больных пользовала. Врать не буду. Шли к ней. Да она одними взорами на тебя посмотрит, ласковыми да успокаивающими, – ни один укол так не утешит, не поспособствует в страданиях. Вот именно, что пользу она людям приносила, потому и шли. Колдовство ее добрым было. Ну и травы знала наперечет – какая от чего. Тут уж она – гомеопат натуральный. А то, что без диплома… Так в жизни мало ли красоты, чудес разных мало ли, которые сами по себе, без официального подтверждения. На доброе сердце бумажку не выдашь. На право ношения оного.
Когда вошли в темное помещение, сразу же сеновалом пахнуло: столько разных трав, сучков-стебельков по углам да по стенам торчало-лохматилось. У кухонного окошка, которое во двор выходило и незаколоченным оставалось, стоял крепкий еще стол, накрытый старенькой, вросшей в столешницу клеенкой с не различимым уже узором. На столе было чисто. И еще на столе стоял самовар. Живой, горячий, попахивающий дымком.
Из остальных, заколоченных, окон в щели дома просачивался острыми лучами напористый майский свет. В глубине избы, приглядевшись, можно было различить большую деревянную кровать, накрытую цветастым лоскутным одеялом, горку подушек в ситцевых наволочках. На кухне много посуды по занавешенным полкам. Из-под печки целый набор кочережек, ухватов, сковородников торчит. И помело: печку после нагрева под хлебы заметать.








